О государстве
Профессор Бурдьё. Академические лекции 1990-х годов
 10 304
10 304 
© Marta Nascimento/REA, via AlterEcoPlus
От редакции: Благодарим издательский дом «Дело» РАНХиГС за предоставленную возможность публикации фрагмента русского перевода сборника лекций Пьера Бурдьё «О государстве», прочитанных в Коллеж де Франс в 1989–1992 годах.
Лекция 5 декабря 1991 года
Программа социальной истории политических идей и государства. — Интерес к незаинтересованности. — Юристы и универсальное. — (Ложная) проблема Французской революции. — Государство и нация. — Государство как «гражданская религия». — Национальность и гражданство: противоположность французской модели и немецкой. — Борьба интересов и борьба с участием бессознательного в политическом споре.
Программа социальной истории политических идей и государства
Сегодня я хотел бы вкратце повторить то, что пытался представить в последний раз, и дать вам нечто вроде обзорного описания процесса построения нации послереволюционного периода. Я обрисовал постепенный подъем профессиональных служащих, то есть культурного капитала как условия доступа к власти и как инструмента воспроизводства власти. По сути, постепенно складывается не что иное, как социальное пространство того типа, что нам известно сегодня и чья структура опирается на два больших принципа: экономический принцип и культурный. Иначе говоря, благодаря возвышению служащих возвышается и культурный капитал как инструмент дифференциации и воспроизводства. В прошлый раз я упоминал о борьбе между служащими и указал на то, что значительная часть юридических продуктов, как и культурных, может и должна пониматься в соотнесении с пространством производителей этих представлений. Я указал, как формировалось юридическое поле, что привело к дифференциации пространства позиций, которому соответствует пространство поддерживаемых мнений. Я хотел также показать, как на основе самого юридического поля постепенно стало формироваться бюрократическое пространство. Я вкратце упомянул пересечения между религиозным полем, бюрократическим и собственно юридическим. Наконец, я мимоходом указал на то, что для понимания этого процесса создания представлений, элементом которых является государство, необходимо учитывать рождающееся литературное поле, которое, по крайней мере в абсолютистский период и, несомненно, впоследствии, в частности при посредстве философов, участвовало в процессе выработки этих представлений.
Я предположил, что для понимания этого процесса изобретений, итогом которого является государство и в котором определенную роль играет изобретение теорий государства, нужно или хотелось бы — это скорее программа [исследования], а не констатация — описать и тщательнейшим образом проанализировать различные качества производителей и соотнести их с качествами продуктов. Я также указал вам на то, что эти теории государства, которые преподают, следуя логике истории идей, и которые некоторые современные историки берутся изучать как нечто независимое и самостоятельное, не соотнося их с социальными условиями их производства, связаны с социальной реальностью двумя способами, а потому нет никакого смысла изучать эти идеи так, словно бы они свалились с некоего интеллигибельного неба, то есть безо всякой отсылки к агентам, их производящим, и, главное, к условиям, в которых эти агенты их производят, или, в частности, к конкурентным отношениям, в которых эти агенты находятся. То есть идеи связаны с социальным с этой стороны, и в то же время они играют роль несомненного детерминирующего фактора, поскольку вносят вклад в построение тех социальных реалий, которые нам известны. Сегодня [мы наблюдаем] некое возвращение к наиболее «первобытным» формам истории идей, то есть к своего рода идеалистической истории идей, подобной, например, религиозной истории религии. При таком методологическом регрессе часто сохраняется отношение между идеями и институтами, но забывают, что эти идеи сами рождаются в борьбе внутри институтов и что понять их в полной мере можно только в том случае, если видеть в них одновременно продукт социальных условий и производителей социальных реалий, строителей социальной реальности.
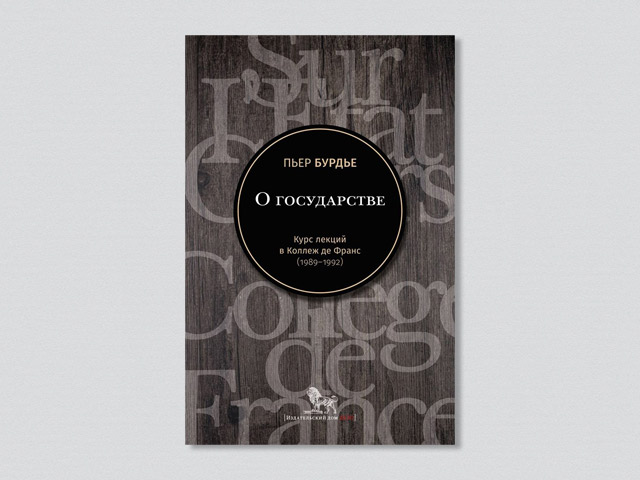
Иначе говоря, история философии, как ей занимался бы социолог, отличается от истории политической философии, как ею обычно занимаются. [Взять пример] такого вот смешного трактата, который вышел во Франции, под авторством Франсуа Шателе, Оливье Дюамеля и Эвелин Пизье, которая сегодня занимает важную должность [1]: это, с моей точки зрения, совершенно невообразимое сочинение, в котором политические идеи трактуются так, словно бы они были продуктом своего рода теоретического партеногенеза, словно бы теоретические идеи рождались от других теоретических идей и сами заводили себе маленькие теоретические идеи… В действительности социальной историей политической философии и философии в целом нужно заниматься не так: история философии по рекомендованному мной рецепту уже существует, но пока на ранних этапах [2]. То же самое относится к праву: философия и право — две дисциплины, которые сохранили монополию на свою собственную историю и которые по этой причине занимаются внутренней историей, то есть историей без агентов. Тогда как [социальная] история политической философии — та, что учитывает пространство, внутри которого производятся политические идеи, вместе со всем тем, о чем я говорил, то есть, с одной стороны, вместе с определенными конфликтами короля и парламента, с борьбой между парламентариями, борьбой между различными секторами юридическо-бюрократического поля и, с другой стороны, вместе с той историей политической философии, которая включается просто в историю. Одна из трагедий истории как науки, которой занимаются [в наши дни], состоит в том, что она согласилась с разделением дисциплин и позволила отрезать от себя историю наук, историю техники и историю права. Знаменитая школа «Анналов», которая претендует на интеграцию [этих аспектов], в действительности ничего такого не делает: она фактически соглашается с этим разделением, поскольку история наук является обособленной специальностью, гораздо больше, кстати говоря, занятой эпистемологией, то есть претенциозными размышлениями о практике науки, чем собственно историей наук.
То, что я говорю здесь, имеет программный характер, но это довольно важная программа, поскольку речь должна идти об истории философии, истории права, истории наук, в которых идеи изучались бы как социальные конструкции, способные обладать определенной независимостью от социальных условий, продуктом которых они являются — я этого не отрицаю, — но при этом способные вступать в отношение с историческими условиями, причем не так, как говорят историки идей, не за счет влияния: они вступают в игру на гораздо более сильных правах. Вот почему уступка, которую я сделал истории идей, была ненастоящей — ничего особенного я ей не уступаю, — поскольку идеи вступают в игру в качестве собственно инструментов построения реальности. У них есть материальная функция: все, что я говорил на этих лекциях, опирается на мысль о том, что идеи делают вещи, что идеи создают реальность, так что мировоззрение, точка зрения, номос, все эти вещи, которые я упоминал сто раз, участвуют в построении реальности, а потому даже самые чистые, самые абстрактные виды борьбы, которые могут развертываться внутри религиозного, юридического и т.д. поля, всегда в конечном счете соотносятся с реальностью, как в своем истоке, так и в своих последствиях, которые очень даже действенны. И я думаю, что невозможно заниматься историей государства, если соотносить государство в той форме, в какой мы его знаем, с экономическими условиями, в которых оно функционирует, как того требует определенная разновидность марксистской традиции.
Все это, следовательно, нужно для того, чтобы сказать, что мои наброски, программу, мной намеченную, еще только предстоит исполнить и для этого потребуется история другого типа. […] Я уже сто раз говорил: историки из всех ученых самые нерефлексивные, и они очень редко применяют к самим себе историческую науку, которой могут овладеть; история такого типа интересна еще и тем, что [она означала бы необходимость] написать рефлексивную историю, историю нашего собственного мышления. То, что я называю «габитусом», — это своего рода «историческое трансцендентальное»: наши «категории восприятия», если говорить словами Канта, исторически сконструированы, и очевидно, что заниматься историей генезиса государственных структур — значит заниматься историей нашего собственного мышления, то есть реальной историей наших собственных мыслительных инструментов, нашей собственной мысли. Иначе говоря, это означает, по моему мнению, действительную реализацию одной из бесспорных программ философской традиции… Я сожалею о том, что не могу представить вам эту программу. Быть может, она будет осуществлена, но она поистине огромна: намного проще рассуждать об априорных категориях, у которых действительно выявляются все признаки априори, но лишь по причине забвения генезиса, что является одним из эффектов обучения чему бы то ни было. Успешное обучение — это обучение, которое заставляет о себе забыть. Вот в каком-то смысле философия, если можно так сказать, описывающая то, как я работал с генезисом государства, и это первый вывод из моих исследований.
Интерес к незаинтересованности [3]
Второй вывод: эти теории государства, которые вносят вклад в построение государства и, следовательно, в реальность того государства, которое нам известно, являются продуктами социальных агентов, расположенных в социальном пространстве. Как я уже неоднократно указывал на предыдущих лекциях, носители мантии, юристы — это люди, которые заинтересованы в государстве и которые, чтобы добиться победы своих интересов, должны добиться победы государства: они заинтересованы в публичном и универсальном. Мысль о том, что определенные социальные категории заинтересованы в универсальном, — это материализм, который нисколько не умаляет универсальное. Я думаю, что любой ценой желать того, чтобы чистые вещи были продуктом чистых актов, — это своего рода идеалистическая наивность. Если мы занимаемся социологией, мы начинаем понимать, что принципом самых чистых вещей могут быть совершенно нечистые влечения. Наиболее яркий пример являет собой наука, в которой совершенно очевидно то, что ученые, которых либо прославляют, либо списывают со счетов, — такие же люди, как и все, что они вступили в игру, вступить в которую сложно, причем эта сложность все время увеличивается; и даже в этой игре они вынуждены играть по правилам, являющимся правилами незаинтересованности, объективности, нейтральности и т.д. [4]. Иначе говоря, чтобы выразить свои влечения, — то, что Кант называл «патологическим субъектом», — они должны их сублимировать. Научное поле, юридическое или религиозное поле — это место сублимации, с определенной цензурой: «Не геометр да не войдет» [5]. […] Я показал это на примере Хайдеггера [6]: ему надо было высказать какие-то нацистские мысли, но он мог выразить их лишь в том случае, если они казались чем-то иным; впрочем, он думал, что они не нацистские, и взялся за Канта…
Логика чистых универсумов, этих чистых игр — это своего рода алхимия, которая создает чистое из нечистого, незаинтересованное из интереса, поскольку есть люди, у которых есть интерес к незаинтересованному: ученый — это тот, кто заинтересован в незаинтересованности. С точки зрения исследователя, который всегда ищет то или иное основание, можно даже подумать, что, имея дело с самыми бескорыстными из действий, всеми теми вещами, которые неизменно прославляются, гуманитарными акциями, всегда можно поставить вопрос: какой у этого человека интерес делать все это? Почему он это делает? Я уже упоминал несколько лет назад проблему salos [безумца] — очень странного персонажа, которого изучал мой друг Жильбер Дагрон [7], героя, который в Византии X века выступал против любых моральных норм, бросая своего рода этический вызов фарисейству в этике. Опасаясь того, что он получит выгоду, состоящую в респектабельности, почтенности, достоинстве, — то есть все те типичные выгоды фарисейства, которые многие интеллектуалы присваивают ежедневно, — он поставил себя в невозможное положение, делал ужасные вещи, вел себя, как свинья, и т.п. Именно этот своеобразный парадокс чистоты в нечистоте весьма наглядно поднимает вопрос: делает ли он добро? Какое благо он извлекает из того факта, что делает добро? Не существует ли порочного способа утверждать свою непреклонность, чистоту, свое благородство и достоинство, например, в своего рода показном ригоризме?
Вот вопросы, которые являются вопросами историческими и социологическими. Это не обязательно приводит к цинизму; на самом деле в результате можно себе сказать, что в основе самых добрых дел не обязательно лежит ангельская природа. Социальная наука учит своего рода реализму… Я считаю, что намного спокойнее, когда люди делают хорошие вещи, потому что они вынуждены, думаю, что это намного спокойнее. Собственно, Кант говорил, что, возможно, никогда не было ни одного нравственного поступка: он хорошо понимал, что, если силы, на которые мы можем рассчитывать в нравственных поступках, мы должны черпать исключительно в самих себе, мы далеко не уйдем. Это подразумевается в анализе, мной проведенном, это своего рода реалистическая философия идеала, философия, которая, быть может, является единственным реалистическим способом защиты идеала, и это никакой не цинизм: чтобы был возможен идеал, необходимо, чтобы были выполнены условия, допускающие наличие у многих людей интереса к идеалу. Из этого вытекают определенные следствия [в плане] политических стратегий, например, если мы хотим, чтобы в партиях не было коррупции… Я не буду это дальше развивать, этого достаточно, чтобы вы поняли, какая философия стоит за моим анализом [8].
Юристы и универсальное
Итак, эти юристы продвигают универсальное: они изобрели ряд социальных форм и представлений, специально заданных в качестве универсальных. Я хотел показать, что у них были разные интересы к универсальному, и в [в силу этого] они создали этот универсум — юридический универсум, в котором, чтобы добиться победы, нужно было апеллировать к универсальному. То есть нужно было уметь показать, что одни тезисы или предложения универсализировать проще других, — [это соответствует] кантовским критериям, — то есть что они меньше зависели от частных интересов: «Я говорю это потому, что это хорошо для всех людей, а не только для меня». Естественно, тот, кто так говорит, тут же подвергается марксистской критике: «А не является ли твоя речь идеологической?»; «Не довольствуешься ли ты тем, что обобщаешь свою частную заинтересованность?» Профессионалы универсального — это виртуозы искусства универсализации своих частных интересов: они производят универсальное и одновременно стратегии универсализации, то есть они умеют виртуозно имитировать универсальное и выдавать свои частные интересы за всеобщие… Вот и проблема: мы не можем ограничиваться такими [четко разделенными позициями]. Социальный мир […] — это мир, в котором очень сложно мыслить по-манихейски, и именно поэтому очень мало хороших социологов: социология требует мышления, которое редко встретишь в обыденной жизни, нестихийного мышления…
Итак, эти юристы заинтересованы в публичном. Например, как многие отмечали, задолго до Революции 1789 года они начинают бороться за то, чтобы признали их прерогативу, то есть их культурный капитал. Они связывают эту прерогативу, которая также и привилегия, с идеей государственной службы, с идеей гражданской добродетели. Наконец, борясь за переворачивание иерархии чинов, за то, чтобы дворяне мантии стали важнее дворян шпаги, они проводят идеи, связанные с юридической компетенцией, идею универсального: это люди, у которых есть частный интерес к общественному интересу. Этот вопрос можно поставить в очень общих категориях… Очевидно, я лишь поставлю этот вопрос, но думаю, что порой полезно просто поставить вопрос, даже если не знаешь, как на него полностью ответить; и я ставлю его по поводу одного конкретного случая, но думаю, что нужно было бы поставить вопрос об интересе к публичному в его наиболее общей форме. Как в дифференцированном обществе распределяется интерес к публичному? Например, кто больше заинтересован в публичном — богатые или бедные? Существует ли значимое статистическое отношение между интересом к общему интересу и позицией в социальном пространстве? Есть и мистические решения этого вопроса: пролетариат как всеобщий класс — один из ответов на такой вопрос; наиболее обездоленные, наиболее угнетенные и всего лишенные заинтересованы в универсальном. И, как всегда у Маркса, это почти так… Я говорю «почти так», поскольку [это было если не опровергнуто, то, по крайней мере, скорректировано] работами ряда экономистов, которые много занимались публичными интересами, тем, что такое публичный интерес, спецификой общественных благ и специфической логикой их потребления.
(Один из этих экономистов, Джеймс Бьюкенен, в статье, которая показалась мне очень яркой, о клубах, об интересе к функционированию в форме клуба [9], пишет: «Оптимальный размер клуба для произвольного количества благ стремится к уменьшению по мере того, как реальный доход индивида увеличивается». Иначе говоря, чем более высокие у вас доходы, тем больше вы заинтересованы в ограниченных клубах: «Клубы [демонстрирующие публичный характер (publicness), когда доходы низки, стремятся] стать частными по мере того, как доходы увеличиваются» [10]. [Бьюкенен] в качестве примера берет кооперативы и показывает, что чаще они встречаются среди групп с низким доходом, чем среди групп с высоким доходом, при прочих равных условиях. Иначе говоря, то, что было общественным <public>, стремится стать частным: общественного мы держимся только тогда, когда не можем иначе… Есть и более старая статья Сэмюэльсона в журнале Economics and Statistics за 1954 год по теории общественных благ [11]. В этой статье можно найти начало ответа на вопрос, который я поставил в наиболее общей форме. Можно было бы сказать, что индивидуализм, о котором сегодня много говорят, усиливается вместе с ростом дохода и, наоборот, что солидарность стремится к росту с понижением дохода, то есть когда растет бедность. Это просто гипотеза: ассоциации бедных — это вынужденные ассоциации людей, которые более других расположены к ассоциации, у которых более ассоциативный габитус, поскольку в период взросления и после него они, чтобы выжить, должны ассоциироваться. То есть можно подумать, что применение ассоциации стремится сойти на нет, как только от нее можно избавиться, то есть когда появляются средства без нее обойтись, — что не означает, что это линейное развитие: существуют ассоциации бедных, но существуют также и ассоциации богатых. […] Ассоциации богатых, то есть избирательные ассоциации, вроде клубов, независимы, это ассоциации людей, которые преумножают свой капитал, объединяясь с людьми, у которых есть капитал, то есть они не детерминированы нуждой. В работах, проведенных мной, когда писалась книга «Различение», я смог заметить, что созданием клубов, этих предприятий по созданию коллективно контролируемого социального и символического капитала, управляют почти что рационально: нужны свадебные генералы, нужно провести большую работу по отбору, выбору членов [12], — совсем не та логика [что в случае обычных ассоциаций]… Это я просто отмечаю в скобках, чтобы вы помнили о проблеме. Вернусь к Французской революции.)
(Ложная) проблема Французской революции
Французская революция… Я очень боюсь использовать такие термины. Я не хочу покончить с Французской революцией за четверть часа (примерно столько времени я ей уделю), я просто хочу сказать, что в той логике, которой я придерживался до сего момента, можно поставить ряд вопросов касательно Французской революции, на которые я могу, как мне кажется, ответить за четверть часа… Один из вопросов как раз в том, каким именно образом этот длительный процесс, про который я говорил, выражается во Французской революции. И как вписать ее в этот процесс? Я уже сказал, что, по моему мнению, Французская революция вполне вписывается в этот длительный процесс. Несомненно, она отмечает собой определенный порог, но уж точно не разрыв: она является одним из этапов процесса утверждения, этого возвышения профессиональных служащих, носителей мантии, и она, по сути, отмечает собой триумф носителей мантии. Иначе говоря, она является скорее завершением длительного процесса, который начинается в XII веке, чем абсолютным началом… Скажем, по крайней мере, что она представляет собой как завершение, так и начало. Это дворянство мантии, которое задолго до революции разработало новое представление о государстве, то есть создало целый универсум понятий — таких как понятие республики, — станет господствующей категорией, государственной знатью, создав территориальное государство и единую нацию. Иначе говоря, ее триумф — это триумф современного государства, то есть национального государства. Таким образом, эта государственная знать одновременно создает новый институт и присваивает себе квазимонополию на специфические прибыли, с ним связанные.
На прошлой неделе я упоминал Дени Рише, который говорил о фискальном капитализме, существовавшем в XVIII веке: он показал, как государство по мере своего развития порождало новый вид капитала, специфический государственный капитал, одновременно материальный и символический, функционирующий в качестве метакапитала, то есть своеобразной власти над другими видами капитала; это капитал, который дает власть над другими видами капитала, включая экономический. В то же время этот публичный капитал, капитал общего интереса или публичная власть, — это инструмент социальной борьбы и при этом главная ставка различных видов социальной борьбы. «Послереволюционное» государство — и здесь я, если бы мог, поставил бы кавычки вокруг всех слов, которые говорю, — является местом определенной борьбы, одновременно инструментом и ставкой непрерывной борьбы за присвоение специфических прибылей, которые оно дает, то есть, в частности, за перераспределение этого метакапитала, в нем сосредоточенного. Много говорили об экономическом капитале и перераспределении экономических прибылей, например в форме заработной платы и т.п., но [надо также проанализировать] перераспределение символического капитала в форме кредита, доверия, авторитета и т.д.
Все споры о Французской революции как революции буржуазной — это ложные споры. Я думаю, что проблемы, поднятые Марксом по поводу государства, Французской революции и революции 1848 года, — это все катастрофические проблемы, которые были навязаны всем, кто думает о государстве, причем в любой стране: японцы спрашивают себя, действительно ли у них была Французская революция; англичане говорят: «Нет, у нас ее не было, это просто невозможно». Во всех странах люди говорят себе: «Но если у нас не было Французской революции, значит, мы не современны…» Марксистская проблематика была навязана и марксистскому универсуму, и за его пределами как проблематика абсолютная, и все революции стали мерить аршином революции французской, что сопровождалось совершенно невероятным этноцентризмом. Я хочу сказать, что, по моему мнению, эти проблемы можно устранить, по крайней мере, я в этом убежден, поэтому и говорю вам, но это не значит, что нет других вопросов, кроме тех, что я пытаюсь поставить. Я думаю, однако, что марксистские сюжеты заслонили вопрос, который я хочу сформулировать, — вопрос о том, не поставили ли себя основатели современного государства в такое положение, в котором они могли гарантировать себе монополию, не монополизировали ли они ту монополию, которую создавали.
Макс Вебер говорит, что государство — это монополия на легитимное насилие. Я же поправляю его так: это монополия на легитимное физическое и символическое насилие. Борьба за государство — это борьба за монополию над этой монополией, и я думаю, что основатели современного государства поставили себя в положение, в котором у них были все шансы выиграть в этой борьбе за монополию, о чем свидетельствует сохранение того, что я называю государственной знатью. Я опубликовал книгу «Государственная знать» в 1989 году, чтобы показать, что Французская революция в самом главном вопросе ничего не изменила… Монополизация юридического капитала и культурного капитала при посредстве доступа к государственному капиталу как разновидности культурного капитала обеспечила закрепление господствующей группы, власть которой опирается в значительной степени на культурный капитал, — отсюда значение всех исследований, показывающих отношение между распределением культурного капитала и позицией в социальном пространстве. Все исследования образования на самом деле представляют собой исследования государства и его воспроизводства. Я не буду развивать здесь далее эту тему, я развил ее в прошлом году, и здесь я просто в какой-то мере возвращаюсь к предшествующим выкладкам.
Государство и нация
Тем не менее эти носители мантии, непосредственно заинтересованные в создании государства, заставили государство двигаться в сторону универсальности: если вспомнить приведенное мной противопоставление, династический принцип был заменен юридическим, причем как нельзя более грубым и решительным образом: его попросту казнили на гильотине… О смерти короля было много споров: возможно, физическая смерть короля стала символическим разрывом, необходимым, чтобы утвердить необратимость установления принципа юридического типа, противоположного принципу династическому. [Юристы] своей собственной борьбой, обусловленной их интересами, произвели — о чем говорили сто раз — национальное государство, государство, унифицированное вопреки наличию регионов и провинций, но также вопреки разделению классов: они провели работу по унификации, которая является одновременно «трансрегиональной» и «трансклассовой», то есть, если можно так сказать, «транссоциальной». Здесь я хочу вкратце описать три наиболее важных достижения: появление понятия государства, нации в современном смысле слова — я объясню, что это значит; затем рождение «публичного пространства» — я говорю «публичное пространство», следуя всем этим вербальным автоматизмам, но мне очень не нравится это выражение и то, что пришлось так сказать, — [то есть появление] обособленного политического поля, легитимного политического поля; наконец, генезис понятия гражданина как противоположности понятия подданного. (Эту лекцию мне, несомненно, прочитать сложнее всего, поскольку здесь мы постоянно касаемся тривиальных вещей, которые всеми повторялись по сотне раз, и на каждом слове возникает впечатление, что все это уже видели и слышали, хотя стараешься сказать нечто совершенно другое, не будучи в этом уверен… Я рассказываю вам о собственных психологических состояниях, чтобы вы понимали мои колебания.)
[Юристы] создают национальное государство; вкратце можно сказать так: они создают государство, которому поручают создать нацию. Я думаю, что [этот момент] совершенно оригинален; я вскоре сравню его с немецкой ситуацией. Немецкая модель очень интересна, поскольку это романтическая модель (тогда как французская модель более характерна для XVIII века): сначала есть язык, нация, Гердер [13], а потом государство, и государство выражает нацию. Французские революционеры ничем таким не занимаются: они создают универсальное государство, и это государство создаст нацию за счет образования, армии и т.д. Есть одно высказывание Тальена, которое можно было бы вынести в эпиграф: «Единственные иностранцы во Франции — это плохие граждане» [14]. Это очень хорошая формулировка, типично французская политико-юридическая максима: гражданином является всякий, кто соответствует определению хорошего гражданина, то есть всякий, кто универсален; следовательно, у каждого человека есть права человека, и все — граждане. Это юридическо-политическое, универсалистское представление, очевидно, соответствует компетенции и одновременно интересам юристов, это мысль юриста… но нужно прояснить аналогию. Я не раз упоминал книгу Бенедикта Андерсона «Воображаемые сообщества» [15] — важную книгу, в которой сообщества, нации описываются как воображаемые сущности, созданные коллективной работой ряда агентов, среди которых писатели, лингвисты, специалисты по грамматике. Иначе говоря, нации в значительной части представляют собой творение интеллектуалов, которые — и это я говорю от себя — заинтересованы в нации. Интеллектуалы тесно связаны со всем тем, что касается культурного капитала; тогда как культурный капитал тем больше национален, чем больше он связан с национальным языком, и тем больше интернационален, чем более он независим от национального языка — юристы и преподаватели французского более национальны, чем математики или физики.
Итак, у интеллектуалов есть своя заинтересованность в национальном культурном капитале, более или менее выраженная в зависимости от их специальности, и в то же время у них гораздо больше, чем можно было подумать, национальных и националистических интересов. […] Например, украинский национализм, о котором сегодня много говорят,— это дело специалистов по грамматике: часто это мелкие интеллектуалы, которых Макс Вебер называл «интеллектуалами-пролетариями», не слишком признанные центральными инстанциями империи или нации, интеллектуалы, которые ради того, чтобы извлечь доход из своего небольшого, но специфического капитала, который должен стать национальным, — всякие филологи, авторы словарей, фольклористы и т.д. утверждают долженствование социальной сущности, полностью отвечающей их интересам и оправдывающей их существование… Очень приятно узнать, что в национальных ссорах всегда есть что-то от ссор филологов… Я был просто ошеломлен, когда, прочитав эту книгу, начал замечать это повсюду: ситуация такова в гораздо большей степени, чем я мог раньше подумать.
Воображаемые сообщества — это продукт определенного конструирования: достаточно взять эту тему и присоединить ее к другой, к которой я обращался много раз в начале этого года, чтобы получить корректную в целом теорию нации. Я неоднократно подчеркивал идею номоса, принципов ви́дения и разделения [социального мира] — идею, согласно которой государство покоится на ряде предпосылок касательно способа построения социальной реальности. Государство в пределах своей территории способно универсализировать эти категории восприятия. Согласно этой логике нация — это совокупность людей, у которых одни и те же категории восприятия государства и которые, поскольку они получили одну и ту же прививку от государства, то есть от обязательного образования, располагают [общими] принципами ви́дения и разделения ряда фундаментальных, достаточно близких проблем. Так что понятие «национального характера», являвшееся очень модным в XIX веке, на самом деле представляется просто ратификацией национальных стереотипов и предрассудков: оно призвано зачистить все теоретическое пространство, то есть это слегка сублимированная форма расизма. При всем при этом оно указывает на нечто бесспорно существующее, на имеющийся в головах продукт работы по прививке общих категорий восприятия и оценки — работы, осуществляющейся за счет бесчисленных видов воздействия, но прежде всего за счет образования, школьных учебников, в частности по истории. Я недавно говорил о великих строителях нации; [во Франции] государство создает нацию: оно создает образование. Например, Третья республика — это республика Лависса [16], учебников по истории и т.д.
Государство как «гражданская религия»
То есть государство — это центр того, что называли «гражданской религией» [17]. Один американский социолог, Роберт Белла [18], говорил об этом в связи с церемониалом, которым пропитана американская жизнь, — всеми этими религиозными, этико-политико-гражданскими ритуалами […]. Проводится определенная работа по производству гражданской предрасположенности за счет гражданской религии, церемоний, годовщин, празднований и, естественно, истории, которая играет определяющую роль.
Здесь я хотел бы также очень вкратце пересказать очень важную книгу одного крупного специалиста по нацизму Джорджа Мосса. Мосс — один из тех немецких эмигрантов, которые всю жизнь задавались вопросом о том, как мог возникнуть нацизм, и он предложил ряд первостепенных идей, важных для понимания массовых нацистских движений. В [«Кризисе немецкой идеологии»] он ставит вопрос о кризисе немецкой идеологии и об интеллектуальных корнях Третьего рейха, анализируя то, что сам он называет процессом «национализации масс», то есть то, как из масс делают нацию [19]. Он выдвигает парадоксальный, на первый взгляд, тезис, который я считаю совершенно обоснованным: нацизм, с точки зрения этого функционирования гражданской религии, является всего лишь пределом демократий, поскольку он довел до крайности ту работу по насаждению однородных коллективных представлений, которая проводится и в демократических обществах. Он подчеркивает то, что еще с наполеоновских времен национально-буржуазные идеи порождали публичное воображаемое; а вместе с Первой мировой войной возник новый политический порядок, основанный на национальной ауторепрезентации, опосредованной «литургией гражданской религии» [20]. Говоря проще, нации даны самим себе в качестве зрелища, они дают себе жизнь, объективируясь в зрелище, в котором они представляют самих себя самим себе. В эту литургию власти как раз и внедряется нацизм с его специфическими чертами; [Мосс] показывает, в чем эта литургия власти родственна иррационализму массовой политики, которая нацелена на практическое утверждение своего рода руссоистской общей воли. По сути, нацизм, по мнению Мосса, является детищем Руссо (это очень парадоксально, и он сам не говорит об этом такими именно словами. Мне жаль, ведь мне не следовало так говорить, но высказать эти вещи очень сложно, и на них понадобилось бы очень много времени…)
Мосс хочет сказать, что эту мифическую общую волю, существующую только на бумаге и ставшую проблемой для всех комментаторов Руссо, можно в каком-то смысле сделать вполне осязаемой за счет грандиозных демонстраций коллективного единодушия. [Общая воля] демонстрируется таким образом в коллективной эмоции. Эмоция — это как раз причина и одновременно следствие демонстрации, то есть это продукт демонстрации, который предполагает коллективную работу по построению. Часто эмоциональное, аффективное единство не распространяется за пределы небольших сект, малых групп, но такое социальное построение эмоционального единства может выполняться и на уровне всего народа, а не только малых групп. Эту работу нацизм довел до крайности, до предела. Можно сказать, что он представляет собой доведение до предела тенденций, которые наличествуют и в определенном типе демократического церемониала. Нация — это воображаемое воплощение народа, национальная ауторепрезентация, и эта ауторепрезентация покоится на демонстрации того общего, что есть у народа, языка, истории, пейзажа и т.п. Наконец, фашистское государство, по словам Мосса, — это государство-зрелище, которое эстетизирует политику и политизирует эстетику за счет своего рода гражданской религии, которая стремится освободиться от власти времени, используя доиндустриальные, вечные символы. В своем тексте Мосс несколько перегибает палку, описывая завершение процесса, который начался с Французской революции, но его заслугой является демонстрация того, что определенный тип коллективного построения нации уже включает в себя экстремальные возможности, которые мы обычно относим к другому пространству…
Итак, первый пункт: создавая государство, [юристы] создали не нацию, но социальные условия производства нации. Здесь стоило бы вернуться (о чем я уже говорил) ко всей этой работе по созданию и консолидации нации, в которой важную роль сыграли республиканские историки XIX века — Огюстен Тьерри, Жюль Мишле, Эрнест Лависс. Также следовало бы вспомнить о роли образования и армии… Второй пункт, к которому я теперь перейду, — это парламент, построение легитимной политики — чтобы затем сразу заняться третьим моментом, проблемой гражданина, так что мое изложение сегодня приобретет определенную связность; в следующий раз я вернусь назад.
Национальность и гражданство: противоположность французской модели и немецкой
Вы знаете, что сегодня много спорят о гражданстве и эмиграции: вопрос именно в том, у кого есть право на статус гражданина… Если совсем вкратце — здесь я опять же выскажусь поверхностно и программно, но я хотел бы, по крайней мере, донести до вас проблему, чтобы в следующий раз я мог двинуться дальше, — в разговорах о построении современного государства упоминалась так называемая территориализация правила. Под этим понималось то, что на основе несколько утопической конструкции юридического государства — не правового государства, как сейчас говорят, а юридического государства — на основе этого юридического представления о чисто юридическом государстве поставили задачу построить в рамках определенной территории юридическое пространство, являющееся в каком-то смысле воплощением права. Этому строительству сопутствовало изобретение понятия гражданина, поскольку гражданин является той юридической единицей, которая существует, поддерживая с государством правовые отношения и выполняя определенные обязательства. По сути, гражданин — это тот, кто состоит в юридических отношениях с государством, у кого есть обязанности по отношению к государству и кто вправе потребовать от государства отчета. Например, история Welfare State, часто описывающаяся как своего рода разрыв [с гражданскими правами], с моей точки зрения, является их логичным развитием… И в этом случае именно Маркс, противопоставлявший права человека и права гражданина, внедрил в наше сознание идею разрыва. Тогда как идея Welfare State содержалась уже в понятии гражданина: Welfare State — это государство, которое дает гражданину то, на что у него есть право, то есть не только гражданские права, но и права человека, право на труд, право на здоровье, право на безопасность и т.д. То есть гражданин определяется правами, и здесь мы обнаруживаем юридический мотив Французской революции: национальность во французском смысле этого термина не синонимична гражданству; она может определяться этнокультурными категориями, владением определенным языком, национальной культурой, историей и т.д. Все то, что в немецкой романтической традиции относится к национальности, не является гражданством. Гражданин определяется исключительно юридически: нация как этнокультурное качество, которое может определяться легально, отличается от того гражданства, которое записано во [французской] Конституции. Я уже приводил цитату из Тальена, которая очень типична для этого определения: в пределе гражданин — это тот, кто признается таковым Конституцией; и о нем больше нечего сказать, он не обязан иметь конкретные качества, связанные, к примеру, с кровью (jus sanguinis).
Такое абстрактное гражданство должно воплощаться благодаря политической работе: например, языковое единство не является условием государственного единства, оно является продуктом последнего… Я в некотором затруднении, поскольку получается, что я постоянно использую оппозицию Франции и Германии, которую пока еще не сформулировал [в явном виде]: в случае Франции государство создает нацию, то есть все граждане нации X должны говорить на языке X; следовательно, нужно поставить их в положение, в котором они ему научатся. В немецкой модели сама нация выражается в государстве, так что все немецкоязычные люди оказываются гражданами Германии: все те, у кого одни и те же этнические, языковые, культурные качества, оказываются гражданами Германии, что объясняет многие вещи, связанные с проблемами воссоединения [21]. [Во французской модели] задается политическая единица: это юридически-территориальная единица, территория, образованная в качестве таковой определенной правовой формулировкой, это юрисдикция, на которой действует такая-то Конституция, а гражданин — это тот, кто относится к этой юрисдикции. Он может говорить на региональных языках, у него могут быть разные культурные традиции, обычаи, но задача государства — создать такое единство посредством работы по прививанию, нацеленной, к примеру, на формирование языкового единства. Наконец, философия политического, предлагаемая революционерами, — это философия универсалистская, следовательно, ассимиляционистская: она является универсалистской, поскольку мыслится в качестве универсалистской и в силу этого факта она не может предложить любому человеку, кем бы он ни был, ничего, кроме его ассимиляции. Она относится к нему как к человеку, то есть наделяет его тем, чем наделяет каждого человека, обеспечивает его достоинством гражданина, под которым подразумевается французский гражданин; наконец, чтобы были выполнены условия осуществления этого права гражданина, нужно предоставить гражданам реальные средства, которые могут быть культурными (единство языка) или экономическими.
Немецкий путь совершенно другой: я опишу его совсем кратко, займусь своего рода дилетантской философией истории. Если английская модель родилась у юристов XVI века, французская — у космополитических философов XVIII века, тогда можно сказать, что немецкая модель появилась у романтических мыслителей XIX века, а затем была скорректирована прусскими реформаторами, — все это, конечно, сильно упрощенно, но так можно сориентироваться. Французская модель — просвещенческая: космополитизм, рационализм, универсализм, абстрактный и формальный универсализм; в этом случае Маркс прав, это действительно философия ассимиляции, понимаемой в качестве универсализации, то есть отождествления всякого человека — отождествления априорного и, если возможно, апостериорного — с этим универсальным гражданином, коим является гражданин французский. Тогда как немецкий путь связан с XIX веком, с романтизмом; следовало бы выделить все его моменты, тему нации, темноты, глубины, Kultur против Zivilisation и т.д. С этой точки зрения, нация — это индивидуальность с историческими корнями, развивавшаяся органически, объединенная благодаря Volksgeist, то есть общему народному духу, который отличает ее от других наций и выражается в языке, обычае, культуре и государстве. Государство, очевидно, может все это юридически ратифицировать, но оно является скорее выражением, продуктом, а не производителем. Конечно, это противоположность в ее крайнем виде, но я закончу на этом пункте и вернусь к проблеме иммигрантов, чтобы сказать пару слов.
Можно было бы заново поставить всю проблему [отношений нации и гражданства], отправляясь от указанной противоположности. На практике французы и немцы относятся к иммигрантам примерно одинаково, то есть одинаково плохо, но в теории они относятся к ним по-разному; и чтобы понять эту разницу, я думаю, небесполезно обратиться к государственной философии двух этих традиций. Универсалистская и космополитическая, французская политико-юридическая трактовка, берущая начало в XVIII веке, ведет к jus soli [праву земли]: государство — это территория, то есть юрисдикция определенного закона. То есть это сообщество на территориальной основе: чтобы стать гражданином, достаточно родиться на этой земле; это автоматическая натурализация, соответствующая ассимиляционистской логике, в которой государство должно создавать нацию за счет работы по интеграции и т.д. Что касается Германии, государство в этом случае отсылает к романтической философии XIX века, к духу народа и т.д., это концепция, которую можно назвать этнокультурной или же этнолингвокультурной, и она ведет к jus sanguinis [праву крови]. [Гражданство в таком случае] связано с наследственностью, с кровью, с передачей как «естественной», так и исторической. То есть это сообщество на языковой и культурной основе: у немецкоязычных людей призвание стать немцами, тогда как иностранцы, рожденные в Германии, — не немцы; нет автоматической интеграции и ассимиляции. Говоря конкретно, на основе двух этих философий государства мы получаем две совершенно разные политики иммиграции: пусть даже реальное отношение похоже — к туркам относятся примерно так же, как к алжирцам, — есть существенное различие на уровне теории.
Борьба интересов и борьба с участием бессознательного в политическом споре
Весь этот спор осложняется тем, что в обоих случаях у интеллектуалов, которые говорят обо всем этом, есть vested interests, то есть скрытый интерес ко всем этим вещам: у них есть заинтересованность как у поэтов, музыкантов, юристов или философов. Важно связать то, что я говорил в начале [этой лекции], с тем, что я говорю сейчас, чтобы понять, в какой мере дифференциальная социология высказываемых мнений, соотносимых с позициями, способна прояснить положение дел. Как только кто-то начинает вам говорить об этих проблемах, обязательно спросите себя: почему ему важно сказать мне то, что он говорит? Как говорили после 1968 года: откуда он говорит? В совершенно точном смысле: чей это дискурс — преподавателя математики, преподавателя права? Это дискурс интеллектуала первого поколения или третьего? Когда я говорю «интерес», я всегда поясняю, что это не интерес в смысле утилитаристов, не непосредственная материальная выгода; речь о намного более сложных интересах, вроде тех, что я упоминал в прошлый раз, когда говорил вам: иметь интерес — значит быть в деле. Например, это означает, что, если ты чиновник или сын чиновника, этот факт уже склоняет тебя, даже если ты об этом не знаешь, к поддержке публичного, в каком-то смысле на бессознательном уровне.
Чтобы связать то, что я говорил вначале, с тем, чем хочу завершить сегодня, скажу, что эти чрезвычайно запутанные и вязкие споры, в которые люди вкладывают свои предельные ценности, проясняются (они стали бы намного яснее, если бы я развил эту тему, но я взял перед собой обязательство закончить на следующей неделе, а потому должен обрисовать вам общую картину всех этих вещей, которые я мог бы развить, будь у меня больше времени), [если помнить] о том, что нужно иметь в виду всю социальную историю проблематики, по которой мы занимаем позицию: нужно понимать, что есть английская история государства, французская, американская, немецкая, что есть логики, общие этим историям, иначе теория генезиса государства (связанного с ролью юристов и т.д.) была бы невозможной. При всем при этом есть различные философии, особенно в период, начавшийся с Французской революции. Первый момент: эти философии расходятся. Второй: по заданным таким образом, то есть по исторически заданным проблемам, мы занимаем позиции в зависимости от тех позиций, которые мы занимаем по отношению к этим проблемам в пространстве, в котором они производятся, в пространстве, где они обсуждаются. Крайняя запутанность и ожесточенность споров по этим проблемам обусловлены тем, что все это случаи столкновения разных людей с разным бессознательным: люди не знают, что говорят, когда говорят об этих проблемах. Я попытался [сделать нечто] весьма сложное, поскольку в каждый момент у меня возникают отвергаемые мной ассоциации, которые я хотел бы высказать, чтобы рассеять недоразумения и не допускать упрощений, ведь в случае этих проблем никакая осторожность не будет лишней. К сожалению, логика политического спора не имеет ничего общего с логикой спора научного. И мы далеки от момента, когда можно будет заставить политиков заинтересоваться добродетелью…
Примечания
↑1. Châtelet F., Duhamel O., Pisier-Kouchner É. Dictionnaire des œuvres politiques. P.: PUF, 1986. В 1989 году Эвелин Пизье была назначена руководителем департамента книги Министерства культуры.
↑2. Bourdieu P. Les sciences sociales et la philosophie // Actes de la recherche en sciences sociales. 1983. P. 47–48. P. 45–52.
↑3. Тема всего этого раздела связана с работой Бурдье «Возможен ли незаинтересованный акт: Bourdieu P. Un acte désintéressé est-il possible? См. также постскриптум к «Правилам искусства»: Idem. Pour un corporatisme de l’universel / Règles de l’art. P. 459–472.
↑4. Бурдье П. Поле науки // Социология под вопросом. Социальные науки в постструктуралистской перспективе. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской академии наук. М.: Праксис; Институт экспериментальной социологии, 2005. С. 15–56. П. Бурдье вернется к этому вопросу в своем последнем курсе в Коллеж де Франс в 2000–2001 годах, который будет опубликован под заглавием «Наука о науке и рефлексивность»: Bourdieu P. Science de la science et réflexivité. P.: Raisons d’agir, 2001.
↑5. По преданию, такая надпись была сделана над воротами платоновской Академии.
↑6. Бурдье П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера / Пер. с фр. А.Т. Бикбова. М.: Праксис, 2003.
↑7. Dagron G. L’homme sans honneur, ou le saint scandaleux // Annales HSS. 1990. No. 4. P. 929–939. В православной церкви salos означает «во Христе юродивого», то есть аскета, который добровольно усваивает повадки и язык сумасшедшего, чтобы добиться аскетического совершенства.
↑8. См.: Bourdieu P. Un fondement paradoxal de la morale // Raisons pratiques. P. 237–243.
↑9. Buchanan J.M. An economic theory of clubs // Economica. 1965. Vol. 32. P. 1–14. Этот американский экономист получил в 1986 году Нобелевскую премию по экономике за свои работы по «теории общественного выбора», в которой развивается критика государственного вмешательства, связываемая с государственными агентами.
↑10. Ibid. Note 9.
↑11. Samuelson P. The pure theory of public expenditure // The Review of Economics and Statistics. 1954. Vol. 36. No. 4. P. 387–389.
↑12. Bourdieu P. La Distinction. P. 182.
↑13. Философ и поэт Иоганн Готфрид Гердер, считающийся вдохновителем романтического движения «Sturm und Drang», является также автором определения нации, основанной на почве и общем языке.
↑14. Высказывание журналиста и парламентария Жана-Ламбера Тальена передается, скорее, так: «Я не скажу […], что во Франции нет других иностранцев, кроме плохих граждан» (заседание 27 марта 1795 года Национального собрания, дебаты опубликованы в: Le Moniteur universel. No. 190. 30 mars 1795.
↑15. Андерсон Б. Указ. соч.
↑16. По школьным учебникам историка Эрнеста Лависса (Ernest Lavisse, 1842–1922), среди которых и знаменитый «Малый Лависс» для начальной школы, учились несколько поколений школьников, которым они прививали патриотический и гражданский дух, воспетый республиканцами.
↑17. «О гражданской религии» — это название восьмой главы четвертой книги работы Жана-Жака Руссо «Об общественном договоре».
↑18. П. Бурдье, несомненно, имеет в виду работу Роберта Беллы «Нарушенный договор: американская гражданская религия в период испытаний»: Bellah R.N. The Broken Covenant. American Civil Religion in Time of Trial. N.Y.: Seabury Press, 1975.
↑19. Mosse G.L. The Crisis of German Ideology. Intellectual Origins of the Third Reich. N.Y.: Grosset & Dunlap, 1964 (французский перевод: Idem. Les Racines intellectuelles du Troisième Reich / C. Darmon (trad.). P.: Calmann-Lévy, 2006. См. также: Mosse G.L. The Nationalization of the Masses: Political Symbolism and Mass Movements in Germany from the Napoleonic Wars through the Third Reich. Ithaca, L.: Cornell University Press, 1975.
↑20. Об этом см.: Mosse G.L. Les Racines intellectuelles du Troisième Reich. Особенно предисловие 1964 года (P. 7–13) и главу 2 «Германская вера» («La foi germanique». P. 50–72).
↑21. Имеется в виду воссоединение Германии, объявленное 3 октября 1990 года.
Источник: Бурдье П. О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992) / [Ред.-сост. П. Шампань, Р. Ленуар, Ф. Пупо, М.-К. Ривьер]; пер. с фр. Д. Кралечкина и И. Кушнарёвой; предисл. А. Бикбова. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. С. 615–640.




Комментарии