Ольга Чумичева
Иконические перформансы Ивана Грозного: трансформация идеи царской власти
Тираническая власть пытается заглянуть всем в душу, но заглядывает ли она хотя бы иногда в зеркало собственной души?
 4 620
4 620 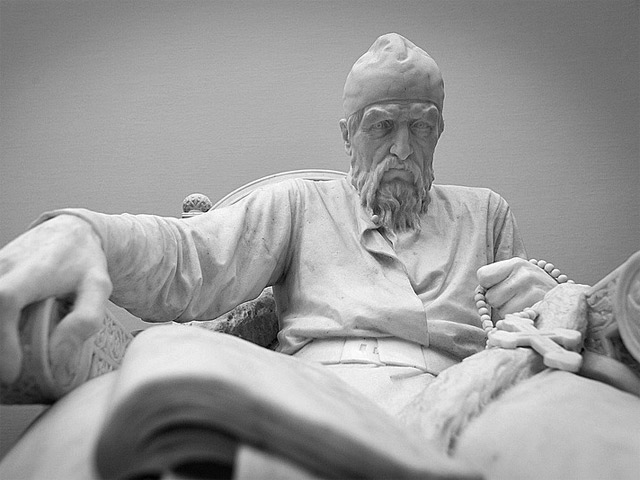
© flickr.com/photos/jimmyg
Существуют объекты исследования, к которым обращаются настолько часто, что возникает ощущение совершенной исчерпанности темы, а простой перечень существующей литературы занимает не одну страницу. Однако это еще не означает, что все аспекты проблемы действительно изучены. Напротив, на стадии накопления огромного материала возникают новые, принципиальные вопросы, которые не могли быть поставлены ранее. Такой неизученной проблемой является публичное поведение царя Ивана IV, которое, как ни странно, никогда не было предметом полноценного, разностороннего исследования.
Проблема заключается в принципиальном различии подходов со стороны разных дисциплин. Историки рассматривают социально-политические особенности эпохи Ивана Грозного, опираясь на широкий комплекс традиционных письменных источников (летописи, делопроизводственные документы, записки очевидцев, послания и др.). Филологи анализируют в основном нарративные памятники с целью понять специфику политического сознания, культурные стереотипы и особенности так называемого «антиповедения» Ивана IV; при этом акцент делается на маргинальных чертах в политике царя и поиске их причин, отчасти на изучении образов Московского царства. Историки искусства, искусствоведы исследуют конкретные памятники изобразительного искусства и архитектуры в их соотношении с политическими событиями, ставят вопрос о символических, прежде всего визуальных образах царской власти.
Однако публичное поведение Ивана Грозного может и должно стать предметом самостоятельного исследования, причем — на всем протяжении его царствования, без резкого противопоставления «традиционного» и «маргинального», с использованием источников разных типов, но с главным фокусом на том, какой смысл содержался в последовательности «иконических перформансов», созданных царем, а на ранних порах и митрополитом Макарием, и обращенных как к «своим» подданным, так и к представителям «внешнего, иноземного и иноверного мира».
Поскольку термин «иконический перформанс» не является общепринятым, прежде чем переходить к конкретному анализу материала, необходимо уточнить содержание понятия, сказать, почему оно является ключевым и необходимым для изучения темы. Под иконическим перформансом [1] мы подразумеваем исторический феномен, отвечающий следующим критериям:
— прежде всего, это не спонтанный, а репрезентативный жест, предполагающий наличие аудитории, публичность;
— это действие, в котором не существует полного разделения и противопоставления «актеров» и «зрителей», что является характерной чертой любой средневековой драмы или «действа»;
— это действие, имеющее четкие политические и/или социальные цели;
— это действие, организованное согласно законам любого перформанса: целенаправленно избранное место действия, «декорации» — сознательно избранное архитектурное или интерьерное окружение или даже объекты, выстроенные для конкретной акции; очевидно продуманный «сценарий» или план действия, рассчитанный на определенных зрителей и участников, производящий определенный, заданный визуальный, сценический эффект;
— это действие с ясным религиозно-символическим значением, взаимосвязанным с социально-политическими целями и задачами, в котором «сценарий» и визуальные эффекты основаны на литературных или исторических прототипах и/или вызывают вполне определенные богословские и символические аллюзии.
Иконический перформанс не является «мираклем» или «мистерией», так как разыгрывается «всерьез»: в нем участвуют не актеры, а ключевые политические фигуры — светские и духовные. Это действо на грани ритуала и церемонии, но занимающее особое место в череде повседневных или часто повторяющихся чинопоследований. Иконические перформансы интерпретируют политические акции и поступки правителя как глобальные, знаковые события сакрального рода, подчеркивая связь земной, преходящей истории с высшим бытием и конечными судьбами страны, Церкви и мировой историей. Это моменты соединения земной и сакральной истории, образующие сложную, многоуровневую реальность, в которой существовал человек средневековья и раннего Нового времени. Категорическое условие иконического перформанса — его узнаваемость, «понятность» для зрителей и участников. Не случайно внешние наблюдатели (иностранцы) зачастую подробнее описывали такие действа, поскольку те были для них загадочны, а значит, вызывали недоумение и интерес, требовали пошаговой фиксации деталей, в то время как «целевая аудитория» воспринимала действа как нечто ясное по существу.
Хотелось бы подчеркнуть, что термин «иконический перформанс» — это не синоним интуитивно понятного, но довольно расплывчатого выражения «театр власти» или «политический театр власти», которое часто употребляется в историографии — в основном, применительно к западноевропейскому материалу [2]. «Иконический перформанс» — термин, применимый к универсальному и специфичному феномену репрезентации власти, характерному для разных культур и исторических эпох. Но в данном случае рассмотрим его на одном примере — «новгородском походе» Ивана IV 1570 года, представляющем собой выразительный и довольно подробно описанный в источниках и литературе образец иконического перформанса, одного из многих в годы царствования Ивана Грозного.
К концу 1560-х — началу 1570-х годов уверенность царя в своей миссии Судии, фактического главы Церкви и защитника веры абсолютно сформировалась. Причем Суд оставался категорией сакральной, поиском высшей Правды, а не банально-прагматическим процессом. Такое соединение предтеатра (публичного зрелища) и предправа изучено еще на материале античности. Причем «аудиторией» Суда служил весь город [3]. Христианская культура изменила содержание политического символизма, внесла новые образы, сакральное понимание суда земного как преддверия Высшего Суда. Царь уподоблялся Богу как Судии. В византийской традиции эта идея нашла отражение в Толковой Псалтыри [4]. Убежденный в том, что сам он предстанет на Страшном Суде с ответом не только за свои грехи, но и за грехи своих подданных, совершенные по его неосмотрительности, — «Аз же убо верую, о всех своих согрешениих вольных и невольных суд прияти ми, яко рабу, и не токмо о своих, но и о подовластных дати ми ответ, аще что моим несмотрением погрешится» [5], — Иван Грозный считал своей миссией вершить над всеми сословиями суд, который должен быть преддверием Господнего Суда.
Разгром Новгорода и сопредельных земель был предопределен тремя событиями середины — второй половины 1569 года: летом была заключена Люблинская уния, объединившая Польшу и Литву и сильно затруднившая ведение Ливонской войны; осенью последовало «изборское дело» — об измене служилых людей Изборска в пользу Литвы, а затем «дело Владимира Андреевича Старицкого», когда Иван Грозный уничтожил не только своего двоюродного брата, но и почти всю его семью, также по обвинению в измене и якобы существовавшем намерении захватить престол [6]. Возможно, дополнительным стимулом для Ивана IV послужил переворот в Швеции: летом 1569 года Эрик XIV был свергнут с престола, который занял его брат Юхан III [7]. Известно, что Иван IV поддерживал постоянные контакты с Эриком и вел переговоры о женитьбе на Катерине Ягеллонке, законной жене Юхана, которая могла в перспективе принести супругу польский трон (впоследствии именно ее сын от Юхана III стал польским королем) [8]. Все это крайне обострило обстановку: с одной стороны, необходимо было искать мира с Польшей и Литвой, заново устанавливать отношения со Швецией, с другой — царю необходимо было продемонстрировать соседям — а заодно и подданным — свою силу, «страх Господень», который для него являлся основой порядка мироздания.
О начале похода рассказывают очевидцы — И. Таубе и Э. Крузе. 20 декабря 1569 года Иван Васильевич внезапно собрал в Александровской слободе опричное войско, а также всех слуг, способных носить оружие, и объявил, «будто бы город Новгород и все епископы, монастыри и население решили предаться его королевскому величеству королю Польскому» [9]. Никаких свидетельств о заговоре не было. Более того: суть «измены» в источниках представляется исследователям невнятной, прежде всего потому, что главный акцент делается на духовенстве, которое, по словам царя, и стоит в центре некоего злодейского умысла. Поход начинается в обстановке полной секретности, о нем запрещено упоминать, а вперед посылаются заставы, которые должны перехватить любых путников, которые могли бы опередить войско на пути в Новгород и сообщить о происходящем [10].
По пути опричное войско перебило семьи псковичей, переселенных в село Медня под Тверью и в Торжок в связи с «изборским делом» осени 1569 года. В Твери и Торжке были также казнены литовские пленные [11]. В Твери, в Отрочем монастыре, находился в заключении изгнанный с престола митрополит Филипп. Сам царь с ним не встречался, к узнику отправился Малюта Скуратов [12]. И тут в источниках возникает первое разногласие. По версии А.М. Курбского, царь хотел получить от Филиппа благословение на новгородский поход, а в ответ на возмущение бывшего митрополита Скуратов задушил святителя, не давая ему говорить [13]. И. Таубе и Э. Крузе заявляют, что убийство Филиппа было задумано царем изначально; однако в их рассказе есть явно недостоверные детали, например, приказ царя Малюте Скуратову выбросить тело митрополита в Волгу [14]. «Житие Филиппа» в Тулуповской редакции утверждает, что убийство Филиппа было инициативой самого Малюты Скуратова, но повторяет рассказ о том, что опричник прибыл к опальному митрополиту с просьбой благословить царя на «праведный суд» в Великом Новгороде, а Филипп стал громко обличать его «неистовство» [15]. Впрочем, житийный текст, написанный через 20 лет после смерти святителя, очищает царя от ответственности за гибель митрополита, в то время как И. Таубе и Э. Крузе прямо указывают на его волю. Поскольку физическое устранение изгнанника не имело особого смысла в данный момент, а непосредственной целью удара должен был стать новгородский архиепископ Пимен, принимавший активное участие в осуждении Филиппа, версия о попытке использовать вражду иерархов и заранее получить некое отпущение грехов представляется далеко не абсурдной. Однако отказ Филиппа ничего не изменил в планах царя. Значит, такое «благословение» было если и желательным, но не критичным. С другой стороны, формальное благословение царь мог получить и от любого из «опричных духовников».
В Твери были разорены несколько монастырей и архиепископский дом, затем пограблен посад, после чего войско двинулось к Новгороду [16]. Передовые отряды подошли к городу 2 января и сразу же опечатали казну монастырей и церковных приходов города, арестовали несколько сотен игуменов, соборных старцев и священников, «кабы ни один человек из града не убежал» [17].
Иван Васильевич подошел к Новгороду 6 января и встал лагерем на Городище [18] — традиционном издревле «княжеском месте» рядом с городом. Суд и расправа над новгородцами Ивана IV, без сомнения, вызывает ассоциации с другим аналогичным действом: судом над новгородцами его деда, Ивана Васильевича III, также объявлявшего главной причиной похода намерение новгородцев «отступити за латиньского короля» и принять архиепископа, поставленного Литовским митрополитом Григорием. История того суда была прекрасно известна царю, но характер событий резко различался. Иван III стал лагерем дальше от Новгорода, в Коростыне, и обратился к рядовым новгородцам с призывом нести ему свои горести и печали, по существу используя жалобы как повод для ареста и вывоза из Новгорода бояр и крупных купцов [19]. Несмотря на несколько казней в Старой Руссе и других местах, он представал судьей милостивым («утоли гнев свой и показа к ним милость свою»), ищущим Правду, словно старавшимся напомнить традиционную иконографию Спаса в силах со словами «Придите ко мне, все тружающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Иван IV пришел с другим судом.
На следующий день после того, как царь начал «праведный суд» над Новгородом и первыми «призвал к ответу» духовенство, 7 января, произошло еще одно знаменательное событие, составившее часть общего иконического перформанса, но оставшееся вне рамок традиционных описаний новгородского разгрома. Это издевательство над шведским посланником Павлом Юстеном и его спутниками. На протяжении сентября — декабря 1569 года посланцев нового шведского короля Юхана III не допускали в Москву, держали в Новгороде под замком, за специально выстроенным частоколом, что само по себе не являлось исключением из правил [20].
7 января Павла Юстена и его спутников вызвали к царю как будто бы в соответствии с русским посольским обычаем: послов доставили в повозках к резиденции наместника, якобы на обед; по всему пути стоял вооруженный эскорт. Затем послов торжественно приветствовали, поздравляя с прибытием. Эти нарочитые поздравления Юстен впоследствии оценивал как «коварные любезности» [21].
В доме наместника встречавшие гостей опричники не только не надели положенные по чину посольского приема парадные одежды, но «были совсем наги», что, естественно, шокировало послов [22]. Вооруженная охрана провела шведских посланников в зал к наместнику. Однако говорить шведскому толмачу не дали, грубо прервав его. Собравшиеся стали кричать на послов, а затем силой выгнали их из дома.
Оскорбленные дипломаты тронулись в обратный путь, но их тут же настигли и приказали вернуться. Угрозами и побоями шведов загнали в один из домов (не к наместнику), обыскали, отобрали все ценности и парадную одежду. Потом их выкинули вон, нескольких посланников привязали к одному коню, и всадник заставил их бежать следом, «и каждый раз, когда он поворачивал коня, нам приходилось делать такой же поворот», — сообщает Юстен [23].
Вся сцена происходила на глазах у толпы. Послов притащили в их резиденцию, но там все было разбросано: вещи дипломатов, королевские подарки царю. Посланников и их свиту раздели донага, подвергли унижениям и насмешкам. Сундуки с имуществом забрали, а через три дня вернули пустыми. До 10 января шведов держали в маленьком доме, на хлебе и воде, а потом объявили, что это была месть за ограбление русских послов в Стокгольме сразу после прихода к власти Юхана. Затем их под конвоем отправили в Москву [24].
Анализируя историю с оскорблением Павла Юстена и его спутников, С.Н. Богатырев отмечает, что это была не просто месть. Традиции посольского обряда были сознательно вывернуты наизнанку: вместо традиционного дарования дорогой одежды с послов сорвали ту, что была на них; вместо торжественного обеда (дипломатического пира) их притащили в кабак на поругание; вместо официальной процессии на лучших конях и повозках их протащили на ремнях вслед за конем; вместо всеобщего почета их подвергли публичному обнажению и осмеянию. Не стоит забывать и о том, что Павел Юстен был духовным лицом. Руководил этой акцией один из наиболее видных опричников — князь Афанасий Иванович Вяземский [25]. Так что это не могло быть случайным совпадением — безусловно, поругание шведских послов входило в общий замысел «праведного суда».
Характерно, что в Москве послов разместили за городской чертой, на Нагайском дворе за Яузой — т.е. в мусульманской резиденции, подчеркивая их как бы нехристианский статус [26]. Там они оставались вплоть до наступления лета.
Последовательное выворачивание наизнанку посольского обычая и демонстрация неправославия шведских посланников, обнажение их, которое символизировало утрату социального статуса, исключение их из устойчивого, «регулярного» мира вписывается в общий контекст новгородского иконического перформанса. В первый день опричное войско нанесло удар по новгородскому православному духовенству; во второй — накануне Крещения — ряжеными и поддельными послами выставлены вполне реальные шведские дипломатические посланники, а чин посольского приема превращен в шутовское, символическое представление. Духовенство и иностранцы поставлены в ряд явившихся на Суд и предстают на нем в соответствии с иконографией Страшного Суда: с одной стороны от престола Судии — разные чины во главе с духовенством, а с другой — «народы» (неправославные, нехристианские), чтобы быть осужденными и наказанными.
После избиения и «правежа» арестованных духовных лиц, обвиняемых все в той же загадочной измене и желании податься к Литве, и поругания послов, 8 января царь отправился в Софийский собор к обедне. На мосту через Волхов его торжественно встречал архиепископ Пимен и прочие духовные чины. По версии Новгородской летописи, царь сразу отказался от благословения иерарха, обвинив Пимена в желании его царскую «отчину», Великий Новгород, «предати иноплеменником, королю польскому Жигимонту Августу» [27]; другие источники об этом не упоминают. В любом случае, главной сценой стала трапеза после богослужения в Софийском соборе в честь праздника Крещения. Сначала царь сел за стол и казалось бы приступил к еде, но внезапно он отшвырнул угощение и «возопил гласом великим с яростию». Архиепископ и его люди были тут же взяты под стражу.
Место действия было далеко не случайным, на что обычно не обращают внимания. Трапеза с древнейших времен была частью дипломатического ритуала, демонстрацией готовности к союзу, актом взаимного уважения и признания. Оскорбление за трапезой рассматривалось как вызов, повод к войне, прямое оскорбление. Можно напомнить, например, что оскорбление Василия Косого за столом у Василия Васильевича Темного послужило поводом для жесточайшего витка междоусобицы второй четверти XV века [28]. Понимание трапезы, пира одновременно как праздника, священного ритуала гостеприимства и уважения гостя к хозяину «дома», так и политической акции имеет и древние языческие, и не менее прочные христианские корни. Это всегда зрелище и публичное действо, имевшее свои достаточно строгие правила [29]. С другой стороны, отказ разделить трапезу был еще и символическим жестом обвинения иной стороны в неправославии: можно делить стол с врагом, но нельзя делить его с еретиком или иноверцем. Поведение Ивана IV за столом архиерея было демонстративным и далеко не спонтанным жестом, который ясно обозначал «царский гнев» и ставил под вопрос чистоту православия Пимена. Развитие событий показывает, что царь подразумевал не просто опалу новгородского архиепископа, а нечто большее.
Описывая «издевательства, которым подвергся глава новгородской церкви», «престарелый пастырь, почти тридцать лет возглавлявший новгородскую церковь», Р.Г. Скрынников отмечает характерную деталь: Шлихтинг «довольно точно передал внешние подробности событий» со слов А.И. Вяземского [30]. Повышенное внимание к пошаговому описанию непонятного действия вообще характерно для иностранцев, наблюдавших за событиями времен опричнины или передававшими рассказы других очевидцев. Это свидетельствует о том, что они не очень понимали смысл иконического перформанса или видели в нем лишь личные странности московского царя или местные обычаи.
Итак, согласно рассказу Вяземского/Шлихтинга, с архиепископа Пимена сорвали белый клобук, отличавший новгородских архиереев от всех прочих. Затем Иван IV заявил Пимену: «Тебе не подобает быть епископом, а скорее скоморохом, поэтому я хочу дать тебе в супружество жену». С настоятелей монастырей, явившихся к торжественной трапезе, потребовали большие деньги на «свадьбу». Затем, по приказу царя, привели кобылу. «Получи вот эту жену, — произнес самодержец, — влезай на нее сейчас, оседлай, отправляйся в Московию и запиши свое имя в списке скоморохов». Пимена и вправду отправили из Новгорода в Москву, привязанным к лошади, с музыкальным инструментом в руках (либо волынкой, либо гуслями, по немецкому тексту Шлихтинга понять трудно) [31]. Р.Г. Скрынников характеризует этот эпизод как «шутовской», подчеркивая, что архиерей был «выставлен на посмешище» в соответствии со склонностью царя к юродству [32], Б.А. Успенский отмечает «кощунственную перевернутость поведения» Ивана Грозного, который наказывает духовных лиц, «представляя их в виде бесов или еретиков», определяя это как «символическое антиповедение» [33]. Наиболее точно понимает этот эпизод Б.Н. Флоря, который вводит его в широкий исторический контекст, не замыкаясь на маргинальности или психологических характеристиках царя; он указывает, что «такой способ публичного поругания был избран неслучайно: так поступали византийские императоры с патриархами, замешанными в заговорах против них» [34]. Однако по-настоящему понять смысл этой части символического действа стало возможным лишь в недавнее время, на основе исследования О.И. Тогоевой «прогулки на осле» [35].
То, что поругание Пимена стоит в ряду с аналогичным изгнанием митрополита Филиппа — в разодранных ризах вывезенного из Москвы, а по более достоверному известию И. Таубе и Э. Крузе — на дровнях, символизировавших средство попасть в иной мир [36], или, по слухам, дошедшим до Курбского, «посадив на вола опоко», т.е. задом наперед [37], не раз отмечалось. Исследователи сравнивали это и с более ранней и очевидной аналогией — казнями новгородских еретиков при новгородском архиепископе Геннадии, сильно напоминавшими инквизиционные представления [38]. На основе обширного материала, О.И. Тогоева показала, что «прогулка на осле» (вар.: верблюде, лошади, быке) — это один из древнейших видов гражданской казни, известной с античных времен и сохранившейся кое-где вплоть до Новейшего времени. Первоначально она применялась к прелюбодеям, позднее — к государственным изменникам в Риме; но в Средние века и вплоть до XVI века в Западной Европе и Византии она предназначалась, в основном, для еретиков, лже-пап, самозванцев, выдававших себя за духовных лиц или правителей, а также для настоящих духовных лиц, осквернивших свой сан. Такая казнь не просто лишала чести — она символизировала поддельность сана или скрытое иноверие, еретичество. Причем измена государю и измена Богу зачастую рассматривались как одно и то же преступление. Если опричники рядились в монашеские одежды, то высшие иерархи дважды — Филипп и Пимен — объявлялись «ненастоящими», скоморохами, еретиками, а не просто лишались сана. Тот факт, что в русских источниках не дается развернутое объяснение смысла такой казни («прогулки на осле», по обоснованной терминологии О.И. Тогоевой), свидетельствует о том, что сама ситуация была вполне понятной. А тот факт, что А.М. Курбский или его информатор «домыслили» столь красочную деталь, как «посажение на вола опоко», показывает, что это вполне знакомый современникам феномен. Важно, что «поругание Пимена» — не личная прихоть Ивана Васильевича, не плод его фантазии, а традиционная символическая акция, совмещающая политическую меру наказания и сакральное действо.
Царь самолично запретил Пимену служить и только потом потребовал такого решения официально от церковного собора [39]. Этим актом Иван Грозный ставил себя судьей над Церковью, присваивал право, никогда светскому правителю на Руси не принадлежавшее.
Последовавший «суд» и расправа над новгородцами — и над самим городом в целом — имеют некоторые своеобразные черты, на которых необходимо остановиться, обращаясь к политическому и сакральному символизму происходящего. Анализируя новгородские события января 1570 года, Присцилла Хант высказала предположение, что целью Ивана IV в роли Верховного Судии было «провести народ через страдание» с тем, чтобы очистить его от греха и сделать избранным народом, Новым Израилем [40]. Аналогичного мнения придерживается А.Л. Юрганов [41]. Однако эти соображения не находят прямого подтверждения в источниках; это чисто гипотетические построения. С другой стороны, Иван Грозный не раз заявлял о своей миссии Судии. В чем же состоял этот суд? Попробуем проанализировать факты.
Первое — последовательность наказаний: духовенство — дворяне — затем торговые люди — затем общее пограбление посада, которое так или иначе затронуло многих. Строгое разделение на сословия напоминает, с одной стороны, иерархию земских соборов, то есть подчеркивает «всемирность», универсальность царского суда; с другой стороны, оно ассоциируется с рядами «сословий» в иконографии Страшного Суда, получившей колоссальное развитие в середине — второй половине XVI века, а затем перешедшей в более позднюю икону. Такая иерархия отвечала мировому порядку, что подчеркивало роль царя-судии как наместника Бога. А это была ключевая роль властителя в глазах Ивана.
Второе: конечно, пограбления предполагали конфискации ценностей в пользу опричной казны, и это можно рассматривать как прагматический акт. Сожжение «грубых товаров», предназначенных к вывозу в Европу (воска, сала, мехов), тоже можно считать экономической мерой. Но следует обратить внимание вот на что: первое, что изымали и вывозили из Новгорода, это святыни. Иконы, церковная утварь, облачения священников — все это отправлялось в Александровскую слободу, где потом были выстроены две церкви в покаяние, украшенные новгородскими церковными ценностями [42]; то есть святость Великого Новгорода уничтожалась и переносилась на новое место — в царскую опричную Слободу. Особую роль там играла церковь Троицы на Государеве Дворе, домовой царский храм, вместивший Корсунские врата и многие другие сокровища из Новгорода, а также получивший сложную программу росписи с акцентом на теме Страшного Суда [43]. Апофеозом пограбления новгородских храмов стал вывоз монастырских колоколов и главного колокола новгородской Софии [44]. Б.Н. Флоря связывает эти меры и со строительством храма Святой Софии в Вологде как альтернативы Софии новгородской — тем более что часть новгородских архиерейских земель была отписана Вологодско-Пермской епархии [45]. Однако эта красивая гипотеза не подтверждается фактами: вологодский собор, строившийся, действительно, в те же годы — в 1568–1571 годах, первоначально был посвящен не Софии, а Успению Богоматери [46].
Особого внимания заслуживает не только осквернение церквей, но и разрушение жилых домов и сожжение товаров. Это не просто ограбление захваченного города. Наблюдатели подчеркивают, что имущество, в том числе недвижимое, целенаправленно уничтожалось, что не имело прагматического смысла.
Тем не менее, подобный вид наказания хорошо известен в древнерусской — в частности, в новгородской — истории, а также у южных и западных славян (под названием ráspar) и у германцев (Wüstung). Это «поток и разграбление». А. Поппе определил его как «соединенное наказание, исполнявшееся по отношению к личности и имуществу виновного» [47]. П.В. Лукин на материале XII–XIV веков показал практическое применение «потока и разграбления» как правовой нормы и специфической формы наказания за измену (по отношению к городам Новгороду и Торжку) [48]. Обвиняя ВСЕХ новгородцев в измене, Иван Грозный применил «поток и разграбление» ко всему городу. Масштабы этого прецедента поражают, но правовая его основа была весьма древней, восходящей к «Правде Русской». Так что действия царя, с одной стороны, находились в русле традиции, но с другой — придавали известной форме наказания виновных в измене почти апокалипсический характер, лишая юридического статуса не отдельных лиц, а целый город.
Насколько уникальным был этот прецедент в русской истории? Для сравнения можно привести события, изложенные в Лаврентьевской летописи под 6711 (1203) годом — о «потоке и разграблении» Киева войском Рюрика Ростиславича: весь Киев был разграблен, но сожжено только Подолье. Летописец оправдывает эти действия тем, что именно Подолье оказало перед тем поддержку врагу Рюрика — Роману Мстиславовичу. Однако летописец возмущен надругательством над киевскими храмами — Софийским собором и Десятинной церковью, а также монастырями [49]. В НПЛ под 6718 (1208/9) годом рассказано о расправе Всеволода Большое Гнездо с Рязанью. Князь приказал поджечь город, а жителей пленил и «расточи» по городам [50]. Как видим, действия князей в Киеве и Рязани в XIII веке вполне сопоставимы с новгородским действом Ивана IV.
Третье: немцы-опричники отметили загадочный для них факт — во время разрушения домов в Твери и Новгороде рубили «все красивое», а именно: окна, двери, ворота, лестницы велено было царем «без милости высекати» [51]. С них срубали наличники с орнаментами, снимали створы с петель, крушили рамы. Историки, вслед за иноземными свидетелями, высказывают недоумение, порой даже говорят, что «смысл этой акции ускользает от нас» [52]. Однако едва ли это можно назвать загадкой. Окна и двери, как и ворота, служили символическим рубежом дома, через который могла проникнуть нечистая сила, если проходы оставались незащищенными. Лестница вела не только в дом, но и — символически — в потусторонний мир, причем в его верхнюю, светлую часть, облегчая переход к предкам. Средствами защиты выступали, в первую очередь, «красивые» элементы: наличники, створы с оберегами, языческими и христианскими. Разрушение магической защиты домов открывало их потустороннему миру, превращало город в место НЕ огороженное, дикое и темное [53].
В целом, все это означало, что Великий Новгород был десакрализован: подвергнутый «потоку и разграблению», лишенный церковных святынь, колокольного звона, оберегов, пастырского попечения, на какое-то время он превращался в преддверие ада, в «чужую землю».
В этом контексте особое значение обретает особая форма казни, на которой делают акцент практически все источники, рассказывающие о «новгородском походе» Ивана IV: это утопление в реке Волхов, «водная казнь». То, что дно реки воспринималось как дорога в иной мир, прочно ассоциировавшийся в славянской традиции с темными, хтоническими силами, не вызывает сомнений. Об этом говорят материалы этнографических исследований о верованиях в навьев и русалок, а также подозрительное отношение к утопленникам, сохранившееся в том же Новгороде и в христианские времена [54]. Добавим к этому и события 1565 года: при взятии Полоцка войско Ивана Грозного утопило в Двине и в озере местных евреев, отказавшихся принять крещение, ученика Феодосия Косого, протестантского проповедника Фому, а также монахов-«латинян», бернардинцев, то есть иноверцев и «еретиков», по православному определению [55]. О «водной казни», применительно к действиям Ивана Васильевича, подробнее всего говорит А.А. Булычев в главе «…Овеим же рыбиа утроба вечный гроб бысть»; он справедливо включает ее в контекст древнейших и традиционных представлений славян и позднее русских [56]. Он убедительно показывает, что в данном случае царь следовал понятной всем его подданным (да и иностранным наблюдателям) практике жестокой казни, угрожавшей спасению души.
В череде безымянных для нас новгородцев, отправленных, по свидетельству очевидцев, на дно замерзшего Волхова через специально подготовленные проруби, особое место занимает Федор Дмитриевич Сырков [57]. Его история сохранилась в двух вариантах, восходящих к разным источникам. В 1616 году голландский посол записал ее со слов «старого москвитина», возможно, участника похода: согласно этой версии, царь Иван приказал сбросить с моста в Волхов одного «честного купца», привязав его веревкой, потом его вытащили, привели в чувство. Купец «на вопрос, что интересного он видел там внизу, ответил, что он был в аду, где видел, что для него, Васильевича, там уже готово место» [58]. Вторая версия принадлежит А. Шлихтингу и записана была по горячим следам событий (он бежал из России в Литву уже в сентябре 1570 года [59]). Здесь купец назван «знатным и именитым человеком, главным секретарем новгородским Федором Ширковым». Федор Сырков в 1550-х годах действительно был новгородским дьяком и присматривал за составлением Четьих Миней, возглавлял приказное управление, но не в 1570 году, а ранее [60]. Шлихтинг рассказывает, что Федора Сыркова царь приказал «привязать… посредине (туловища) к краю очень длинной веревки, крепко опутать и бросить в реку, по имени Волхов, а другой конец веревки он велит схватить и держать телохранителям, чтобы тот, погрузившись на дно, неожиданно не задохся. И когда этот Федор уже проплавал некоторое время в воде, он велит опять вытащить несчастного и спрашивает, не видал ли он чего-нибудь случайно в воде. Тогда тот ответил, что видел злых духов, которые живут в глубине вод реки Волхова и в озерах, по имени Владодоги и Усладоги [61] и они вот-вот скоро будут здесь и возьмут душу из твоего тела» [62]. Далее Шлихтинг рассказывает о том, как из Федора Сыркова вымучивали деньги, опуская его ноги в котел с кипятком; получено было 12 000 рублей, имена Федора Сыркова, его брата Алексея Сыркова с женой и дочерью внесены в Синодик опальных [63]. Однако для нас сейчас важна именно легенда о том, как отважный новгородский купец обличил царя и пообещал ему адские мучения.
Если Иван IV организовал все масштабное новгородское действо как Суд над изменниками и отступниками православия и приготовил им дно реки в качестве прямой дороги в ад, Федор Сырков выворачивает ту же символику наизнанку: признавая связь между дном реки и адом, местом обитания нечисти, он называет царя не судьей, а осужденным на вечное наказание [64]. В таком случае гибнущие и страждущие новгородцы превращаются в праведных, невинных мучеников.
Представление о том, что Ивану Грозному уготовано место в аду, сохранилось в северных легендах и в следующем, XVII веке — вероятно, под влиянием народных воспоминаний о трагическом новгородском действе 1570 года, а также о связанной с ним гибели митрополита Филиппа. Соловецкий книжник Сергий Шелонин в Похвальном слове митрополиту Филиппу рассказывает о таком видении потустороннего мира, представшем бывшему вологодскому священнику Леониду, до прихода на Соловки служившему игуменом Воздвиженского монастыря: тайнозритель увидел темную пещеру, из глубины которой будто лев «из среды сердца и ногтей рыкающа». «Мне же, — сообщал Леонид, — вопросившу водящаго, кто есть сый, он же отвеща: сей есть грозный царь ваш бывый. Самого же не виде, или кое мучение страждет» [65].
Если сам царь считал, что ему дано право от имени Бога посылать отступников в ад, народное сознание сочло это грехом гордыни и зверством, заслуживающим того самого ада, в который он отправлял «изменников».
Так в чем суть измены? В данном контексте получается, что вся система символических жестов, из которых складывался чудовищный иконический перформанс в Новгороде, указывает на то, что мифическое с политической точки зрения желание «податься» к польскому королю было для Ивана Грозного проявлением неправославия новгородского духовенства и города в целом, зараженности его «западным, латинским влиянием», еретическим духом. При этом измена царю приравнивалась к измене Богу. И подобный феномен заслуживает внимания. Сходное обвинение — измену государю Ивану Васильевичу как «иконоборчество», непочитание образа Божьего, воплощенного в царе, — Иван Васильевич выдвигал Курбскому. Отметив эту оригинальную интерпретацию, А.М. Панченко и Б.А. Успенский дали два параллельных объяснения: во-первых, иконоборчество можно рассматривать как «ересь вообще» (в связи с произнесением в Неделю Торжества Православия анафемы иконоборцам и всем еретикам); во-вторых, царь олицетворяет Бога и, как «образ живый и видим, сиречь одушевлен, самого Царя Небеснаго», выступает в качестве иконы Бога — непочитание царя в силу этого есть иконоборчество [66]. Однако они не рассматривали этот вопрос подробнее и не отдали предпочтение тому или иному варианту толкования.
Обратимся к источнику — Первому посланию Ивана Грозного А.М. Курбскому. В обращении следует такой текст «…боярину и советнику и воеводе, ныне же крестопреступнику честнаго и животворящаго Креста Господня, и губителю хрестиянскому, и ко врагом християнским слагателю, отступившему божественнаго иконнаго поклонения и поправшему вся священная повеления, и святыя храмы разорившему, осквернившему и поправшему священныя сосуды и образы, яко же Исавр, Гноетезный, Арменин и сим всим соединителю, — князю Андрею Михайловичю Курбскому…» [67]. В тексте выдвигаются два обвинения: нарушение клятвы на кресте (то есть присяги государю, политическая измена) и иконоборчество в широком смысле (попрание святынь). Никаких свидетельств, что Курбский разорял храмы или совершал какие-либо акты иконоборчества или осквернения священных образов, нет. Но в послании говорится, что Курбский присоединился к врагам православия — католикам и протестантам в Польском государстве, а они отрицают иконы [68]. Далее Курбский противопоставляется его рабу Василию Шибанову, который не отвергся крестного целования и не изменил своему князю, в то время как сам Курбский Богу и царю изменил, что есть одно и то же [69]. Первое обвинение (в том, что князь живет среди неправославных, которые иконы не почитают) тесно связано со вторым, которое составляет самую суть Первого послания. Именно вторая причина — непочитание царя как иконы Бога — и находится в центре внимания Ивана Васильевича. Любые подданные, обратившие взор на другую державу, к другому правителю (и Курбский, и другие бежавшие в «Литовскую землю» от угрожавших им казней, и новгородцы в глазах Ивана Васильевича), совершают «злобесную собацкую измену до конца» — потому что не хотят «под Божиею десницею власти его бытии, и от Бога данным нам, владыкам своим, послушным и повинным бытии нашего повеления, но в самовольстве самовластно житии», заявляет царь в Первом послании Курбскому [70]. В подтверждение права царя миловать и карать Иван IV приводит пример императора Константина Великого, который «царствия ради, сына своего, рожденнаго от себе, убил есть», а также смоленского князя Федора Ростиславича, признанного святым, и ряд библейских царей, проливавших кровь. Нельзя считать мучениками тех, кто не пожелал принять царя, данного Богом, то есть изменников [71]. Константин Великий упоминается как образец правителя, водимого в бой архангелом Михаилом [72]; именно этот император служит для Ивана IV постоянным примером для подражания в борьбе за православное царство, именно с ним московский царь сравнивает себя в контексте борьбы с «неверными» соседями-католиками и «еретиками», то есть теми русскими, которые с «неверными» сближаются.
В какой мере Иван IV соблюдает или нарушает устойчивые христианские представления о пределах царской власти? И насколько правомерно его сравнение себя с Константином Великим, в рамках политической культуры православия? Традиция почитания царя как образа Бога восходит к древним временам. Но когда речь идет об императорском культе, ему нередко приписывают языческие черты, предполагая некие попытки обожествления правителя. Это справедливо для Древнего Рима, но никак не для христианского мира. Достаточно одного примера, чтобы показать, в чем принципиальная разница. Анализ трех ранних панегириков Константину Великому 310, 312 и 313 годов, проведенный В.Е. Сусленковым, показал, как именно происходило формирование христианской идеи почитания императора в период перехода от язычества к христианству. В первом панегирике речь идет о Константине как о боге, и непоклонение его статуям рассматривается как святотатство; во втором говорится о едином Боге и о «божественном одобрении» и поддержке императора и упоминается о необходимости поклонения статуям императора; в третьем вполне ясно выражена мысль, что император — не бог, но в него проникает блеск божественной силы, который выделяет его среди прочих людей [73]. Поклонение образам императора и его персоне (вплоть до церемонии проскюнесис — простирания ниц), придание ему священных атрибутов и особого, почти священнического статуса было характерно и для западной, и для византийской традиции. Усваивая образ православного правителя, Иван IV ориентировался на подобные образцы и рассуждал в рамках христианской традиции, действительно восходящей ко временам императора Константина Великого, избранного Иваном Васильевичем для себя в качестве эталона. В таком контексте политическая измена, нежелание принять любую волю царя превращались в акт кощунства и иконоборчества, поругания Бога в образе его земной иконы — царя, а также Креста Господня, на котором совершалось крестное целование. Таким образом, и Курбский, и новгородцы в глазах царя оказывались не только изменниками в политическом смысле, но и еретиками. И единственной карой могла стать сакральная церемония Суда и очищения от «греховной скверны». Именно эту функцию исполнял чудовищный новгородский иконический перформанс.
Однако отъезд царя с опричниками из разоренного Новгорода еще не был финальным актом драмы, требовавшей не только десакрализации города, но и некоего политического и символического апофеоза власти — карающей и устанавливающей порядок.
В Пскове новгородский суд был повторен в усеченной форме [74]. Самым ярким и переломным моментом стало публичное выступление юродивого Николы Салоса, устроившего царю своеобразный «ответный иконический перформанс» в той же знаковой системе. Столкновение двух мощных личностей, чувствовавших за собой божественное покровительство и исполнявших высокую миссию, дало неожиданный результат. Согласно нескольким источникам (свидетельства Г. Штадена, И. Таубе и Э. Крузе, немецкой анонимной брошюры 1572 года, Псковской летописи и одного из московских летописцев, Дж. Горсея и Дж. Флетчера), юродивый Никола Салос потребовал прекратить мучительства и грабежи и угрожал, что в противном случае «царя конь не повезет в Москву». Не послушав юродивого, Иван Васильевич приказал снимать колокола с главного Троицкого собора, и в тот же час пал его лучший конь. Это так напугало Ивана Васильевича, что он ограничился изъятием уже подготовленных к вывозу святынь, но население оставил в покое. Странная угроза имела вполне ясный символический смысл: конь, главное животное всей индоевропейской мифологии, был амбивалентной фигурой, он служил и символом потустороннего мира, и тем, кто мог избавить от гибели. Смерть коня служила предвестием смерти его хозяина. Она требовала магической защиты [75].
Однако новгородский иконический перформанс не был завершен с отъездом из Пскова. В Александровой слободе еще несколько месяцев шло следствие «об измене», а тем временем прибывшие из Польши и Литвы послы с марта по май тщетно ждали приема. Им было сказано, что «государь управил свои земские дела в Новгороде и Пскове» и теперь отдыхает [76]. Лишь в начале мая Иван прибыл в Москву. На опричный двор за Неглинной он демонстративно проехал «мимо литовской посолской двор ко Всем Святым на Кулишку». Причем шествие было весьма примечательное: на царском коне — серебряная собачья голова, клацавшая зубами при каждом шаге лошади, опричники в черном с метлами, у одного из командиров на груди — свежеотрубленная голова большой английской собаки, а кроме того — в процессии шли два черных быка, на которых ехали два человека, обряженные в медвежьи шкуры. Послы решили ошибочно, что войско пришло прямиком из Новгорода. Демонстрация должна была представить победу царя и его войска над ересью, которую выгрызали псы-опричники и которая был символизирована «оборотнями-колдунами в медвежьих шкурах» на быках [77].
В завершение следует отметить, что весь этот широкомасштабный и жуткий перформанс разрешился тремя акциями: начались трудные и болезненные переговоры с Польшей/Литвой о перемирии, также включавшие немало репрезентативных сцен [78]; параллельно Иван Грозный выступил в роли защитника веры и главного православного полемиста, вступив в диспут с протестантом Яном Рокитой, прибывшим вместе с посольством, причем на эту дискуссию щедро выделялось время, несмотря на напряженный темп переговоров политических [79]; в то же время состоялись страшные казни на Поганой Луже, в которых погиб, в частности, глава русской дипломатической службы Иван Висковатый, обвиненный в измене в пользу татар и литовцев разом (сами поляки и литовцы отметили с недоумением, что Висковатый всегда был для них «труден» в переговорах) [80].
Таким образом, посреди Ливонской войны, принимавшей все более мрачный характер для России, царь устроил колоссальное символическое представление, едва ли не действо Страшного Суда, направленное на устранение некоей не существующей в прямом смысле измены. Однако в пространстве иконическом его публичное поведение имело некий самостоятельный смысл, связанный с политическими реалиями иным, непрагматическим способом. Выступая высшим судией над своими подданными, подминая под себя церковную иерархию и перенося сакральный Новгород на иное место, очищая западные рубежи своей страны от «ереси и измены», Иван Грозный демонстрировал и своим подданным, и, как он сам считал, иноземцам, как крепко православие в русской земле, как прочно держит он, в отличие от только что свергнутого Эрика XIV, бразды правления. Характерно, что, завершив цикл, Иван «простил» новгородцев, прислал им некоторые церковные ценности и новых служителей, возвращая город в православное пространство из символического ада, в который его поверг своей волей.
Источник: Academia.edu
Примечания
1. Термин «иконический перформанс» возник в разговоре с А.М. Лидовым; пользуюсь случаем выразить ему благодарность за удачную формулировку. Определение термина целиком принадлежит автору данной статьи.
2. Например, см.: Хачатурян Н.А. Сакральное в человеческом сознании. Загадки и поиски реальности // Священное тело короля. Ритуалы и мифология власти. М., 2006. С. 13; Она же. Король-sacré в пространстве взаимоотношений духовной и светской власти в средневековой Европе (морфология понятия власти) // Там же. С. 26. Современное теоретическое осмысление политического символизма в наиболее яркой и развернутой форме см.: Бойцов М.А. Величие и смирение. Очерки политического символизма в средневековой Европе. М., 2009. С. 12–22.
3. Иванов Вяч. Вс. Пространственные структуры раннего театра и асимметрия сценического пространства // Театральное пространство. М., 1979. С. 17.
4. Живов В.М., Успенский Б.А. Царь и Бог // Успенский Б.А. Избранные труды. Т. 1. М., 1994. С. 115–116.
5. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1981. С. 39 (перевод на с. 149).
6. Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 1999. С. 234–235; Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. С. 360–361; Колобков В.А. Митрополит Филипп и становление московского самодержавия. Опричнина Ивана Грозного. СПб., 2004. С. 351–354, 357–358.
7. Колобков В.А. Митрополит Филипп. С. 355.
8. Богатырев С.Н. Павел Юстен: протестантский епископ и королевский дипломат // Юстен П. Посольство в Московию 1569–1572 гг. СПб., 2000. С. 29–30.
9. Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе // РИЖ. Пг., 1922. Кн. 8. С. 47. В их тексте указано «20 января», это очевидная ошибка, как уже отмечено: Колобков В.А. Митрополит Филипп. С. 368.
10. Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе. С. 47–48; Штаден Г. О Москве Ивана Грозного. Л., 1925. С. 89; Шлихтинг А. Новое известие о России времени Ивана Грозного. Л., 1934; общая сводка данных, например: Флоря Б.Н. Иван Грозный. С. 237.
11. Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе. С. 48; Флоря Б.Н. Иван Грозный. С. 238.
12. В.А. Колобков подробно исследовал обстоятельства гибели митрополита Филиппа: Колобков В.А. Митрополит Филипп. С. 373–376. Для нас сейчас важны некоторые детали.
13. РИБ. СПб., 1914. Т. 31. С. 316. При этом князь передает и другие слухи о смерти митрополита Филиппа.
14. Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе. С. 48.
15. Колобков В.А. Митрополит Филипп. С. 373.
16. Штаден Г. О Москве Ивана Грозного. С. 90; Скрынников Р.Г. Царство террора. С. 362–363.
17. Новгородские летописи. СПб., 1879. С. 395; Флоря Б.Н. Иван Грозный. С. 238; Скрынников Р.Г. Царство террора. С. 363.
18. Новгородские летописи. С. 396–397.
19. Даже в Новгородской повести виновником казней названы некоторые изменнические бояре и предатель с говорящим именем Упадыш, а действия московского князя предстают вполне сдержанными и соответствующими «правде». Московская повесть о походе Ивана III Васильевича на Новгород // ПЛДР. Вторая половина XV века. М., 1982. С. 376–403; Новгородская повесть о походе Ивана III Васильевича на Новгород // Там же. С. 404–409.
20. Юстен П. Посольство в Московию. Комментарии С.Н. Богатырева на с. 34–39, подробное описание событий самим Павлом Юстеном: Там же. С. 95–119. О правилах в отношении к шведским послам см. также: Юзефович Л.А. «Как в посольских обычаях ведется…» С. 78.
21. Юстен П. Посольство в Московию. С. 121.
22. Там же.
23. Там же. С. 123.
24. Там же. С. 125.
25. Там же. С. 47, 49.
26. Там же. С. 49–51.
27. Новгородские летописи. С. 340.
28. См., например: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 4. Кн. II. М., 1988. С. 384–385. Эпизод, когда княгиня Софья Витовтовна, мать Василия Васильевича, публично сняла с гостя, Василия Юрьевича Косого, пояс, объявив его собственностью своей семьи.
29. Подробно о символике пира: Лукин П.В. Праздник, пир и вече: к вопросу об архаических чертах общественного строя восточных и западных славян // Одиссей. Человек в истории. 2006. М., 2006. С. 134–150; в контексте посольского приема правила пира рассмотрены в главе VI «Аудиенция и обед», раздел 5 «За столом»: Юзефович Л.А. «Как в посольских обычаях ведется…» С. 207–226.
30. Скрынников Р.Г. Трагедия Новгорода. М., 1994. С. 85.
31. Шлихтинг А. Новое известие… С. 29–30.
32. Скрынников Р.Г. Трагедия Новгорода. С. 85.
33. Успенский Б.А. Анти-поведение в культуре Древней Руси // Успенский Б.А. Избранные труды. Т. I. Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1994. С. 326.
34. Флоря Б.Н. Иван Грозный. С. 238–239.
35. Тогоева О.И. Адюльтер — измена — искушение: долгая история одного судебного ритуала // Ситуативная адекватность. Интерпретация культурных кодов – 2009 / Отв. ред. В.Ю. Михайлин. Саратов; СПб., 2009. С. 33–43. Ряд примеров аналогичных казней за пределами России приводит А.А. Булычев, что позволяет воспринимать расправу с Пименом и Филиппом не как единичные явления или изобретение Ивана IV, однако автор не дает объяснения сути этого ритуала: Булычев А.А. Между святыми и демонами. Заметки о посмертной судьбе опальных царя Ивана Грозного. М., 2005. С. 64–67.
36. Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе. С. 44; комментарии: Флоря Б.Н. Иван Грозный. С. 232; Колобков В.А. Митрополит Филипп. С. 326.
37. Любопытно, что Б.А. Успенский отдает предпочтение этой менее достоверной, но более колоритной версии, хорошо согласующейся с историей Пимена: Успенский Б.А. Анти-поведение в культуре Древней Руси. С. 326.
38. Там же. С. 325. Следует упомянуть, что еще ранее мотив «посажения на коня задом наперед» в качестве наказания за колдовство (ложное обвинение святого со стороны беса) отмечен в Житии Авраамия Ростовского.
39. Флоря Б.Н. Иван Грозный. С. 239.
40. Hunt P. Ivan IV’s Personal Mythology of Kingship // Slavic Review. Vol. 52. 1993. No. 4. P. 769–809.
41 Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 359–367. Концепция А.Л. Юрганова о тотальном «Страшном Суде», устроенном Иваном Грозным в качестве свидетельства «последних времен», представляется сильно преувеличенной и во многом надуманной. Однако в работе есть ряд интересных и ценных наблюдений. Главная проблема в том, что автор делает слишком общие выводы, не исследуя детально ни один конкретный сюжет.
42. ПСРЛ. Т. 4. С. 296; Т. 8. С. 204; Новгородские летописи. С. 341; Скрынников Р.Г. Царство террора. С. 364; Флоря Б.Н. Иван Грозный. С. 239.
43. Кавельмахер В.В. Церковь Троицы на Государеве Дворе древней Александровской Слободы // Александровская слобода. Владимир, 1995. С. 18–38; Сарабьянов В.Д. Программа росписи Покровского шатра Александровской Слободы // Там же. С. 49–50; Сорокатый В.М. О стиле росписи Покровской (первоначально Троицкой) церкви Александровской Слободы // Там же. С. 54–69; Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. С. 397–398.
44. Флоря Б.Н. Иван Грозный. С. 244.
45. Там же. С. 239.
46. Лукомский Г.К. Вологда в ее старине. СПб., 1914. С. 59–60; подробно о соборе см.: Мельник А.Г. О вологодском Софийском соборе // Материалы научных чтений памяти П.А. Колесникова. Вологда, 2000. С. 216–224.
47. Poppe A. Potok i grabież // Słownik starożytności słowiańskich. Wrócław etc., 1970. T. IV S. 251–252. За цитату благодарю П.В. Лукина.
48. Лукин П.В. Разрушение домов в средневековом Новгороде как правовая традиция // Новгородика-2008: Вечевая республика в истории России. Новгород (в печати); Он же. Древнерусский «поток и разграбление» в свете германских параллелей // Одиссей. Человек в истории. 2008. М., 2008. С. 196–210.
49. ПСРЛ. Т. 1. Стб. 417–418; Новгородские летописи. С. 45; Лукин П.В. «Поточи Мъстиславъ Полотьский князе». Об одной из форм наказания в Древней Руси // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. Март 2007. № 1 (27). С. 30–31.
50. НПЛ. С. 51; Лукин П.В. «Поточи Мъстиславъ…» С. 31.
51. Штаден Г. Записки. С. 91; Скрынников Р.Г. Царство террора. С. 373.
52. Флоря Б.Н. Иван Грозный. С. 242.
53. См.: Виноградова Л.Н., Толстая С.М. Дверь // Славянские древности. Этнолингвистический словарь под ред. Н.И. Толстого. Т. 2. М., 1999. С. 25–29; Они же. Ворота // Там же. Т. 1. М., 1995. С. 438–442; Виноградова Л.Н., Левкиевская Е.Е. Окно // Там же. Т. 3. М., 2004. С. 534–539; Плотников А.А. Порог // Там же. Т. 4. М., 2009. С. 173–178; Агапкина Т.А. Лестница // Там же. Т. 3. С. 100–101.
54. Славянские древности. Т. 4. М., 2009. С. 418 — в энциклопедии дно реки названо «демоническим локусом». Благодарю за указание на эту статью М.В. Печникова, который также привел в качестве примера известие Новгородской владычной летописи под 1145 годом, касающееся действий известного борца с языческими пережитками, новгородского епископа Нифонта: «В то же лето утопоста 2 попа, и не да епископ над нима пети» — НПЛ. С. 27, 213. Впрочем, тема отношения к утопленникам в Древней Руси безусловно заслуживает отдельного внимания.
55. Флоря Б.Н. Иван Грозный. С. 195, 298. Об этом сообщает Псковская летопись, польский коронный канцлер Ян Замойский, хронист Александр Гваньини, немец-опричник Генрих Штаден. О Полоцком походе как акции по защите православной веры против нечестия лютеран, латинян и прочих см. подробно: Bogatyrev S. Battle for Divine Wisdom. The Rhetoric of Ivan IV’s Campaign against Polotsk // The Military and Society in Russia, 1450–1917. Ed. by E. Lohr and M. Poe. Leiden, Boston, Köln, Brill, 2002. P. 325–363.
56. Булычев А.А. Между святыми и демонами. С. 48– 83.
57. Шлихтинг называет его Ширковым, такая орфография сохранена в переводе, изредка ее повторяют исследователи, что является очевидной ошибкой.
58. Цит. по: Скрынников Р.Г. Царство террора. С. 371. Издание документа: Hildebrand S. En holländsk besskikcningens resor i Ryssland, Finland och Sverige 1615. Stockholm, 1917. S. 131–132.
59. Скрынников Р.Г. Царство террора. С. 59.
60. Флоря Б.Н. Иван Грозный. С. 240; Скрынников Р.Г. Царство террора. С. 370–371. Семья Сырковых принадлежала к числу «московских гостей» — купцов, переселенных в Новгород при Иване III на место коренных жителей, выведенных после утраты Новгородом своей независимости. Сырковы прочно обосновались на новом месте, активно строили церкви и монастыри, причем в новгородских архитектурных традициях. Представители третьего поколения новгородских Сырковых, Федор и его брат Алексей, оставались «московскими гостями» лишь формально, как и многие другие переселенцы начала XVI века. Подробнее о Федоре Сыркове и его семье см.: Архим. Макарий (Веретенников). Московские «гости» Дмитрий и Федор Сырковы и святитель Макарий // Богословский вестник. 2004. Т. 4. № 4. С. 254–264.
61. Очевидно, речь идет о Ладоге, а топоним Усть-Ладога немецким дворянином, знавшим русский язык, интерпретируется как название еще одного озера.
62. Шлихтинг А. Новое известие о России времени Ивана Грозного. С. 30.
63. Скрынников Р.Г. Царство террора. С. 371, 536.
64. А.Л. Юрганов справедливо отметил связь между дном реки и адом, но не привел никаких аргументов, подтверждающих это мнение. См.: Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. С. 360; более того, он последовательно называет Федора Сыркова «Ширковым», как в русском переводе Шлихтинга, не идентифицируя персонаж истории с конкретным человеком.
65. Цит. по: Чумичева О.В. Соловецкое восстание 1667–1676 гг. М., 2009. 2-е изд., доп. С. 38.
66. Панченко А.М., Успенский Б.А. Иван Грозный и Петр Великий: концепции первого монарха // ТОДРЛ. Л., 1983. Т. 37. С. 72.
67. ПИГ. М., 1981. С. 13.
68. Там же. С. 14–15.
69. Там же. С. 15.
70. Там же. С. 46–47.
71. Там же. С. 19.
72. Там же. С. 36.
73. Сусленков В.Е. Свет в позднеантичном и раннехристианском искусстве и раннехристианская иконография Христа-Солнца // Образ Византии. Сб. статей в честь О.С. Поповой. М., 2008. С. 86–87.
74. Описание событий: Флоря Б.Н. Иван Грозный. С. 244–246; Скрынников Р.Г. Царство террора. С. 374–375.
75. Петрухин В.Я. Конь // Славянские древности. Т. 2. С. 590–594.
76. Колобков В.А. Митрополит Филипп. С. 361.
77. Там же. С. 361–362.
78. См.: Там же. С. 363–365; Скрынников Р.Г. Царство террора. С. 395–396.
79. Об этих прениях см.: Tumins V.A. Tsar Ivan IV’s Reply to Jan Rokyta. Den Haag / Paris, 1971; Чумичева О.В. Иван Грозный и Ян Рокита. К вопросу о восприятии Реформации в православной среде // Конфессионализация в Западной и Восточной Европе в раннее Новое время. Доклады русско-немецкой научной конференции 14–16 ноября 2000 г. СПб., 2004. С. 134–155; Chumicheva O. Ivan der Schreckliche und Jan Rokyta: der Zusammenstoß zweier Kulturen // Historishes Jahrbuch. Vol. 124. Munich, 2004. S. 77–96; Марчалис Н. Люторъ иже лютъ. Прение о вере царя Ивана Грозного с пастором Рокитой. М., 2009.
80. Описание этих трагических событий: Скрынников Р.Г. Царство террора. С. 396–399; Флоря Б.Н. Иван Грозный. С. 247–253.




Комментарии