Философствующий социолог
Исторические свидетельства в интернет-журнале «Гефтер»: интервью с социологом Александром Ковалевым.
 1 474
1 474 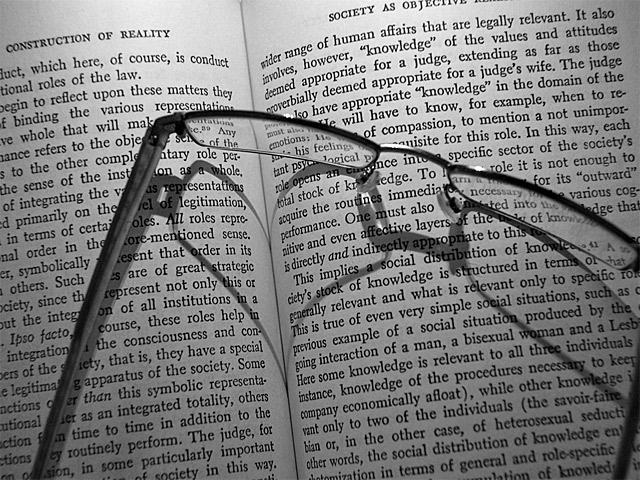
© Mehran Heidarzadeh
Александр Ковалев (1940–2011) — известный российский социолог, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН. А.Д. Ковалев был одним из тех, кто стоял у истоков формирования языка социологии в СССР и России.
Интервью с Александром Дмитриевичем Ковалевым было записано 4 марта 1998 года [1]
— Александр Дмитриевич, первый вопрос: как вы попали в социологию?
— Надо сразу сказать, что не считаю себя практическим социологом — скорее, философствующим социологом. Я окончил философский факультет МГУ, хотя диплом был, вообще-то говоря, социологический. Писал я его, как помнится, у Елены Осиповой [2]. А состоял диплом из перевода части какого-то учебника и некоего развернутого комментария к нему с привлечением других источников. Я даже не помню имени автора — совершенно неинтересно было. Учебник был как раз по методам эмпирической работы, что-то там о наблюдении, измерении, чем я впоследствии уже никогда не занимался.
К Юрию Александровичу Леваде мы пришли вместе с сокурсницей Галей Беляевой [3]. В то время я понаслышке знал работу Макса Вебера о религии, и мне показалось, что Левада придумал [4] социологический подход к этой теме. Ну и, кроме того, создавался сектор. Юрий Александрович с нами побеседовал и взял нас на работу. Вместе с Александром Головым мы были первыми сотрудниками, а затем аспирантами Левады.
— А о чем была беседа?
— Ключевых вопросов уже абсолютно не помню, Юрий Александрович больше проверял общую эрудицию, знание каких-то имен. И, по-моему, составлял общее впечатление, внимательно присматривался помимо прочего, не подлец ли, так сказать, и не будет ли от человека впоследствии слишком много беспокойства. А самое главное — я был москвич, а значит, в жилье не нуждался.
— Какая тема была тогда у вас? Вы ведь писали кандидатскую у Левады?
— Я сам предложил тему по истории социологии, и Ядов, который присутствовал на утверждении, сказал, что тема поставлена узко и это хорошо. А я именно поэтому ее, наверное, и не написал, увидел, что это чересчур узко, сухо и слишком мало содержания.
Но впоследствии я все-таки написал гораздо более широкий историко-социологический текст по теории модернизации, с осмыслением уже методологии истории. То, что я делал у Левады, очень пригодилось.
— Вы были в секторе с момента его создания? [5]
— Да. Начались первые секторские поручения — немедленно в колхоз. А дальше была, помню, какая-то эмпирическая беготня, чего-то там опрашивали, на первых порах возникали всякие проблемы, которые приходили неожиданно, со стороны.
— А основное направление сектора было теоретическое?
— Теоретическо-методологическое. Юрий Александрович как бы в некотором роде сразу навязал, ввиду невежества всех остальных, свои теоретические предпочтения. У него все-таки были твердые системные позиции, можно считать их чуть ли ни первым робким, но явным отходом от марксизма. Как-то только через него до нас стало доходить, что базис-надстройку не надо понимать онтологически, а скорее чисто методологически. Но поскольку такое понимание тогда как-то не поощрялось, этот отход был робкий: представить на равных группу факторов вроде веберовской культурной сущности эпохи и всякие марксистские материальные базисы, рассматривать их в объединенной схеме, во взаимодействии. Такое понимание Левада сначала проводил в лекциях на факультете журналистики.
— Вы на них ходили?
— Да, хотя был не на всех. Но, в общем, слушал. И видел, как живо реагировали в журналистской аудитории [6]. И вообще было увлекательно, все казалось совершенно новым. Это были самые первые учебные шаги. Но потому, кстати, сектор и не пришел к конкретному результату, что ставились разные задачи. А когда пришло время выдавать продукцию, уже пришел Руткевич [7].
— Если бы не было Руткевича, каким мог бы быть результат? Не только подготовленные и изданные книги, а что-то большее?
— Я думаю, что у сектора были бы какие-то чисто формальные планы (как в благословенное советское время), дальше бы просто расширялся кругозор, постепенно осваивалось все теоретическое богатство социологии, и не только под углом зрения какого-то одного направления вроде Парсонса…
— А почему, кстати, Парсонс был так популярен?
— Он ярчайший пример воплощения системного мышления, всестороннего подхода, теоретической взвешенности, уравновешенности: учесть все, синтезировать все. Парсонс рассматривался в некотором роде как некий результат, как «снятие» многих теоретических ходов мысли, через него отчасти постигались и другие современные школы.
— Левада никогда не претендовал на создание собственной оригинальной пусть не теории, но, например, методологии?
— Я так понимаю, что все-таки такие претензии были.
Полагаю, Левада считал, что занимается расширением нашего горизонта, что это учение необходимо пройти. Но в планы уже начинал ставить совершенно конкретные теоретические задачи. Однако ввиду нашего глубокого теоретического невежества, и даже не столько невежества, сколько узости взглядов, моей прежде всего, и теперь я думаю, что и всех, мы недалеко ушли. Тот же Щедровицкий усвоил несколько неокантианских идей и, как и весь его кружок, постоянно их на все лады повторял. А дальше стала неуловимо меняться атмосфера, и в общем-то многие хотели обойти исторический материализм, перейти к новому языку, а не получалось. Уже что-то носилось в воздухе такое, что держало за язык и за руку. Припоминаю, как у меня начинался крен уже действительно в сторону истории социологии.
— От методологии к истории?
— Да, может быть, история как предоставляющая возможности объективного рассмотрения и школ, и мыслителей, а потом и осмысление теоретических и методологических проблем, началась через историю социологии.
А дальше, поскольку левадовский сектор разогнали, я попал как раз к Кону именно с такой задачей. С Игорем Семеновичем состоялся у меня такой разговор:
«Что вас интересует?» — «История. Более чем». — «Хорошо, потому что некоторые, наоборот, рвутся рисковать».
— Защищались вы уже у Кона?
— Нет, гораздо позже. Кон в конце 1972 года ушел из института, и официальным научным руководителем стал Юрий Николаевич Давыдов. Так что я работал самостоятельно и очень неспешно [8].
— С точки зрения научных сюжетов сектор и семинар были как сиамские близнецы?
— Семинары были в некотором роде способом существования сектора, потому что проходили довольно регулярно.
— Судя по протоколам, два раза в месяц шли семинары, два раза — заседания сектора. Равная периодичность.
— Признаться, сейчас уже даже и не помню, у меня только ощущение осталось. Семинар — просто ничем не ограниченная свобода, на семинары приходили разные культурные миры, иногда нам как бы и чуждые. Вот в этой связи я вспоминаю Григория Померанца с его культурологическим подходом. Он говорил, кстати, и о модернизации, что интересовало меня впоследствии. Уже в годы перестройки он опубликовал тот доклад, кажется, в журнале «Человек» [9]. Но, как я сейчас понимаю, это воспринималось как в некотором роде чужеродное явление именно вследствие моего собственного непонимания. Но, оценивая задним числом, чувствую, что и у других было то же самое. Мы не понимали этого целостного философского, культурно-психологического подхода, хотя нечто веберианское там было. Вопросы задавались неадекватные, с чисто формальной точки зрения. Думаю, что бедного Померанца это несколько коробило, может быть, он воспринимал это как полное непонимание. Что отчасти, кстати, было верно [10].
— А как сам Левада относился к этим культурологическим докладам? Ведь он же и приглашал этих ученых?
— Левада обладал исключительной способностью в заключительном слове связать концы с концами, в том числе и с теми сюжетами, которые постоянно вращались у нас в секторе. Что-то такое начинало брезжить… Помню, и с Мамардашвили тоже так было. Его доклад о превращенных формах был чисто философский, а на него обрушилась социологическая критика в виде гегелевского-марксистского подхода. Но после, задним числом, до нас дошло, что Мамардашвили обиделся. Видимо, было все-таки что-то такое несовместимое.
— Как вообще докладчики чувствовали себя на семинарах?
— Златоусты уверенно разливались соловьями, не обращали внимания на аудиторию. Например, тот же Мамардашвили с Пятигорским выступали совместно и совершенно меня потрясли. Я привык к формальным схемам и довольно узко поставленным темам сотоварищей по сектору (кроме, может быть, Алексея Левинсона), а тут в ходе доклада просто жуткое изменение значения понятий, скольжение такое, диалектический разгул. В конце концов, я там совершенно потерялся и перестал что-либо понимать. На посторонних присутствующих девочек это чрезвычайно действовало. Я даже в этой связи вспомнил мемуары Андрея Белого, который писал, как девушки млели от философских разговоров начала века. Не понимали, но млели.
— А дискуссии часто возникали?
— Дискуссии возникали всегда, но проходили как бы невпопад. Каждый дудел в свою дуду, что-то такое там ухватил либо продирался к поразившей его мысли… Во всяком случае, точно помню, что у меня было постоянное ощущение неслаженности. И только Юрий Александрович сводил все воедино.
— Существовал ли в семинаре критик, который постоянно критиковал всех?
— Вообще такового не было. Как только что-то человека поражало или возмущало, тогда и начиналась критика. Самым большим негативистом был Юрий Алексеевич Гастев. Он логик, человек строгого мышления, и его такая вот безбрежность, а иногда и неподготовленность, непродуманность, даже структура доклада его так раздражали, что он обрушивался на выступающего… Он не философ, а математик, человек совсем другого мышления, потому выступал очень жестким критиком.
— На семинаре были сквозные темы?
— Честно говоря, как бы мне ни хотелось ответить утвердительно, но и тогда мне казалось, и теперь мне кажется, что все это было достаточно случайно. Если у человека было что-то готовое, ему давали слово. Ну кроме, может быть, каких-нибудь совсем неприемлемых людей. Но все равно это было хорошо, потому что, повторяю, расширяло наши мозги и расшатывало схемы. Это задним числом только можно оценить. Действительно, что-то там осталось, некоторые имена уже переставали пугать.
— А кто пугал?
— Не то чтобы испуг, а готовые ярлыки… У меня так со Спенсером было. По окончании факультета было твердое убеждение, что это абсолютно исчерпанный мыслитель, архаичный, несовременный, но оказалось, что недалеко ушла современность от многих приемов его мышления. Иногда у него все выглядело даже более связно и убедительно, только язык устарел. Я потом про него даже работу написал.
Такие и подобные предрассудки на семинаре несколько ослаблялись и разрушались.
— Вы посещали другие семинары, столь же популярные в 70-е годы?
— Я ходил на семинары в другие сектора. Помню, пытался овладеть некоторыми формальными приемами методики и техники у Денисовского, слушал Колбановского об исследованиях. Но убеждался, может быть, просто по внутреннему сродству, что наши лучше, а может, как-то роднее. У нас ставились теоретические проблемы, широкого плана, фундированные в истории социологии, были ссылки, ассоциации, перекрестные сравнения мыслителей разных эпох. Ничего подобного не было в других секторах. И мне просто скучно становилось, так что я скоро это занятие даже и бросил. Это все было какое-то доморощенное — ну, сослались на какие-то там английские работы по методике. Ну что это… Неинтересно.
— А на семинары в других дисциплинах ходили, например на семинар Гефтера?
— Нет, не ходил. Я человек больше не устного восприятия, а чтец, читатель.
— А разве семинар Левады не был устным творчеством?
— Да, но самое-то лучшее в нем было то, что не было никакого давления, возможность выступить, отличиться предоставлялась всем. И в то же время не было перста указующего, не висел дамоклов меч обязанности выступать.
Ну, и, наконец, самое главное — яркие люди. Логики, стройности, богатства содержания можно достигнуть в книге, но впечатления от людей — незаменимы! Вот как Эдик Зильберман [11] переводил с английского языка на ходу (это, правда, было в транспорте, после семинара) стихотворным размером санскритские шлоки! Это, конечно, впечатляло! Не могу сказать, что я так уж много читал. Я читаю довольно медленно и как бы глубоко, люблю расчленить текст по-своему, а это все занимает много времени. Но Зильберман меня поражал тем, что, что бы я ни прочел, о чем бы я ни заговорил, оказывается, он и это читал, и около этого все читал, и обо всем наслышан.
— Раздражения это не вызывало?
— Не вызывало, хотя некоторое чувство скромности, которое по-другому называется комплексом неполноценности, проявлялось. Кроме того, он рассказывал, как работал в Казахстане метеорологом-наблюдателем. Не спал ночами, заменял сон усиленной едой и что-то такое сочинял. Вот человек действительно жил исключительно духовными проблемами. И такая духовная жизнь в советское время, как ни странно, была более возможна: скромное содержание, малые требования по службе (кому, конечно, везло, вероятно, были места с большими требованиями) — и можно было всецело предаваться путешествиям в духовных мирах. Когда он попал в Америку с ее прагматическим подходом, он регулярно писал письма, в которых жаловался на американскую среду. Хотя там рты на него разевали, но ничего не понимали, так что он почувствовал в письмах тоску по прежней аудитории. Какой бы она ни казалась пассивной и, может быть, недостойной великого человека, но… Впрочем, это все относительно. Марк Батунский [12] как-то сказал мне: «Вы разеваете рты на Зильбермана, потому что вы все невежественные, ничего не знаете».
— А он знал?
— Да, он знал. Во всяком случае, он себя таковым считал. Хотя мне казалось, что, в отличие от Зильбермана, это такое недисциплинированное мышление. Зильберман мог расчленять, складировать, свободно оперировать, а у Марка — что-то вроде потока сознания, я его логики часто не понимал. Вроде как сведения ради сведений сообщаются, знания ради знаний. И вообще казалось, что его интересует какая-то культурная и интеллектуальная экзотика.
Была еще одна яркая личность сектора-семинара — Вика Чаликова. Душа сектора — остроумная, веселая. Помню, как завалили ее диссертацию кандидатскую, а банкет уже был заказан. Вот мы потом гуляли на этом банкете по поводу несостоявшейся защиты. Вика — одно из проявлений разностильности: одно дело логики Гастев, Ракитов, ребята Щедровицкого (хотя на самом деле у них логика была своя, очень своеобразная). А Чаликова — это как раз такое литературно-сциентистическое направление, такая страсть, способность извлекать из текстов некие пророчески-религиозные идеи. Диссертация у нее была о Максе Вебере. В то время как раз вышла работа Бендикса, которую Виктория освоила. И увлекала нас как раз страстностью, некими такими литературными красивостями, намеками, ведь прямо писать о глубоких проблемах истории религии нельзя было. Это был особый стиль. Как известно, она стала выдающимся публицистом, тоже птенец гнезда Левады. Такое вдохновение, некий заряд энергии, который реализовывался в разных направлениях, — одна из заслуг семинара. В годы перестройки Чаликова так хорошо писала, что ее заметил писатель-деревенщик Антонов, назвал ее чуть ли ни великой. Она со своим хриплым надорванным голосом и на площадях выступала, действовала на людей. Действительно, эта страсть, которая в диссертации оказалась неоцененной, в публицистике нашла себя.
— Насколько я понимаю, основной функцией семинара Левады было просвещение?
— Я не спрашивал у самого Юрия Александровича, каков был его замысел, но у меня сложилось твердое мнение, что он в первую очередь занимался образованием. Возможно, чтобы восполнить недостаток профессионального социологического образования, поскольку книг практически не было.
— Именно социологического или более широкого, гуманитарного?
— Думаю, и то и другое присутствовало. А может быть, в силу принципа взять, что Бог пошлет, это получалось стихийно.
— А слово «социология» часто звучало?
— По моим воспоминаниям, это было непринципиально. «Натаскать мозги» — вот главное. На семинарах разбирались и классики, и современные социологи, иногда даже попадались какие-то модные в то время книги, которые теперь давно устарели. И были работы по философии истории. Эти меня больше всего как раз и привлекали, эдакий историософский полет эмоционально очень вдохновлял.
А еще сформировалась мысль о том, что надо делать скидку на время, на ситуацию, на контекст. Скажем, когда Евгений Рашковский [13] говорил о религии как совершенно равноправной сфере жизни, которая никуда не ушла, которая влияет, действует, это само по себе уже казалось новым, удивляло. А кроме того, само его изложение, такое неподдельное воодушевление! И я почувствовал, что Господь до сих пор влияет на этику современного человека, на его поведение, формирует нравственность, что, пожалуй, одним позитивизмом и усвоением каких-то формальных схем многого не сделаешь, напрасно мы на это возлагаем такие надежды. И я думаю, мы поэтому на просветительской стадии так долго и задержались, не решались, точно помню, не решались сделать переход к собственному позитиву. А сейчас какой такой позитив? То же самое. Изучаем историю социологии, убеждаемся, что все ходы мысли давным-давно испробованы.
— Я знаю, что в секторе было сделано много рефератов и переводов работ западных социологов. Какие темы конкретно изучались?
— Основные переводы и рефераты — это работы по структурно-функциональному подходу (как тогда это обозначалось). В основном Парсонс (я перевел одно его эссе) и осмысление западной логики, работы, анализирующие это функционалистское мышление (Нагель и др.). Борис Юдин в рамках своей диссертации написал хорошую статью, обобщающую то, что сделано на Западе. Это, кстати говоря, тот позитивный итог: он, я лично считаю, сделал некоторые прояснения и «договорил» за западных логиков, довел до конца.
Это было основное. Три, по-моему, сборника было посвящено структурно-функциональному анализу, а другие переводы — это уже не комплекс, раскрывающий одну и ту же тему с разных сторон, а просто отдельные сборники… я даже уже сейчас и не помню, о чем… все забывается со временем.
— Темы этих сборников находил Левада? Он предлагал, что именно надо переводить и кого?
— Да, в общем, Юрий Александрович определял, вот «хорошо бы это…». Но, например, многие предложения, что именно переводить, давала, кстати говоря, Галя Беляева.
— А книги откуда брали?
— В ИНИОНе. Я лично помню, как переводил в читальном зале, так просто взял сборник парсонсовских эссе и прямо в зале и переводил. Кстати говоря, с этим структурным функционализмом была демонстрация узости мышления: воспринимали его как строгое, точно определенное направление, а на самом деле этого не было, как сейчас понятно, научным сообществом было сотворено такое расплывчатое, искусственное объединение. И, наконец, уже в то время можно было понять, что Парсонс далеко не такой уж строгий структурный функционалист, это у него временная фаза, он тяготел скорее не то что к веберианской позиции, но шире — к неокантианской, и даже просто к кантовской методологии. Это был временный язык оформления. А в наших сборниках ни намека, и в статьях тоже все было всерьез. В общем, вместе с Западом заблуждались.
— Заблуждались одновременно с Западом?
— Одновременно.
— Темы, которые были популярны на Западе, у нас становились популярны тоже одновременно?
— Модные книги попадали.
— Насколько проницаем для западных социологических идей был «железный занавес»?
— Он был проницаем в силу того, что люди читали. И степень опоздания или отставания определялась скоростью обработки книг в том же ИНИОНе. Или в Библиотеке Ленина. В пределах года. А, скажем, Марк Батунский имел какие-то связи, ему что-то присылали, что-то привозили. Иногда о самых модных книгах, которые выходили, можно было узнать и от кого-то другого. Было бы желание.
* * *
Жизнь прожита, прожита так, а не иначе. Это заложено тем временем, тем обществом, той генетикой и, наконец, той констелляцией всевозможных жизненных обстоятельств, случаев, удач и неудач, которые достались этому человеку, и в немалой степени определилось его собственным выбором, перед которым каждый оказывается в жизни, и не раз. Со стороны, скорее всего, сделанное им оценивается как довольно-таки скромное. С этим нельзя не согласиться, но то, что сделано, всегда останется в исторических исследованиях социологических теорий и в переводной литературе добротным, полноценным источником. Нескоро найдется другой исследователь, который предпримет подобные изыскания по тем же темам с той же честностью, скрупулезностью и точностью.
Жизнь прожита в ладу со своей природой (А.Д. не был человеком публичного пространства), совестью, Бог миловал пойти против нее, и человечеством, воплощенном в слове, в мысли. Задача его пребывания на Земле заключалась в том, чтобы быть носителем и потребителем (в высшем понимании этого слова, т.е. ценителем) культуры, родной русской и мировой, хранителем русского языка, семейных ценностей, любителем природы скромного русского Нечерноземья и почитателем земной красоты во всех ее проявлениях. Он был самим собой. Это удается не каждому.
Примечания
↑1. Интервью было взято в рамках проекта «Семинарское движение в социологии: вторая наука или игра в бисер», поэтому речь идет в основном о семинаре Ю.А. Левады.
↑2. Осипова Елена Владимировна — первый преподаватель истории теоретической социологии в стране по кафедре истории зарубежной философии философского факультета МГУ.
↑3. Беляева Галина Ефимовна — аспирантка сектора и активная участница семинара.
↑4. К этому времени Ю.А. Левада защитил диссертацию и издал книгу по социологии религии.
↑5. Сектор был создан в 1966 году в рамках отдела конкретных социологических исследований Института философии. В 1968 году на его базе был развернут Институт конкретных социальных исследований АН СССР.
↑6. В 1960-х годах Левада читал лекции по социологии на журфаке МГУ. В 1969 году они были изданы отдельной брошюрой в ИКСИ и стали поводом для идеологической атаки и на самого Леваду, и на институт.
↑7. В 1972 году директором Института конкретных социальных исследований был назначен М.Н. Руткевич. Под предлогом реорганизации института был осуществлен его фактический разгром. Подробнее см.: Российская социология 60-х годов в воспоминаниях и документах. СПб., 1999.
↑8. Защита состоялась только в 1985 году.
↑9. Парадоксы модернизации // Человек. 1990. № 1.
↑10. Следует слегка подправить сугубо личную скептицистскую точку зрения А.Д. Ковалева. Семинар отличался принципиальной междисциплинарностью и исключительно высоким профессиональным уровнем приглашаемых участников. Аудитория хотя и состояла из множества личных заветных миров-интересов, но была открыта для восприятия любого иного мировидения. Тем более что иные миры приоткрывали знатоки высочайшего уровня. Разнообразие до сих пор поражает: здесь были выдающиеся философы, культурологи, историки (Возрождения, Средневековья), религиоведы, врачи-сексологи, лингвисты, поэты. И все это попадало на благодатную почву поисков того, что составляет общество, как устроены его внутренние связи, расширяло, возможно, и против воли слушателей, их кругозор и неизбежно раздвигало формальные узкие границы родной дисциплины. Думается, что докладчики также выигрывали от выступлений вне своей профессиональной среды с заведомым распределением мнений. Но в том, что каждый семинар становился интеллектуальным событием, конечно, «виновником» был Левада, имевший редчайшую способность одновременно анализировать мысли другого и синтезировать, включать их в свой рабочий аппарат для своих самых конкретных целей.
↑11. Зильберман Давид Бениаминович (1938–1977) — социолог и культуролог, в 1973 году эмигрировал в США, профессор Бостонского университета.
↑12. Батунский Марк Абрамович (1933–1997) — один из крупнейших в мире исламоведов, в 1968–1991 годах работал в Институте социологии АН СССР.
↑13. Рашковский Евгений Борисович — советский и российский востоковед, религиовед, переводчик, историк науки и образования, русской философской мысли.
Текст и примечания Марины Пугачевой
Источник: Социологическое обозрение. 2012. Т. 11. № 1. С. 152–159.




Комментарии