Инна Булкина
Фарсы и аллегории
Мейнстрим или экспериментаторство: странный путь поэтической добродетели.
 1 881
1 881 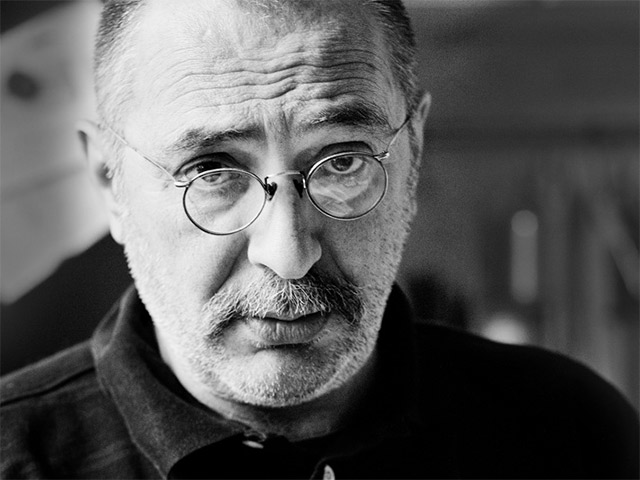
© Портал Богослов.Ru
Тимур Кибиров. Три книги. Киев: Laurus, 2014.
Репутацию поэта зачастую делают первая слава и первые стихи. Боюсь, что большинство поклонников Тимура Кибирова узнали и запомнили его на волне шумных публикаций конца 80-х, так что Кибиров для них по сей день автор жизнеописания К.Ю. Черненко и стихов про то, как Л.С. Рубинштейн читает газету «Правда». Впрочем, те давние стихи про «энтропию» так с нами и остались, и очистительный пафос «Кара-Бараса» напоминает о том, прежнем:
С шестиярусной казармой,
с вошью, обглодавшей кость,
с голой площадью базарной,
с энтропией в полный рост!
С кибировскими поэмами конца 1980-х неизменно ассоциировался вошедший тогда в моду и едва ли не все живое поглотивший термин «постмодернизм». Как всякая расхожая бирка, он в известный момент стал означать слишком многое, чтоб означать вообще что-нибудь. Но в случае Кибирова он предполагал вещь вполне очевидную: сознательную апелляцию к поэтической традиции, — не к какой бы то ни было определенной, будь то акмеизм, футуризм или любой другой исторический «-изм», но ко всему корпусу русской поэзии, от Ломоносова до Маяковского и от Державина до Лебедева-Кумача. И казалось, что постмодернизм злополучный означает именно это: отмену всех и всяческих иерархий, уравнение в правах и неизбирательную тотальность цитаты. В таком определении был некоторый смысл, хотя теперь понятно, что с тем же успехом в «постмодернизме» можно заподозрить собственно механизм канонизации, который заставляет нас помнить и первый звук Хотинской оды, и «Стихи о советском паспорте», и «Подмосковные вечера». А Кибиров — поэт канонический, и не потому, что войдет в хрестоматии (а он войдет в хрестоматии), но по причине абсолютной последовательности формы и содержания: выбору канона как поэтического материала и консервативной верности традиционным нормам и правилам. Этот ценностный традиционализм в обойме со старомодным морализаторством Сергей Гандлевский однажды назвал «антиромантическим пафосом», заметив, что пафос и «подростковый пыл» в свое время выделяли Кибирова из холодного круга модников-постмодернистов, «делали Кибирова Кибировым». Пафос (или «пафосность») — это как бы «некомильфо», не совсем прилично: люди в большинстве своем стесняются излишней горячности, она делает их смешными, и редко кто способен позволить себе такую роскошь — быть смешным. Наверное, это та безоглядность, которую и может себе позволить «артист в силе». Пугливая аккуратность выдает дилетанта, а старательное словесное щегольство — пошляка. Кибировская горячность выдает себя избытком мастерства: кажущейся небрежностью, сбивчивостью и «постановочными» проговорками.
С горячностью, надо думать, связана еще одна особенность кибировской поэтики — пресловутый «километраж». Его «длинноты» продиктованы не установкой на непрерывность речи, как, скажем, у Бродского, но именно этим желанием выговориться, сказать все, что должно быть сказано. Я повторю общее место, если скажу, что Кибиров — поэт «эпический», что единица стиховой речи для него — поэма, что он мыслит «книгами», наконец. Но такой «эпос» всерьез отличается от традиционной поэмы, — приблизительно как «Руслан и Людмила» отличались от эпического репертуара предромантизма, от богатырских сказок (romantisches Heldengedicht) и чувствительных description. Кибировские поэмы в принципе не укладываются в образцовые жанровые матрицы, они даже не иронические упражнения в «давнем роде», как это было с эпистолой или эклогой в сборниках конца 80-х. Последние поэмы Кибирова сродни мистерии. Кажется, по жанру они ближе всего к «Двенадцати» Блока — поэме гротесковой и «дисгармонической», которая изначально мыслилась как пьеса. Вообще, если возможно говорить о «полижанровости» (как говорят о полиметричности), то лирико-драматический эпос Кибирова соединяет в себе все твердые и свободные, традиционные и новейшие формы — от сонета до e-mail’а, и от ноэля до «рекламной паузы». Его генетическая связь с московским концептуализмом — течением, по преимуществу художественным, — более всего заметна не в интерпретационных «подсказках», а в монтажных приемах. Каждая его «книга» — коллаж, соединение разных техник, причем изощренные словесные узоры (с визуальной интенцией) вместе с драматическими моралите заставляют вспомнить барочные представления. А включение в эту барочную драму неологических «артефактов», вроде все тех же рекламных заставок, слоганов, условных e-mail’ов и смс-ок, — не столько реставрация архаики, но, скорее, memento mori, пластиковая метка нашей гордой цивилизации офисов и гаджетов, изначально ветхой, чтоб не сказать — скудельной. Обилие эпиграфов и прочих «рамочных» элементов тоже отчасти дань коллажным техникам и барочным излишествам, хотя смысл этой изощренной и, местами, громоздкой конструкции не только в этом. Кибиров — чемпион по количеству (да и качеству) эпиграфов, из его эпиграфов можно (или даже нужно) собрать антологию, и это будет отличная антология. Не хуже «Чтеца-декламатора» — самой успешной и тиражной из русских антологий, и мы вовсе неслучайно встречаем ее на этих страницах: в «Покойных старухах», в списке «влиятельных» книг, вперемешку с Гейне, Надсоном и Александром Блоком.
В последнем киевском собрании — три книги (что следует из названия), и в том, что они представлены под одной обложкой, есть своя логика. Вообще, в том, как Тимур Кибиров собирает свои книги, в самой их последовательности есть очевидная прививка Серебряного века. Поэтический путь, задаваемый «книгами стихов», собственно «история лирического героя» или «роман в стихотворных книгах», прежде всего, должен напомнить о Блоке. Впрочем, это еще одно общее место «кибировской» критики: отсылки на Блока самим автором подсказаны, да и вообще нет ничего скучнее узнавания очевидных цитат, хождения по вытоптанным тропинкам, усеянным «флажками» и «стрелочками», всей этой «интерпретации интерпретаторов». Университетские слависты любят постмодернистов, те охотно играют «в поддавки», что, на самом деле, должно настораживать, но почему-то не настораживает. Но, как бы то ни было, отношения с Блоком — это отдельный сюжет, он прослеживается на протяжении всей истории кибировских книг, и эта новая — не исключение. Открывается она «Кара-Барасом» с «посвящением» на первой странице, где блоковское прощание с Пушкинским домом задает тон и «бросает тень» на следующие затем шутливые пушкинские парафразы:
«Ибо что ж менять привычки / в час последней переклички, / уходя в ночную тьму!»
«Кара-Барас» — это «детская книга», одна из немногих «сердитых детских книг», где воспитательный пафос как нельзя более соответствует установке, поэтому так красноречиво там указание на «Мойдодыра» с его устыжающим рефреном. И, наверное, здесь уместно вспомнить признание самого Чуковского: «Чуждаюсь ли я тенденции в своих детских книгах? Нисколько! Например, тенденция “Мойдодыра” — страстный призыв маленьких к чистоте, к умыванию. Думаю, что в стране, где еще так недавно про всякого чистящего зубы говорили: “гы, гы, видать, что жид!” — эта тенденция стоит всех остальных. Я знаю сотни случаев, где “Мойдодыр” сыграл роль наркомздрава…»
«Кара-Барас» — тоже поэма «с тенденцией», с сокрушительными инвективами и саркастическими инфинитивами. Инфинитивы, кстати сказать, завершаются, опять же, блоковским парафразом, — буквально «монетизирующим» исходный сантимент:
Зачищать
Монетизировать и растаможить
Зажигать
Бесстыдно, непробудно —
И не такой еще, моя Россия,
Бывала ты, не падая в цене!
Но если забыть о «Мойдодыре», «Кара-Барас» — аллегорическое представление, вернее, аллегорический балет с разухабистыми плясками Эроса-Танатоса, залихватский раешник с лирическим «Эпилогом», который по тону и по смыслу предвещает следующую книгу поэм, а по святочному сюжету — со спасительным приходом Отца и волшебным ароматом морозных мандаринов — перекликается с кодой, рождественской мистерией «Ночь перед и после Рождества» и фактически «закольцовывает» все собрание.
И коль уж зашла речь о композиции, то вторая и центральная книга «Три поэмы» дает возможность оценить «троичную» структуру этого собрания, где в «Трех книгах» спрятаны «Три поэмы», а в «трех поэмах» — история о «трех старухах», строфически оформленная проза, по сути «роман воспитания» (по контрасту с «воспитательной поэмой» «Кара-Барас»). Метрически выделенная поэма о «покойных старухах» — в известном смысле рассказ о рождении поэта, о том, «как начинают жить стихом». Ключевой момент здесь — наследство: «четыре книги из выморочного имущества Монашки». Первые три — уже помянутые здесь Гейне, Надсон и «Чтец-декламатор». И наконец:
«…Четвертая книжка в скромненьком учпедгизовском переплете, без всяких ятей и еров, и никакой цензурою не дозволенная.
“Александр Блок. Избранное”.
“В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая один глаз”».
Эпиграф, кстати говоря, как и ключевая цитата, — из «роковой» пушкинской повести о «трех картах».
Третья и последняя книга этого собрания называется «См. выше». Здесь совсем недавние стихи: непривычно короткие, в непривычном жанре — «пейзажная лирика», со слишком обыденным, немистериальным отнюдь сюжетом — прогулки в парке. Но ближе к финалу в полном соответствии с заголовком нарастают высокие ноты, и вот уже «…Цецилия святая, / Посредством Генделя взывая, / Зовет меня куда-то вверх!», и нестройные песнопенья разрешаются святочным «синопсисом». Пейзажный сюжет проходит годовой цикл и разрешается весною. И пусть подтаявший снег обнажает всю грязь и непотребство, но, как в той сердитой детской сказке «с тенденцией», это «чистой воды торжество». И бурное теченье весенней воды уподоблено все той же музыке: «Снова музыка пенится, и пузырится, и хлещет. / Только в свете весны даже это не так уж зловеще».




Комментарии