Андрей Тесля
Верность принципам, воля к правде?
Новые форматы на Gefter.ru: ответы исследователя на ряд вопросов по его книге
 2 218
2 218 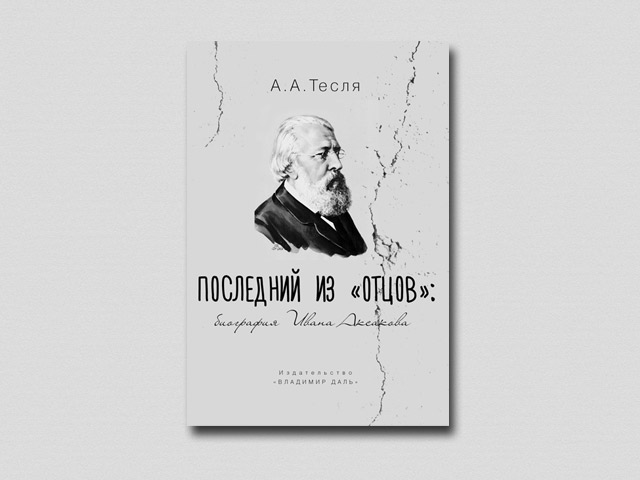
От редакции: Андрей Тесля ответил на вопросы по своей новой книге «Последний из “отцов”: биография Ивана Аксакова» (М.: Владимир Даль, 2015).
— Иван Аксаков — последний из «отцов». А кто первый из «детей»?
— Кто «первый», сказать сложно, но к его «детям» (в той или иной степени родства, в истории общественной мысли отцов бывает несколько, как и матерей) можно отнести большую часть не только русских националистически настроенных авторов последней трети XIX века, но и тех, кто использовал язык славянофильских образов и понятий, зачастую не зная или не задумываясь об их происхождении. Страхов в начале 1860-х годов писал, что «славянофилы победили» (к этому времени из их числа мало кто уже был в живых: Иван и Петр Киреевские умерли в 1856-м, Хомяков и Конст. Аксаков — в 1860-м): в том смысле, что к 1863–1864 годам (на волне патриотического подъема, вызванного Польским восстанием) их язык, их образная система стала «общим местом», поскольку ситуация требовала подобного языка — и альтернативы славянофильскому не было, официальный/официозный был дискредитирован, а иных, столь же разработанных форм высказывания о «своем», «нашем», возможности позитивно обозначить общность не существовало.
— Каково место Аксакова в большой истории русской литературы?
— Небольшое. Как поэт он весьма второстепенен, хотя имел и имеет по сей день свой небольшой круг поклонников. В рамках славянофильской поэтики речь идет о гражданственных стихах — как у Хомякова или старшего брата Константина (здесь можно видеть, кстати, будущую поэтику 60-х, «некрасовщину» именно в типичности), писал он мало, публиковался еще меньше.
К истории литературы, безусловно, он принадлежит как автор первой биографии Федора Тютчева (на дочери которого был женат): она до сих пор сохраняет свою ценность благодаря ряду суждений, имеющих статус свидетельств очевидца и близкого знакомого.
Большой интерес с литературной точки зрения представляет огромная эпистолярия Ивана Аксакова, в первую очередь письма к родным, значительная часть которых была опубликована уже спустя два года после его кончины вдовой. Как отмечала, в частности, Лидия Гинзбург, новые литературные формы, новые выразительные приемы и т.д. формируются в «промежуточных жанрах», там, где нет большого давления устоявшихся жанровых форм, где автор чувствует себя относительно свободным — в состоянии «необязательности». В письмах Аксакова видно, как меняется язык русской прозы, в начале 40-х это во многом уже язык русских романов 1860–70-х годов, т.е. становятся видны «внутренние течения» прозы, способы анализа переживаний, описания ситуаций и т.д., которые пока еще — «за пределами литературы», в пространстве приватного, салонного, но «не предаются тиснению».
— Каким образом аристократ мог стать идеологом?
— Вопрос можно начать с того, в какой мере Аксаков — «аристократ»? Он выходец из среднего дворянства, доходы его и его семьи, даже когда были еще имения, недостаточны для того, чтобы жить без службы (или иных источников дохода — впрочем, в условиях России 1840-х годов иных, «вне службы» вариантов дохода для человека его статуса было немного). Т.е. это «служилое дворянство», генерация 1840-х годов — та новая группа, которая изначально идет по «светской» службе, новое чиновничество. Аксаков оканчивает Училище правоведения — привилегированное учебное заведение, под патронажем принца Ольденбургского, призванное готовить кадры для судебной системы (курсом младше учится Константин Петрович Победоносцев, соучеником Аксакова был, напр., кн. Дмитрий Оболенский и т.д.), т.е. это будущая высшая бюрократия, происхождение дает возможность занять соответствующее место в иерархии, право на соответствующий уровень доходов — но доходов от службы.
В этом именно плане любопытно, что в итоге Аксаков выберет другой жизненный сценарий, после долгих мучений, когда он будет во второй половине 40-х — начале 50-х многократно порываться оставить службу, и останавливать его будет именно невозможность или по меньшей мере большая трудность найти себе какое-то место в жизни за ее пределами, реальный выбор — это либо частная жизнь, жизнь семейная, либо государственная служба. Так вот, в начале 1850-х он подает в отставку — и пробует быть редактором, готовя «Московский сборник» (средства даст А.И. Кошелев), издание задумывается как регулярное, но уже второй выпуск будет запрещен цензурой. Потом долгая неопределенность, идея плыть в кругосветное путешествие (куда его не выпустит III Отделение), командировка от Географического общества в Малороссию, для описания украинских ярмарок, добровольное поступление в ополчение, формируемое в последний год Крымской войны, и т.д.
Найдет он для себя прочное новое место уже только в 1860-е, когда возникнет некое промежуточное пространство — публичности, общественности — между государством и частным, т.е. семейным, интимным.
Так что, возвращаясь к исходному вопросу, «идеологом» он смог стать, собственно говоря, потому что не был аристократом, хотя для части (небольшой) аристократии и сумел сделаться идеологом.
— Как размышления об обществе и прочих предметах превратились в общественную мысль?
— Собственно, как они обычно и превращаются — через салонные беседы, статьи в газетах и журналах, создание собственных печатных органов (издававшиеся и/или редактировавшиеся Аксаковым газеты «День», «Москва», «Москвич», «Русь») и т.д., когда высказываемые позиции опознаются теми или иными общественными группами как созвучные им, в которых они могут реализовать себя, использовать их как приемлемые репрезентации.
— Что мог такой славянофил сказать власти и народу, была ли возможность донести свою программу до адресатов?
— Я бы подчеркнул, что в этой программе — и в это время — нет задачи «говорить с народом», поскольку речь идет о временах до прихода масс в политику, разговор ведется с (1) властью и (2) обществом («образованным обществом», сменившим «хорошее»). И, собственно говоря, сказанное чуть ранее, о беседах и изданиях — это и есть способы донесения до адресатов, важно учитывать лишь, что круг их весьма невелик, это несколько тысяч человек, со всеми ключевыми фигурами возможно (и, как правило, есть) личное знакомство, многие обсуждения функционируют многоуровнево — где есть и личный разговор, и письма, и беседы близких/знакомых/оппонентов, и газетные статьи, которые «посвященными» в суть вопроса прочитываются иначе, чем широкой публикой. Так, для славянофилов с 1840-х до 1880-х большую роль играет влияние на женскую половину двора, близость к императрице Марии Александровне и т.п. Это еще уходящий мир Двора, который будет сильно меняться и уступать во влиянии на протяжении XIX века, но окончательно не станет ничтожным вплоть до конца Российской империи.
— Была ли программа славянофилов локальной или международной: преобладало ли измерение локального обустройства или участия во всемирных процессах? Была ли здесь динамика?
— Любая национальная программа — международная, это ведь один из способов встраивания, вписывания себя в мир. Если же говорить об Иване Аксакове конкретно, то динамика по направлению к 1880-м — это большая значимость международной политики, акцент на панславизме, планах имперской экспансии. При этом, что важно отметить, внешняя политика мыслится и как орудие внутренней — активная, даже агрессивная славянская политика приведет к изменению внутренней политики, национальному ее развороту, поискам общественной поддержки и ставке (желательно добровольной) на существующие (и те, которым предстоит сформироваться) общественные силы и движения.
— Каково место Аксакова в создании рефлективного языка русской мысли?
— Он один из создателей и распространителей языка, который был способом общения власти и общества. Примечательно, что именно славянофильство стало «всеобщим» языком земства до начала XX века, поскольку позволяло в приемлемой для властей форме формулировать положения, которые при переводе в другой язык звучали бы как явное политическое притязание.
— Можно ли сказать, что он создал завершенную интеллектуальную программу?
— Я бы не преувеличивал в данном случае индивидуальную роль Ивана Аксакова. Вполне завершенную интеллектуальную программу в начале 1860-х сформировали скорее несколько славянофилов совместно, опираясь на «классическое славянофильство», причем первенствующая интеллектуальная роль принадлежала Юрию Федоровичу Самарину. Аксаков же был скорее горячий публицист и яркий оратор, способный сообщить программе широкий резонанс.
— Как Аксаков видит свою историю, свою биографию как часть большой истории? Насколько сильным было выстраивание им исторической концепции на основе собственного опыта и собственной жизни?
— Прежде всего я бы отметил, что собственной, авторской исторической концепции у Аксакова не было. Он здесь вполне воспринимает взгляды старших славянофилов, разумеется, акцентируя те или иные детали, но все-таки это именно восприятие позиции, которая не является индивидуальной.
Что же до восприятия своей биографии, то для Аксакова, и в этом его прелесть, «история страны», «история семейная» и «история личная» — это не три разных истории, а части единой, здесь он вполне проникнут дворянским, служилым сознанием. Восприятие «государственного дела» как своего — и отношение к нему соответствующее — присуще ему с самых ранних лет, это фундаментальная часть его мировосприятия. Уточню, что, когда речь идет о «государственном» или «народном» деле как о своем, это значит, что, принимая или отвергая, осуждая или одобряя, он в любом случае воспринимает себя частью этого «мы», для него немыслима позиция «это меня не касается», он причастен.
— Насколько мысль Аксакова полемична, а насколько она принципиально воздерживается от полемики?
— Насквозь полемична: Аксаков ведь был прирожденный публицист и газетчик, он думал «быстрым пером», все его лучшие тексты — это полемика, ответ на что-то, призыв и т.д., причем неважно, идет ли речь о текстах газетных или письмах, поскольку это сам стиль мышления, отталкивания, противопоставления — в антитезах формулируя должное.
— Была ли у Аксакова цель создать публичную норму высказывания или язык, понятный власти и народу?
— Он создавал — наряду с другими ведущими публицистами этого поколения — способы говорения, способы публичного обсуждения. Другое дело, что собственно «языковая» цель здесь не ставилась — мы ведь говорим о XIX веке, там нам почти не встречается сознательная сосредоточенность на языке, целью является некий объект, состояние, для достижения которого необходимы конкретные действия, инструменты и т.д., но они не самоценны и, соответственно, редко попадают в фокус рассмотрения. С тех пор как для нас близким становится утверждение о ничтожности цели и значимости движения, сосредоточенность на среде становится понятной и естественной — но это более поздний феномен.




Комментарии