Карл Аймермахер
Смена парадигмы в российской культуре. Переориентация между распадом и новым формированием (1987–1997)
«Необходимость» перемен, которые «невозможны»: драмы революции в позднесоветской культуре
 4 877
4 877 
От редакции: Благодарим Ассоциацию исследователей российского общества («АИРО-XXI») за предоставленную возможность опубликовать главу из книги немецкого слависта Карла Аймермахера «Воззрения и понимания. Попытки понять аспекты русской культуры умом» (М.: АИРО-XXI, 2018. 308 с. с илл.) и посвящаем публикацию двадцатипятилетию Ассоциации.
Одновременно с постепенным распадом сталинской культурной модели, происходившим при Хрущеве, Брежневе, Андропове и Черненко, начали формироваться элементы альтернативной модели культурной деятельности, не ставшие, однако, доступными широкой общественности. В 1986 году обе модели начинают благодаря гласности открыто конкурировать друг с другом, претерпевая при этом из-за хлынувшего на Советский Союз извне огромного потока информации дальнейшие изменения. Под влиянием политических и экономических перемен, которые можно считать следствием конфликта между «консервативными силами» и «реформаторами», а также произошедшего в конце 1991 года распада Советского Союза, в конечном итоге образовался, несмотря на доставшиеся по наследству трудно изменяемые стереотипы мышления и действия, совершенно новый тип культуры, последствия чего, конечно, учитывая влияние усиливающейся региональной самостоятельности, трудно полностью оценить. Для того чтобы лучше оценить эти принципиальные изменения в тектонике российской культуры, произошедшие за последние годы, частично необходимы дальнейшие пояснения.
Перемены, начавшиеся с приходом к власти Горбачева, повлияли на всю систему в целом, на все сферы государственной и общественной жизни. Исходя уже из одного этого, следует рассматривать понятие культуры в широком смысле этого слова, а не ограничиваться литературой, изобразительным искусством и киноискусством. Это понятие включает в себя как старые формы политической культуры, так и все организации и их финансирование; экономическая ситуация, социальная структура, структура и уровень образования и т.д. — состояние каждой из этих областей на свой манер определяет характер культуры. Широкое толкование понятия культуры оказывается особенно полезным во времена исторических реконструкций, когда не существует четкой иерархии среди отдельных влияющих друг на друга областей культуры, или когда распадается или переформировывается культурная система, имеющая более или менее единую структуру, и когда неясными остаются отношения взаимной зависимости ее отдельных областей. Периоды, когда не существует однозначной иерархической структуры, отличаются от тех, когда одна область культуры явно господствует над другой или над всей культурой в целом (что можно сравнить, например, с тем, когда одна специфическая идеология определяет политику, или один-единственный миф определяет общество, или одно литературное или художественное направление пытается формировать общественное сознание).
Перемены в области культуры в периоды 1985/87 и 1990/91 годов и связанные с ними дискуссии находятся в интенсивном взаимодействии с передававшейся из поколения в поколение советской культурной моделью, создававшейся в течение почти 70 лет и продолжающей действовать и по сей день. Исходя из этого, вполне понятно, что находятся функционеры, желающие сохранить данную культурную модель в ее принципиальных чертах, другие же выступают за ее преобразование и даже ставят ее полностью под сомнение. В то же самое время дискуссия о новом определении характера культуры беспрерывно обогащается за счет информации и опыта, поступающих извне, которые затем интерполируются и функционализируются в новом контексте в зависимости от групповых интересов.
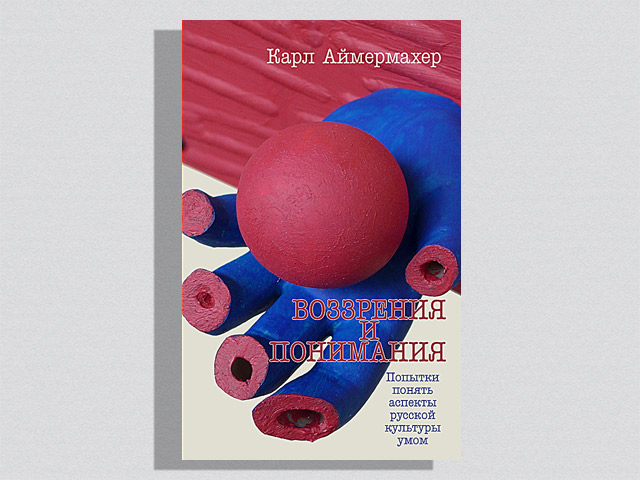
Ввиду этой специфически напряженной и противоречивой ситуации в области культуры, следует не только проследить за особенностями распада и преобразования российской культуры, но и задаться вопросом, носит ли этот процесс существенный или лишь поверхностный характер и можно ли его считать показателем действительной способности к изменениям (и этим самым, возможно, способности к реформированию). Тем более что при трансформации изначальной сталинской культурной модели речь идет о ее деидеологизации и деполитизации. Более того, взаимодействие между «распадом» и «новым формированием» означает именно способность конструктивно перенять остатки старой культурной системы, а также способность соединить отдельные, чуждые этой системе фрагменты (по возможности) в единое согласованное целое. При этом можно по характеру и степени интеграции гетерогенных системных элементов различного происхождения прежде всего судить о гибкости, фантазии и воле общества, да собственно говоря, и о его ведущих личностях, придающих преобразованиям существенный характер.
Специфика культуры периода перестройки проявляется особенно ярко, если проанализировать, почему группа ведущих функционеров, сплотившаяся в 1985–87 годах вокруг Горбачева, посчитала необходимым проведение реформы коммунистического режима. Ситуацию отличали среди прочего следующие особенности:
— За 70 лет часть номенклатуры осознала две вещи:
(а) «порядок в государстве» — а не идеологическое единообразие, как было принято считать в 50-е и 60-е годы, — должен быть первым гражданским долгом;
(б) любой «беспорядок» опасен и поэтому должен быть предотвращен любым возможным способом.
— Непосредственно перед приходом к власти Горбачева было также вполне ясным, что «слишком много порядка», особенно если он будет слишком длительным, может неизбежно завести в экономический и внутриполитический тупик, что может в конечном итоге означать потерю власти или даже конец в прямом или переносном смысле. Неизбежным считалось также то, что номенклатура потеряет свое влияние, а Россия — господствующее место в мире.
— В результате анализа общественной ситуации и ее будущего развития уже при Андропове и Черненко, был сделан вывод, что коренной пересмотр в области экономики неизбежен. Решение проблемы виделось в активном, однако опять же контролирующем вмешательстве «сверху» с целью мобилизовать «снизу» резервы экономического развития, которые смогли бы оживить, восстановить и сохранить всю общественную систему в целом.
Иллюзорный и примитивный характер предпосылок, из которых исходила перестройка, а также первые мероприятия, сопровождавшиеся громогласной пропагандой (антиалкогольная кампания, кампания по повышению производительности труда и т.д.), и их последствия широко известны.
Механизмы взаимодействия между «верхами» и «низами», собственная динамика, а также с трудом дающееся претворение решений в жизнь были как всегда так же мало учтены, как и то глубокое недоверие, которое проявляли все стороны по отношению к любому новаторству.
В подобной ситуации было более чем логично, что «сверху» говорили о необходимости «коренных перемен», а не только лишь о корректуре исходной системы, и что на фоне всеобщего общественно-политического застоя 70-х годов любой вид преобразований должен был выглядеть как революция. В то же время было относительно ясно, что, учитывая пресловутую медлительность государства и партии, будет, конечно, недостаточно просто начать изменения. Большая часть государственного и партийного аппарата была во всяком случае не способна к переменам, да и не желала их. Исходя из этого, было вполне понятно, что следовало заранее учесть и сломить возможное «внутреннее сопротивление». Провести подобную акцию можно было доверить лишь одной небольшой группе людей, в первую очередь это были люди, как правило, находившиеся в течение многих лет вне партии или в изоляции внутри партии и поэтому стоявшие «вне» самого руководящего состава. В качестве «рычага» для проведения нового общественно-политического начала также не годились и те, кто хорошо устроился внутри партийного и государственного аппарата, но с годами потерял веру в преобразования. Исключением в этом смысле оказались, очевидно, только те активные комсомольцы, которые (как вскоре оказалось) очень быстро распознали признаки времени и в течение кратчайшего времени сумели перевести партийное и государственное состояние по своим каналам (в банки).
В конечном итоге, сначала сложилось то состояние неопределенности, когда было неясно, менять ли что-нибудь в политической ситуации или нет. Проблема состояла таким образом лишь в том, достаточно ли сильным окажется толчок и желание добиться проведения структурных изменений. Особенно много при этом зависело от характера и способности действующих лиц преодолеть упрямую настойчивость партийных функционеров и аппаратчиков и их страх лишиться влияния и привилегий. Для того чтобы преодолеть предубеждение по отношению к новому, немало зависело также от умения преодолеть страх оказаться жертвой собственной биографии. Конечно, одними призывами к новаторству нельзя было повлиять на зачастую важнейшее качество — способность мыслить по-новому. Кроме того, учитывая развитие, произошедшее за прошлые десятилетия, никто не мог себе представить, что дело закончится лишь поверхностными преобразованиями системы, то есть устранением перегибов (несправедливостей прошлого). Итак, одна сторона означала — жить в спокойствии, от другой же исходила угроза собственному существованию.
Даже для тех, кто в первую очередь был призван проявлять преобразовательные инициативы, теория резко отличалась от ее практического воплощения в жизнь. По этой причине вместо того, чтобы действовать, сначала лишь много и безрезультатно говорили и писали. Таким образом, шансы прагматически связать концепт с его реализацией вновь оказались лишь только на бумаге.
Такая же ситуация, хотя и по другим причинам, сложилась у тех, кто должен был «снизу» участвовать в провозглашенных «коренных преобразованиях» и «перестройке общества». Это были в первую очередь те, кто уже после окончания Второй мировой войны питал надежды и стремления к «коренным преобразованиям», кто вновь надеялся с началом «оттепели» 1955–1956 годов на действительную внутреннюю и внешнюю разрядку и оказался в конечном итоге обманутым в своих ожиданиях. В отличие от находящихся «сверху», эти люди «снизу» не были вынуждены в той же мере, как и «верхи», сами проявлять инициативу. Итак, «низы», разве что за исключением диссидентов 60-х и 70-х годов, игнорировали, как и прежде, «верхи», старались быть незаметными, уединялись для спокойной жизни на своих дачах, умело уклонялись, внося так же, как и многие другие, свою лепту в циничную игру, в которой дело расходилось со словом. Они были обмануты историей и довольствовались тем, что было возможным на практике. Эти люди были реалистами, выглядевшими лишь издалека безобидными, на самом деле они вели дома за кухонным столом бурные дискуссии. Благодаря им в конце 50-х годов создалась бытовая культура со специфической структурой, которая постепенно разрослась по другую сторону официальной власти в неофициальную деятельность мужественных диссидентов, превратившись в настоящее течение. Этими людьми, остававшимися в тени официальной и неофициальной деятельности, была создана собственная, самоорганизующаяся и сама себя поддерживающая культура товарообмена, соседской взаимопомощи и доброго согласия, которая незаметно пронизала не только все сферы официально разрешенного и выставленного напоказ, но также и те сферы неофициальной жизни, которые не были категорически запрещены.
Кроме того, еще существовали обманутые в период «оттепели» в своих надеждах и стремлениях и поэтому разочарованные либералы, целью которых было достичь на основе некоторых преобразований исходной системы компромисса для практической будничной жизни. Этот компромисс основывался на идее, что изначальную сталинскую общественную модель можно преодолеть лишь путем согласования интересов «верхов» и «низов», а гуманное общество можно создать только на основе свободного развития личности.
Эти либералы были начиная с 60–70-х годов борцами, не имевшими соответственной арены борьбы, диссидентами, не имевшими собственного общественного мандата. Их сильная сторона заключалась в разоблачении и критике партийных недостатков, а иногда и всей господствующей системы в целом. Во времена же неожиданно наступившей перестройки их слабость состояла в том, что они не были в достаточной мере подготовлены и обучены думать одновременно концептуально и прагматически. Как следствие, они не сумели распознать возможности, открывшиеся после 1985 года, и были не в состоянии хотя бы разработать альтернативные концепты. Таким образом, у них преобладало два вида проектов совершенно разного направления, касающихся деятельности и общества: во-первых, это были проекты, предусматривающие постепенное улучшение в тех сферах деятельности, которые были им с их точки зрения хорошо знакомы, во-вторых, это были проекты, претворение которых в жизнь при царивших тогда в Советском Союзе условиях было невозможным.
Таковыми были основная направленность и исходное состояние начавшейся в 1985 году перестройки, а также соотношение сил как на уровне тех, кто прежде стоял у власти, так и на уровне тех, кто должен был в конечном итоге в определенной степени выгадать от дальнейшего развития. В период между 1985 и 1987 годами, то есть в то время, когда гласность была разрешена только в «маленьких дозах», мы имеем дело с типичной для переходных времен ситуацией, когда страх смешивается с надеждой и когда всем группам неясно, как все разовьется в дальнейшем. На словах, во всяком случае, «верхи» предлагали «низам», а также всему обществу в целом, как это было и в период «оттепели» 50-х годов, оживить и развить все виды общественной деятельности.
Развитие в период между 1985/87 и 1996/97 годами можно подразделить на две большие фазы (первая фаза — до 1990/91 года; вторая фаза — с 1991/92 года до выборов осенью 1996 года), когда почти незаметно произошла смена культурной парадигмы. Доминанты старой и новой парадигмы имеют совершенно разные установки и соответствуют двум общественным моделям с совершенно разной структурой, характерным для которых, однако, остается наличие скрытых подводных течений, состоящих из тяжелого наследия элементов сталинской культурной модели.
Это необычное состояние между упорным желанием сохранить старые культурные формации, их распадом и возникновением новых, происходившее в условиях выжидания и осторожных преобразований (после первых сигналов, начавшихся летом 1986 года) и в условиях окончательной победы гласности в средствах информации (весной 1987 года), заметно изменило общество, сделав его более открытым, и положило начало тому процессу, который собственно и называют периодом перестройки. Гласность заканчивает характерное для периода 1985–1987 годов состояние неопределенности между «стремлением идти вперед» и «желанием вернуться назад». Это оказалось благоприятным для тех, кто в свое время содействовал «оттепели» (в 1956 году и в последующие годы) и теперь вновь оказался в центре общественного внимания, а также для всех тех, кто сохранил способность думать необычными категориями. Это были люди, стоящие «вне», никогда, однако, не выступавшие открыто против партии и государства, а также молодые люди из круга бывшего руководящего состава, распознавшие свой исторический час, которые, исходя из прагматических соображений, быстро настроились на будущее, в создании которого они были теперь вправе участвовать, и начали использовать в своих целях возможности, открывшиеся в средствах информации. Это было время, когда цензура довольно часто вела себя сдержанно и не вмешивалась (цензура была отменена только в 1991 году), время, когда начали анализировать «белые» и «черные» пятна истории, когда в общество постепенно проникало неофициальное искусство, начавшее свое развитие в конце 50-х годов, когда в средствах информации появилась официально запрещенная прежде литература, произведения как российских писателей, так и писателей-эмигрантов, когда начало выходить в свет множество газет, создавались новые театральные студии и вообще публиковалось невообразимое количество новых книг как своих, так и иностранных авторов, это было время, когда культурная и политическая общественность приобрела совершенно новый характер.
Основным отличием начавшегося тогда развития было то, что стабильность господствующей до этих пор общественной системы оставалась под контролем, несмотря на изменения в средствах информации. Гарантией тому служили почти не тронутые тогда еще управленческие и имущественные отношения. Пресса, охваченная со временем настоящей лихорадкой, где одно событие, казалось, сменяло другое и чуть ли не каждый день публиковались новые разоблачения из советской истории и жизни советского общества, десятилетиями представлявшихся идеальными, вызвала в конечном счете лишь незначительные сдвиги в принципиальных для власти основах исходной системы. Новое и, конечно, освобождающее состояло в том, что можно было иметь казалось бы бесконтрольный и полный доступ почти ко всей информации, а также в том, что появилась возможность совершать поездки (при наличии годного заграничного паспорта).
Неожиданная же либерализация в области культуры, начавшаяся с приходом к власти Горбачева, явилась, несмотря на выжидательное отношение со стороны большей части центральных руководящих и административных органов, чем-то совершенно неожиданным, революционным по отношению ко всем прошлым периодам советской истории, последствия чего в то время еще невозможно было распознать. Она основывалась в общем на впечатляющем количестве новой информации, поступавшей как изнутри страны, так и извне, позволяющей совершать критическое осмысление прошлого и настоящего и особенно свойственных этим временам мифов. Особенный эффект состоял в конечном итоге в том, что в течение нескольких лет прошлое (со всеми свойственными ему нерешенными проблемами, которые теперь можно было обсуждать) сумело «наверстать» настоящее. Итак, прошлое было не только оживлено и постепенно обретало «лицо», но и стало из-за своей большой актуальности равнозначной частью настоящего, не став при этом, однако, «преодоленным». События, расставленные историей в хронологическом порядке, обрели теперь в сознании новое значение: события прошлого не предшествовали теперь непосредственно настоящему, а как бы пространственно объединились с ним, не будучи при этом полностью проанализированными и понятыми. Такая же ситуация сложилась и со всем тем, что до этого времени было «чужим» (или «другим»), которое вдруг оказалось (а нередко и просто казалось) «своим» (сравните среди прочего интеграцию эмигрантской литературы, а также многие к тому времени переведенные тексты из источников, имевших совершенно иные культурные традиции). Совокупность всех до этих пор сложившихся представлений, убеждений и т.д. вступила таким образом в конкуренцию с теми представлениями, которые сформировались на фоне других культурных традиций и общественно-политических моделей.
Исходя из одного только изобилия и разнородности подобной новой или считавшейся новой старой информации, а также стремительно определившегося направления средств массовой информации, можно распознать, что сформировавшееся из этого новое сознание и связанное с ним эйфорическое чувство свободы должно было неизбежным образом оказать обратное влияние на прежнюю структуру организаций и позицию их руководства.
Вследствие этого внешне еще сохранившиеся вертикальные структуры власти потеряли свои теснейшие связи, стали неработоспособными, разделились и были приватизированы. Появление новых смешанных административных форм, а также наличие параллельных и создание совершенно новых органов настолько изменило и сделало настолько непонятным разделение функций внутри учреждений и организаций, что во многих случаях оставалось только констатировать факт их самостоятельности и почти полной независимости друг от друга. При этом некоторые их новые отделы получили широкую независимость и вступили в конкуренцию со старыми. Лежащий в основе этого процесса принцип, однако, не равнозначен издавна известному принципу «разделяй и властвуй», исходящему «сверху», это скорее осуществление власти отдельными органами, не имеющими однозначной связи с вертикально построенной структурой и механизмами власти.
Таким образом, изменения означали одновременно распад старого и формирование нового. Это касалось всех государственных, партийных и прочих органов.
В конечном итоге упрямые и неспособные к переменам оказались в проигрыше, а гибкие и творческие люди вышли победителями. Новым при этом, однако, было то, что этот процесс оказался выгодным не только для тех, кто уже прежде держал власть в руках, но и для тех, кто только теперь проявил инициативу к действию «снизу». Открывшаяся теперь в обществе свобода действий должна была вызвать неуверенность прежде всего у неспособных на изменения людей и вынудить их к ответной реакции. В разрозненной коммунистической партии к 1989 году сформировались скрытый «правый» полюс вокруг неославянофилов — сторонников «русской идеи», с одной стороны, и воинственное ядро наступательного оппозиционного движения во главе с Ниной Андреевой, с другой стороны, ставшие в конечном итоге эмоциональной и идеологической основой для произошедшего летом 1991 года путча против Горбачева.
По ходу событий между концом 1990 года и первой половиной 1991 года можно ясно видеть, что бывшие административные аппараты власти разрушались и поэтому чувствовали себя неуверенно, но, как и прежде, ожидали в сущности восстановления статус-кво. Прежние институты власти перестроились на самом деле лишь внешне и поэтому принципиально отличались от средств массовой информации, работавших действительно по-новому. В отличие от этого вузы и академии, как и многие другие традиционные учреждения, не были до этих пор в большой степени затронуты преобразованиями. Разве только то, что некоторые их сотрудники, например писатели, ушли в публицистику и стали активно использовать возможности общественного влияния. На внутреннюю структуру исследовательских направлений, предметы обучения, экзаменационные темы и т.д. это, однако, не оказало никакого влияния.
Существенным для данной фазы оказалось, наряду с фактом «только преобразования» старой общественной и культурной системы, еще и кое-что другое. Тот, кто видел в своем уходе в публицистику последний шанс своей жизни прийти путем изменения сознания к более гуманному обществу, безоговорочно придерживался принципа, что каждый должен всегда активно работать в интересах всего сообщества. Каждый индивидуум должен был таким образом жертвовать собой как самостоятельной личностью для блага всего общества и не являлся более рупором дирижерской общественной модели, зависящей от партии и государства.
Разнородность информации, наблюдаемая в основной тенденции этого в общих чертах здесь описанного процесса преобразования культурной модели, соответствовала некоторой противоречивости событий. Данная противоречивость характерна для фаз отторжения и перехода, представляющих собой своего рода тигель, где в процессе распада и перемешивания одновременно образуется что-то другое, новое.
Если считать фазу, начавшуюся с приходом гласности, революцией из-за совершенно новой по сравнению с прошлыми десятилетиями информационной политики и доступности информации, то переход от первой фазы ко второй (это значит от периода 1985/87–1990/91 годов к периоду 1991/92–1996/97 годов) следует считать периодом, когда почти незаметно для современников произошла пусть не столь сенсационная в конечном итоге, однако более чем драматичная смена парадигмы в российской культуре. Это отразилось в полном смещении действовавших до тех пор ориентировочных норм, признаки которых нашли свое отражение в становящейся начиная с 1991/92 годов все более отчетливой общественной модели. Ее основные конституционные принципы базируются на сложившихся совершенно по-новому отношениях взаимосвязи между культурой, государством, обществом, экономикой и личностью, для которых гласность хотя и составляла предпосылку, но не являлась, однако, решающим условием. Сюда же следует среди прочего отнести также тот факт, что эта общественная модель не пропагандировалась громогласно и не комментировалась открыто в прессе, а формировалась, так сказать, беззвучно и не привлекая внимания. Ее развитие не основывается более на преобразовании модели, формировавшейся на протяжении 70 лет, хотя в ней и продолжают, как и прежде, действовать некоторые основные принципы исходной модели, не становясь, однако, при этом доминантными.
Каковы же основные признаки новой парадигмы и как они взаимодействуют друг с другом?
Разнообразность и широкая доступность средств массовой информации, ставшие возможными с приходом гласности, стали рассматриваться начиная с этого момента как нечто само собой разумеющееся; никто более не думает о том, что им может снова грозить опасность. Итак, гласность не является более непосредственным двигателем общественных процессов, она создает лишь необходимую для них среду. В сущности, гласность выполняла двигательную функцию лишь в период до 1990/91 годов, так как, вместо того чтобы способствовать формированию общества с новой правовой и экономической структурой, она вызвала длительную активизацию культурного сознания, но и одно это уже было выдающимся событием. Благодаря этому проявились разнородность и противоречивость общественной реальности, и только теперь появилась возможность открыто обсуждать факты, которые раньше замалчивались или манипулировались. Если, наконец, принять во внимание огромное количество информации, исходившей из совершенно иных культурных традиций и опыта, считавшихся до сих пор «чуждыми» моделей, которые в свою очередь тоже оказывали влияние на общество, то прежнее, как правило, стереотипное «советское» сознание» было не только не в состоянии справиться с этим процессом, оно подверглось прямо-таки неизбежному процессу испытания на прочность.
Появление всей альтернативной информации не имело в это время никакого значения, принципиально ставящего власть под сомнение, но оно вызвало, с одной стороны, большую неуверенность как среди административного аппарата, так и у правящий власти, с другой же стороны, реактивировало многие конструктивно задуманные инициативы в тех сферах, которые не были охвачены узким понятием культуры. Таким образом, были созданы хотя бы некоторые предпосылки, оказавшиеся после отказа от коммунистической партии и в конечном счете от ее права на власть очень существенными для возможностей развития тех сфер, для которых гласность не являлась исключительным условием. Здесь в первую очередь следует назвать экономику и всю сферу юриспруденции в целом.
После того, как коммунистическая партия перестала быть последним, хотя и рассматриваемым с дистанции общественным ориентиром, распад Советского Союза на отдельные республики, усиление региональной власти по сравнению с прежними центрами власти, перераспределение партийного и государственного имущества, произошедшая в это же время либерализация цен и вызванная ею инфляция оказались решающими для процесса переориентации общества и образования новой общественно-политической и культурной парадигмы. Следствием преобразования и создания новых структур власти была, начиная с этого момента, общественная активность на всех уровнях. Там, где на ранней стадии перестройки средства массовой информации должны были мобилизовать сознание и кроме того осуществлять функции контроля за партией и парламентом (Верховным Советом), деньги как свободно применяемое средство власти стали играть центральную роль в процессе общественного формирования. Именно деньги легли в конечном итоге в основу нового определения социальных ценностей для каждого в отдельности и составили основу для реорганизации социальной пирамиды.
Этот процесс, протекавший сначала незаметно для прессы, занятой множеством поверхностных проблем, начали и развивали люди, не игравшие прежде ни в культуре, ни политике, ни в экономике никакой существенной роли. Это были в большей мере люди, для которых решающее значение в их успехе по созданию новых позиций власти имело не столько их образование, сколько находчивость (не в последнюю очередь их способность обойти закон). Существенным было только одно — их умение пробиться, что нередко отражалось в их стремлении улучшить свой имидж, используя услуги телевидения, которые они сами же и финансировали, а также в выставленном напоказ богатстве. Эта иногда особенно сильно бросающаяся в глаза диспропорция между отсутствием образования и финансовыми возможностями отразилась в огромном количестве анекдотов «о новых русских», которые сводились все к одному смыслу: хотя у тебя и есть деньги, но ты на самом деле не знаешь, что ты, в сущности, необразованный, а то и глупый человек.
Итак, культура и образование не имели решающего значения для процесса преобразования и выживания. Непосредственным стимулом, побуждающим к действиям, хотя бы из одного только стремления выжить, в это время почти для каждого человека стали деньги. Имеешь — или не имеешь, от этого зависела свобода действий, свобода передвижения и проживания, улучшение социального статуса, а также влияние. Так деньги все больше и больше вытесняли первоначальное переплетение связей и систему привилегий старой власти.
Переход от вакуума власти, который постепенно сформировался на первой фазе перестройки по причине того, что влияние административного и управленческого аппарата ослабло, к новой консолидации центра власти, происходил одновременно с усилением значения денег, которые собственно стали «третьей правящей властью». На основе этого возникло своего рода чувство вседозволенности, а регулирующие критерии, действительные когда-то для каждой сферы, признавались лишь условно. Целостность государства и общества была нарушена, а ответственность каждого в отдельности перед обществом в целом существовала только на словах. Если прежде общественно-политическая система и ее механизмы власти были решающими для каждого в отдельности, то теперь определяющими для большей части общества все чаще становились группы, имеющие общие интересы, и даже отдельные личности, которые, пользуясь моментом, удовлетворяли свои собственные интересы и интересы своего клана. На смену идеологически обоснованному отождествлению с государством или хотя бы со связанными с ним принципами действия приходит отождествление со своей собственной сферой влияния и преследование своих собственных интересов. Первоначальное намерение создать все условия для корректуры и модификации исходной системы было забыто и пожертвовано в пользу идеи «приватизации государства». Это, в свою очередь, опять же способствовало распаду исходной системы и ускорило его. Взаимосвязь между экономикой, обществом, культурой, образованием и т.д. подверглась таким образом настоящему и длительному процессу структурного переформирования.
Самым страшным в этом, и в настоящее время еще не законченном, процессе было то, что это так называемое новое структурное формирование не имело продуманного концепта и уже в ранней стадии оказалось под сильным влиянием капитализма. Эта тенденция вызвала в свою очередь у многих людей чувство неуверенности и ностальгии по доперестроечным временам, во всяком случае по «сильной руке», и вынудила политических деятелей в их борьбе за избирателей идти на популистские компромиссы. Этим объясняется, почему пережитки и регулирующие критерии прежней модели встали в один ряд с новыми идеями и идеями, заимствованными из других общественных моделей, и были приспособлены к некоторым частям старой или во всяком случае казавшейся новой системы, не став при этом интеграционной частью общего концепта. Характерным поэтому для новой и противоречивой культурной парадигмы является отсутствие инстанции, которая бы в большей или меньшей мере признавалась всеми и которая могла бы руководящим образом расставить новые акценты в сложившейся общественной ситуации, где все беспорядочно перемешалось.
В качестве примера я приведу здесь приватизацию сферы образования по англосаксонскому образцу, проведенную, несмотря на нехватку необходимых для этого финансовых ресурсов: в России не имеется ни среднего общественного слоя, который был бы экономически достаточно сильным, чтобы изыскать необходимые для этого средства, ни развитой структуры фондов. Или еще один пример из той же сферы: введение дипломов бакалавра и магистра с ориентировкой на рыночную экономику, где спрос регулирует предложение. Насколько проблематичной такая система обучения оказалась даже для самой Америки, где существует совершенно иная, чрезвычайно гибкая экономическая и социальная система, давно известно. Насколько же сложнее должна быть ситуация в России, находящейся почти на уровне развивающихся стран, где из-за новых тенденций в системе образования фундаментальным исследованиям уделяется столь же мало внимания, как и дальновидной научной политике, и работе с молодыми кадрами.
Следующая отличительная черта новой парадигмы, сформировавшейся вследствие многообразия средств массовой информации и коммерциализации общественной жизни, заключается в активизации потребительской ориентации. Эта ориентация не только оживила экономические интересы, она способствовала в то же время созданию нового вида массовой культуры. С этой специфической массовой культурой переплелись признаки свободы (теперь не только в смысле свободного доступа к информации), вседозволенности и всесторонних возможностей. Кроме того, возможность планирования и претворения в жизнь любых целей привела к тому, что довольно легко и бездумно пропагандировались реформы во всех сферах общественной жизни (среди прочего и в экономике), хотя на самом деле они имели скорее «характер мелкого ремонта». Типичным было поэтому процветание таких сомнительных концептов повсюду там, где в период до 1991 года на первом плане стояла оптимизация исходной системы. Обещанный при этом прогресс состоял большей частью в бесконтрольном и окончательном распаде исходной системы в условиях рынка. Эта ситуация примечательна тем, что в это время наряду с нестабильностью в экономике и социальной психологии, а также формированием совершенно новых жизненных, трудовых и ориентировочных параметров, происходит создание новой элиты.
Далее эту парадигму характеризует в общем противоречивый опыт, который способствовал в конечном итоге новому виду «нормализации». Нормальность новой ситуации представляла собой странный симбиоз из собственного и чужого моделирования, не имевшего никаких ясных целей. Его структура выстроена теперь многоступенчато, а не состоит, как раньше, из двух полюсов, причем одни считают его успехом, у других же он вызывает чувство неуверенности. Что у одних вызывает чувство эйфории, то является для других разочарованием. Создавшаяся из этого противоречивая смесь различных «жизненных условий» воспринимается людьми как «хаос», «абсурд» и т.п. Характеризует эту парадигму то, что бывшие «винтики» вырвались из механизма строго контролируемой административной и руководящей системы и стали самостоятельными, относительно свободными и по-новому организованными силами.
В этом неизбежно проявляется следующий признак: с одной стороны, противостояние бывшей старой общественной системе, с другой стороны, ностальгия по ее защищающему спокойствию и сильным ориентирам. Это, однако, было для каждого в отдельности уже недостаточным для того, чтобы найти по меньшей мере свое место, если не в обществе, то хотя бы в жизни.
Новую парадигму пронизывает новый вид проблемы, возникший частично при больших смещениях, имевших место в экономике, а также в социальной пирамиде. В своем конечном воздействии они настолько сильны, что должны были быть компенсированы стабилизирующими формами и механизмами культуры. Но так как никто не был интеллектуально подготовлен к столь необычной для России ситуации, а культура, как известно, проявляет независимую реакцию на общественно-политические потрясения лишь запоздало, особенно если эти потрясения происходят постепенно, все нововведения воспринимались негативно и вызывали в первую очередь скепсис. Открывшиеся при этом в культуре в принципе широкие возможности для проведения конструктивных изменений остались далеко не использованными.
Советская культура, сформировавшаяся в полной изоляции от других традиций и подвергшаяся с самого начала экстремальной манипуляции, стала в период 1987–1991 годов содержательнее и разнообразнее, можно даже сказать, что она в какой-то мере «ренормализовалась». Эта «нормализация» произошла за счет хлынувшего из других культур огромного потока информации и опыта, что значительно расширило объем знаний, компетентность же их соответствующей переработки оказалась небольшой. Восприятие и отражение распались и обогатили новую культурную атмосферу скорее поверхностно, чем существенно. Исходя из одних только этих причин, формирующаяся новая культура не могла перенять компенсирующую, регулирующую или связывающую функцию. Она сама состояла из знаний, имевших спорный или относительный характер.
Стабилизирующая, однозначно регулирующая функция культуры, не пользовавшаяся больше спросом как культурное богатство, приобрела в течение нескольких лет сомнительный характер. Вдруг не стало больше ни литературы, ни искусства, отвечающих ясным и гарантированным нормам. Многие отрасли науки, в первую очередь касающиеся культуры, оказались противоположностью тому, чем их считали. Достоверность и информационная ценность исторической науки оказались сомнительными. Так, новые знания в области истории не использовались в первую очередь для того, чтобы преодолеть (переработать) прошлое, они удовлетворяли, скорее, как и многие средства печати, потребность в разоблачающих сенсациях и создании мифов. Доминирующими в разнообразии и противоречивости информации, захлестнувшей страну, были события. Недостаточное отражение этой не обрывавшейся цепи событий не послужило таким образом облегчением для формирования столь необходимой новой культурной ориентации, напротив, оно скорее вызвало в этот период сильнейшее чувство неуверенности. Вместо того, чтобы развить культуру конструктивной дискуссии, все события обсуждались лишь поверхностно и в большей или меньшей мере забалтывались. Очередная новая информация и комментарии нарушали иерархию канонов знаний, не получив при этом однако глубокого отражения, что являлось для этого времени решающим. Эта информация лишь усиливала чувство всеобщей нестабильности. Понятно, что на фоне этого речь шла о «хаосе», «абсурде», «потере ориентации» и «кризисе», и громко раздавались ностальгические призывы возродить прежнюю единую культурную модель или провозглашались широко задуманные, мифические планы ее интерпретации. Итак, попытка культурного подъема одновременно сопровождалась желанием вернуть назад атмосферу культурного спокойствия, застоя и т.д. Условия для коренных структурных изменений в культуре в общем, и в области образования в частности, были таким образом столь же противоречивыми, как и преобразования во всех остальных сферах общества. Молчаливый девиз в этой ситуации мог поэтому означать лишь следующее: Изменения — «да», но только не настоящие. Скрывающиеся за подобной позицией принципы действия служат исходным пунктом для самоблокады системы и необязательно должны иметь что-то общее с неприятием реформ, с нападками на реформы, с неповоротливостью и неспособностью административного аппарата к изменениям.
Бросающаяся в глаза противоречивость позиций носителей культуры и потребителей культуры свидетельствует о том, что хотя независимость средств массовой информации и способствует многообразию мнений и представляет собой существенную предпосылку для создания дифференцированного плюрализма в культуре и в обществе, она может в то же время предъявлять чрезмерные требования к обществу. Такая ситуация складывается особенно тогда, когда происходят принципиальные изменения прочих регулирующих параметров, прежде всего, естественно, в экономической и социальной системах, когда способность людей переработать общественные волнения, происходящие в стране, достигает своих границ. Еще тяжелее в социально-психологическом смысле подобная ситуация становится тогда, когда в такие переходные времена особенно актуальное напряженное соотношение между продолжением старого общественно-политического состояния и общественно-политическим новоначинанием так же мало служит темой для разъяснительной и основательной дискуссии, как и непременно необходимое новое определение функций культуры. Ведь как же иначе можно было отразить вопрос о своем и чужом самоопределении? Как же иначе можно было быть компетентно интегрировать в свою культуру функции и ценность культурного опыта, достигнутого кем-либо другим? Проблема новой культурной парадигмы заключается таким образом в понимании того, что в ситуации столь драматического перелома функция культурной деятельности не должна ограничиваться тем, чтобы подвергать сомнению и контролировать соотношение сил, что она должна кроме того стать в первую очередь инструментом анализа общественного состояния.
И в заключение еще один признак, который дал о себе знать в это время и который, возможно, найдет еще большее развитие в будущем, а может быть и в нашем обществе.
В ситуации экономического и культурного кризиса в период после 1991/92 годов бросаются в глаза прежде всего две вещи: во-первых, это различное признание попыток объяснить историю, а возможно даже и несостоятельность моделей объяснения истории советского периода, что проявлялось, как казалось, в своего рода усталости от попыток реконструкции исторических событий. Вследствие этого общество усиленно погружается (чему иногда в зависимости от обстоятельств также способствуют средства массовой информации) в неподверженную времени, находящуюся под влиянием других национальных традиций массовую культуру, для которой историческое мышление и реконструкция больше не являются приоритетами. Во-вторых, очевидно благодаря тому, что иерархия культурной ценности первоначальных канонов нарушилась и создались конкурирующие системы ценностей, в культуре в общем сложилось новое отношение к исторически возросшим ценностям, феноменам и т.д. Культурные явления развиваются таким образом не обязательно в течение какого-либо определенного отрезка времени самостоятельно или во взаимосвязи с другими явлениями, они скорее типологически противостоят друг другу в определенном пространственно систематизированном континууме, то есть сосуществуют друг с другом. Так как они кроме того все больше теряют функцию духовного богатства, к ним не надо больше относится как к чему-то святому. С ними теперь можно обращаться прагматически, коммерчески и т.д., а не как с историческими предметами, которые следует благоговейно сохранять только потому, что они исторические. Подобное типологично-прагматическое мышление можно наблюдать прежде всего у сегодняшней молодежи.
Таким образом, принимая во внимание признаки новой культурной парадигмы, никто сегодня, как и прежде, всерьез не заинтересован в реформах в смысле долгосрочных всеобщих общественно-политических перемен. Даже если бы проекты реформ и имелись, то претворить эти реформы в жизнь, как показывает обстановка в сфере вузовского образования и в сфере образования в общем, было бы совершенно другим делом. Инициаторами перемен (например, создание множества частных учебных заведений), происходящих в сфере образования, являются деятели партийного, государственного и военного аппарата, стремящиеся к переменам. За этим стоят интересы думающей о завтрашнем дне новой элиты. Все остальные не обладают знаниями или концептами, необходимыми для подобного предприятия; у них и нет необходимых для этого ресурсов.
Реформы в этих областях имеют и в остальном свои «естественные границы». Исходя из этого, речь в данный момент идет не о реформах, а скорее о частных, то есть негосударственных инициативах. Они вызывают, однако, только частичные изменения и способствуют в очередной раз лишь раздроблению сферы государственного влияния. Конечно, не исключено и то, что формирование всеобщего, принимающего все больше частный характер культурного сектора когда-нибудь настолько усилится в количественном отношении, что он сможет вступить в настоящую конкуренцию с государственным сектором.
На фоне абсолютно единой системы любое незапланированное раздробление выглядит как беспорядочное возвращение к состоянию хаоса. При этом считается, что только порядок имеет смысл, а все что от него отличается — все абсурд.
При этом упускается из виду то, что слишком много порядка может также означать узость и несвободу (исторический опыт, который постепенно уходит в забытье), а так называемый непорядок (здесь не имеется в виду беспорядок) может способствовать проявлению творчества и предоставить больше возможностей для активного претворения в жизнь любых инициатив.
Российское общество продолжает и в условиях этой культурной парадигмы оставаться, как и прежде, раздвоенным. Иногда происходит также раздвоение одних и тех же личностей, как это было прежде, когда имелось два сознания: одно — официальное, другое — неофициальное. Так человек, занимающий сегодня какой-либо пост, вполне может быть противником реформ и перемен в своей сфере, когда же дело касается других сфер, он может быть очень инициативным.
Тот факт, что вертикальные механизмы контроля и управления по сравнению с прошлым с одной стороны ослабли, или даже полностью исчезли, и во многих сферах проявляются инициативы, позволил между тем новым негосударственным структурам по крайней мере сформироваться. Одно это уже является зачастую большим преимуществом. Условием для таких инициатив является, однако, гарантия их финансирования. Так как государство отстранилось от деятельности в сферах культуры и образования, развитие или даже реформы этих сфер будут еще какое-то время пронизаны противоречивостью и дезориентацией.
Фактом стало между тем одно: прежняя структура советско-российской культуры, организованная по принципу двух полюсов, переформировалась во время перестроечного периода до 1990/1991 года в единую модель со смешанными полюсами и представляет собой сегодня противоречивую полиструктуру без преобладающих доминант.
Перевод Эмилии Артемьевой
Из: Русская культура на пороге нового века. Саппоро, 2001. С. 3–19.
Литература
Данные размышления основываются на статьях автора, опубликованных начиная с 1991 года в ряде сборников:
Шесть лет перестройки в области культуры. Предыстория и ход событий // Osteuropa. 1991. Кн. 11. С. 1077–1088 (на немецком языке).
Между стремлением к проведению реформ и самоуправством. Сотрудничество с российскими вузами в сфере культуры и науки: предпосылки, возможности, перспективы (1991–1993) // Wirtschaft und Wissenschaft (Stifterverband fur die Deutsche Wissenschaft). 1993. Вып. 2. C. 10–19 (на немецком языке).
Формирование нового понятия культуры в российском послевоенном искусстве (1945–1963) (ч. 1) // Chr. Ebert (ред.). Восприятие культуры в литературном мире России. Последовательность и изменения в XX веке. Берлин, 1995. С. 207–236 (на немецком языке).
О положении гуманитарных дисциплин и изменении структуры российских вузов // К. Eimermacher, А. Ilartnwin/i (ред.). Russische Hochschulen lieute. Situation und Analvsen. Бохум, 1995. C. 11–31 (на немецком языке).
Между последовательностью и новоначинанием. Российская культура в переломной фазе (1985–1995) // К. Eimermacher, D. Krelzschmar, К. Waschik (ред.). Rußland, wohin eilst Du? Perestrojka und Kultur. Дортмунд, 1996 (= серия: Dokumente und Analysen zur sowjetischen Kultur. Т. 5, ч. 1 и 2). С. 3–25 (на немецком языке).
Советское изобразительное искусство до и во время перестройки // К. Eimermacher, D. Kretzschmar, К. Waschik (ред.). Rußland, wohin eilst Du? Perestrojka und Kultur. Дортмунд, 1996 (= серия: Dokumente und Analysen zur sowjetischen Kultur. Т. 5, ч. 1 и 2). С. 495–554 (совместно с Е. Барабановым) (на немецком языке).
Запоздалый счет за ранние грехи: движение, застой и попытка реформ в российской вузовской и научной системе // К. Eimermacher, А. Hartmann (ред.). Der gegenwertige russische Wissenschaftsbetrieb — Innenansichten. Бохум, 1996. C. 11–22 (на немецком языке).
Условия структурного изменения вузовской и научной системы в России // К. Eimermacher, А. Hartmann (ред.). Deutsch-russische Hochschulkooperation: Erfahrungsberichte. Бохум, 1996. С. 5–12 (на немецком языке).
Источник: Аймермахер К. Воззрения и понимания. Попытки понять аспекты русской культуры умом. М.: АИРО-XXI, 2018. С. 134–154.




Комментарии