Джон Пантелеимон Мануссакис
Фигуры молчания: к богословской эстетике языка
Глава из книги «Бог после метафизики: богословская эстетика».
 3 904
3 904 
© Saint-Petersburg orthodox theological academy
Так называемый «лингвистический поворот» в аналитической и континентальной традициях ХХ века сделал язык узловой проблемой, которой посвящалась и посвящается бóльшая часть философской продукции по обе стороны великого водораздела. Разумеется, человеческий логос (в его многообразных исторических преломлениях) немало превозносили и античные, и средневековые, и модерные мыслители. Ведь, в конце концов, именно язык, в его самом простом и фундаментальном аспекте — нашей способности озвучивать слова (sonorous capacity), а значит, общаться с другими, и делает нас личностями (persons от per—sonare). Язык позволяет нам мыслить, благодаря языку мы даем выражение себе и миру вокруг нас. И все-таки, никогда еще язык не представал той единственной парадигмой, которой подчинялась бы вся эпистемология и онтология, по сути, все философское мышление в целом.
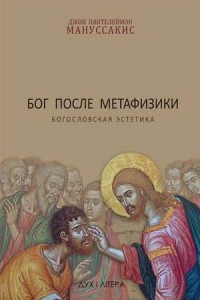 Язык обретает смысл лишь благодаря различению. Любая единица любого данного языка (слово, цвет, шахматная фигура) имеет значение лишь постольку, поскольку она отличается от всех остальных. Каждое слово (включая слова, которые слышатся или пишутся одинаково) становится понятным благодаря своему отличающемуся месту в синтаксической структуре (существительное, глагол и т.д.). Язык и есть эта система различений, система, основанная на различениях и порождающая различения. Само значение предстает побочным продуктом этой игры различений. Таким образом, различение закидывает свои сети так далеко и в то же время опутывает нас так плотно, что уже невозможно помыслить ничего «вне» языка, «за пределами» языка. Не существует ничего иного по отношению к языку. Всякая инаковость (otherness) исчерпывается в пределах языка как различение (difference). Все, ускользающее от языка, есть неизреченное, немыслимое, несуществующее, ничто и меньше, чем ничто.
Язык обретает смысл лишь благодаря различению. Любая единица любого данного языка (слово, цвет, шахматная фигура) имеет значение лишь постольку, поскольку она отличается от всех остальных. Каждое слово (включая слова, которые слышатся или пишутся одинаково) становится понятным благодаря своему отличающемуся месту в синтаксической структуре (существительное, глагол и т.д.). Язык и есть эта система различений, система, основанная на различениях и порождающая различения. Само значение предстает побочным продуктом этой игры различений. Таким образом, различение закидывает свои сети так далеко и в то же время опутывает нас так плотно, что уже невозможно помыслить ничего «вне» языка, «за пределами» языка. Не существует ничего иного по отношению к языку. Всякая инаковость (otherness) исчерпывается в пределах языка как различение (difference). Все, ускользающее от языка, есть неизреченное, немыслимое, несуществующее, ничто и меньше, чем ничто.
Возможность или невозможность языка о Боге упирается в эту проблематику различения и инаковости, согласно которой «язык о Боге» может означать только две вещи: либо (а) «Бог» рассматривается лишь как одна лингвистическая единица среди прочих (слово, понятие), значение которой регулируется системой различений, в которые она вписана; в таком случае, «Бог» — это означающее без означаемого, ведь, как мы видели, не может быть ничего иного по отношению к языку; либо (б) Бог есть Бог и Его следует воспринимать как «отличающегося» за пределами различений, или же как «не-отличающегося», Иного по отношению к языку, то есть как совсем Иного. Его инаковость означает коллапс языка, поскольку Он оказывается означаемым без означающего; следовательно, к Нему можно обращаться лишь молчанием.
Итак, у философии остается только два возможных подхода к Богу: сведéние Бога к имманентности языка (катафатический путь) или же изгнание Бога в трансцендентность молчания (апофатический путь). Однако одно другому не противоречит, как это может показаться на первый взгляд; две позиции предполагают друг друга. Выбор между ними — это псевдодилемма, поскольку выбор одной из них автоматически предполагает и другую. В этой главе мы представим критический обзор обеих позиций на основе текстов Витгенштейна […] Только такое критическое рассмотрение может обнаружить философские предпосылки, разделяемые как аналитическим молчанием, так и деконструктивным отрицанием, и тем самым подготовить нас к следующему шагу — к выходу за пределы различения и инаковости к языку, на котором не столько говорят, сколько слушают. Вообще же в этой Части ІІ настоящей книги наше обсуждение перейдет от колебания языка между системой и молчанием (глава 4) к их преодолению в гимне (глава 5) с его обратной акустикой, дополняющей обратную перспективу Части І, после чего мы, наконец, встретимся с новым «субъектом» языка, понятым уже не как говорящий, но как призываемый (глава 6).
Язык и различение
«Не думай, — заклинает нас Витгенштейн, — а смотри»: его взгляд на философию наводит исследователей на мысль, что его философский метод состоит скорее в «показе», чем в «рассказе» (как у большинства традиций). Возможно, именно поэтому «Бога» — «вещь», которую показать никак нельзя, — ему пришлось сразу же исключить из сферы собственно философского мышления при помощи ставшей классической формулы: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать». Однако местами его молчание нарушалось достаточно, чтобы выдать себя следующими двумя тезисами:
«О том, какого рода объектом является нечто, дает знать грамматика» («Теология как грамматика»). — «Сами по себе слова не дают знать, как понимать слова» («Теология»).
В ходе наших дальнейших рассуждений мы попытаемся распутать эти высказывания с их ссылками на теологию (в скобках). Что значат слова о том, что богословие «как грамматика?» К какому роду слов относится слово «Бог»? Как используется слово «Бог»? Каким может быть значение такого слова и как оно может что-то означать?
Впрочем, тут стоит сразу оговориться, что мы рассматриваем только язык о Боге (бого-словие) и каким образом такой язык («объектом» которого является Бог) может быть осмысленным; понимание Бога у Витгенштейна никак не могло быть экстралингвистическим. Ведь как хранитель кантианских традиций он знал, что к феномену Бога как таковому невозможно обратиться, его можно только описать. Это описание ограничено механизмами (прежде всего, языком), через которые мы познаем его:
«Нам представляется, будто мы должны проникнуть вглубь явлений, однако наше исследование направлено не на явления, а, можно сказать, на “возможности” явлений. То есть мы напоминаем себе о типе высказывания, повествующего о явлениях… Поэтому наше исследование является грамматическим».
В начале: две истории о языке
Я бы хотел начать это обсуждение с анализа первых глав «Философских исследований» Витгенштейна, поскольку именно там возникает концепция языка как языковой игры (Sprachspiel). Голос, с которого начинается эта книга, — это, как ни странно, не голос Витгенштейна, а голос ребенка, который, как он нам сообщает, только что научился говорить:
«Разве не перешел я, подвигаясь к нынешнему времени, от младенчества к детству? Или, вернее, оно пришло ко мне и сменило младенчество. Младенчество не исчезло — куда оно ушло? И все-таки его уже не было. Я был уже не младенцем, который не может произнести слова, а мальчиком, который говорит, был я. И я помню это, а впоследствии я понял, откуда я выучился говорить. Старшие не учили меня, предлагая мне слова в определенном и систематическом порядке, как это было немного погодя с буквами. Я действовал по собственному разуму, который Ты дал мне, Боже мой. Когда я хотел воплями, различными звуками и различными телодвижениями сообщить о своих сердечных желаниях и добиться их выполнения, я оказывался не в силах ни получить всего, чего мне хотелось, ни дать знать об этом всем, кому мне хотелось. Я схватывал памятью, когда взрослые называли какую-нибудь вещь и по этому слову оборачивались к ней; я видел это и запоминал: прозвучавшим словом называется именно эта вещь. Что взрослые хотели ее назвать, это было видно по их жестам, по этому естественному языку всех народов, слагающемуся из выражения лица, подмигиванья, разных телодвижений и звуков, выражающих состояние души, которая просит, получает, отбрасывает, избегает. Я постепенно стал соображать, знаками чего являются слова, стоящие в разных предложениях на своем месте и мною часто слышимые, принудил свои уста справляться с этими знаками и стал ими выражать свои желания. Таким образом, чтобы выражать свои желания, начал я этими знаками общаться с теми, среди кого жил; я глубже вступил в бурную жизнь человеческого общества, завися от родительских распоряжений и от воли старших».
Этот жест Витгенштейна, который начинает свои «Философские исследования» с цитаты из автобиографических мемуаров христианского епископа IV века, привлек внимание растерянных комментаторов и спровоцировал некоторые интересные наблюдения. Рассказ Августина о его переходе от младенчества к отрочеству — от бессловесия к языку — знаменует переход от молчания, предшествовавшего «Философским исследованиям» (молчания, торжественно завершающего Трактат), — к языку, открытому «Философскими исследованиями». Воспоминания Августина о том, как он обрел язык, интересны Витгенштейну постольку, поскольку, согласно ему, они дают нам «особую картину действия человеческого языка». Точнее:
«Она такова: слова языка именуют предметы — предложения суть связь таких наименований. В этой картине языка мы усматриваем корни такого представления: каждое слово имеет какое-то значение. Это значение соотнесено с данным словом. Оно — соответствующий данному слову объект».
Представление Августина о языке можно выразить в таком упрощенном девизе: «Все слова — это имена». Этот подход предполагает изоморфное соответствие между языком и вещами: говоря слово, попадаешь в предмет. Если мы попытаемся последовать этому методу, то вскоре поймем, что он хорошо работает на таких словах, как «камень», «стол», «книга» и т.п., но проблемы начинаются тогда, когда мы переходим к словам «красный», «боль» и, быть может, «Бог»; не говоря уже о таких категориях слов, которые мы постоянно используем, хотя на них никак невозможно указать, например глаголы или наречия. Одним словом, Витгенштейн критикует этот рассказ Августина о языке за его неспособность отличать (distinguish) разные роды слов или, точнее, проводить различие (в языке и его использованиях). Однако то привилегированное место, которое дано голосу Августина в начале книги Витгенштейна, обусловлено не только желанием последнего опровергнуть старую теорию языка, тем паче, что и сам Августин, как свидетельствуют другие места его «Исповеди», не был так наивен, чтобы в нее верить. Скорее, эта цитата введена Витгенштейном с двойной целью: во-первых, чтобы критически пересмотреть собственное понимание языка в «Трактате», во-вторых, чтобы ввести новое понимание языка, основанное на метафоре языковой игры. Его самокритику мы видим в утверждении, что картинка Августина послужила основанием для «следующей идеи»: «Каждое слово имеет какое-то значение. Это значение соотнесено с данным словом. Оно — соответствующий данному слову объект». Нетрудно различить в этих словах собственный подход Витгенштейна, выраженный им в Трактате, что значение языка составляется его референтом. Согласно этому взгляду, бессмысленно было бы говорить о чем-либо, что не является аподиктически очевидным (т.е. присутствующим).
Итак, воспоминаниям Августина Витгенштейн противопоставляет собственную историю об использовании языка:
«Ну, а представь себе такое употребление языка: я посылаю кого-нибудь за покупками. Я даю ему записку, в которой написано: “Пять красных яблок”. Он несет эту записку к продавцу, тот открывает ящик с надписью “яблоки”, после чего находит в таблице цветов слово “красный”, против которого расположен образец этого цвета, затем он произносит ряд слов, обозначающих простые числительные до слова “пять” — я полагаю, что наш продавец знает их наизусть, — и при каждом слове он вынимает из ящика яблоко, цвет которого соответствует образцу. Так или примерно так люди оперируют словами».
История Витгенштейна сразу поражает нас своей странностью. Эта странность заключается не только в гротескном преувеличении тех повседневных действий, которые мы узнаем (или не узнаем) в рассказе: неужели, думаем мы, в Вене времен Витгенштейна лавочники держали продукты в ящиках стола (drawers) и сверялись с табличками цветов прежде, чем отпустить товар. Но кроме этого, нас удивляет странность истории о языке, из которой изгнаны все проявления речи. Это безголосая история, немая сцена. В остром контрасте с рассказом Августина, где доминирует голос, Витгенштейн отдает предпочтение молчанию писаного знака: всякая коммуникация между рассказчиком, исполнителем его поручения и лавочником происходит в молчании. Витгенштейн хочет отделить язык от речи, возможно, следом за Фердинандом де Соссюром, который несколькими годами ранее осуществил знаменитое разделение между языком (la langue) и речью (la parole). Только благодаря этому различению язык мог быть рассмотрен как гомогенная система знаков, которая охватывает, но намного превосходит речь. «Язык, выделенный таким образом из совокупности явлений речевой деятельности… занимает особое место среди проявлений человеческой жизни».
В пределах языка: значение
Что делает слово или предложение осмысленным в противовес бессмыслице? Прежде вопроса о том, что означает язык, следует задаться вопросом, как он означает. На эти вопросы нет простого ответа. Однако нам могут помочь некоторые прозрения Витгенштейна и Соссюра. Для обоих мыслителей смысл высказывания зависит от ряда параметров: кто говорит, как он говорит, откуда он говорит. Обратимся к примеру Августина. Витгенштейн делает следующее замечание:
«Можно сказать, что Августин действительно описывает некоторую систему коммуникации, но только не все, что мы называем языком, охватывается этой системой… Это похоже на то, как если бы кто-то объяснял: “Игра состоит в передвижении фигур по некой поверхности согласно определенным правилам…”, а мы бы ответили на это: “Ты, по-видимому, думаешь об играх на досках, но ведь имеются и другие игры. Твое определение может стать правильным, если ты четко ограничишь его играми первого рода”».
Здесь впервые устанавливается аналогия между языком и игрой. В нескольких дальнейших примерах язык (или то, что скоро будет названо языковой игрой) сопоставляется с игрой в шахматы — точно та же аналогия, которую часто использует в своих лекциях и Соссюр. Что отличает концепцию языковой игры от обычной речи, так это то, что первая оживляет грамматику той «игры», в рамках которой обретают смысл ее ходы. Языковая игра представляет собой некое целое — единство правил и практики игры, «язык и действия, в которые он вплетен» — и, в конечном счете, сообщество, которое осуществляет эти действия. Эти же три фактора, определяющие языковую игру — грамматика (как), практика (откуда), сообщество (кто) — мы находим и у Соссюра, который описывает язык (la langue) как клад, практикой речи отлагаемый во всех, кто принадлежит к одному общественному коллективу, это грамматическая система, виртуально существующая у каждого в мозгу, точнее сказать, у целой совокупности индивидов, ибо язык не существует полностью ни в одном из них, он существует в полной мере лишь в коллективе (выделено мной. — Дж.П.М.).
Говорить на языке (die Sprache sprechen) — значит играть в игру (das Spiel spielen). Это предполагает еще несколько общих характеристик, которые я могу упомянуть здесь лишь мельком: оба подчиняются определенным правилам (грамматика), которые не могут быть изменены игроками (синхроническая неизменяемость), но могут меняться со временем (диахроническая изменчивость); в обоих значение автономно — т.е. оно не отсылает ни к чему (реальности, авторитету) кроме себя; и оба произвольны.
Грамматика
Если оставаться в пределах аналогии между языковой игрой и игрой в шахматы, слова обретают смысл благодаря их функции в языке, так же как каждая шахматная фигура имеет значение только на шахматной доске:
«Возьмем коня: является ли он сам по себе элементом игры? Конечно, нет, потому что в своей чистой материальности вне занимаемого им поля на доске и прочих условий игры он ничего для игрока не представляет; он становится реальным и конкретным элементом в игре лишь постольку, поскольку он наделен значимостью и с нею неразрывно связан».
Или:
«Если кому-нибудь показывают фигуру шахматного короля и говорят: “Это король”, то этим ему не разъясняют применения данной фигуры — разве что он уже знает правила игры, кроме вот этого последнего момента — формы фигуры короля. Можно представить себе, что он изучил правила игры, но ему никогда не показывали реальной игровой фигуры. В этом случае форма шахматной фигуры соответствует звучанию или визуальному образу некоторого слова».
Итак, значение слова или любого другого знака никак не назовешь врожденным, оно конституируется вариантами его функционирования в системе, по сопоставлению и сравнению с другими словами и другими знаками; в конечном счете, слово имеет значение лишь постольку, поскольку оно отличается. Язык — это «сумма» (неисчерпаемая, всегда неполная) этих множественных различений. Витгенштейн снова и снова рассуждает о словах из шекспировского «Короля Лира»: “I will teach you differences” [1], которые он хотел использовать в качестве эпиграфа своей книги.
Язык проявляет функции грамматики в той мере, в какой все возможные различения между словами организуются в единое целое и, что еще более важно, создается пространство для разворачивания этих различений. Таково понимание грамматики: это сама возможность структуры, которая делает возможным взаимодействие (interplay) между словами, различает роды слов и категории их употреблений и признает эти различения.
Слово «Бог» не может быть исключением из правил. Это слово также обретает смысл только при использовании определенным сообществом по определенным правилам. Исходя из его лексиграфической нагрузки «Бог» — это невозможное слово, невозможное и бессмысленное, поскольку в этом случае невозможно ничего показать. Покуда оно остается лексемой, слово не претендует ни на что, кроме мимесиса: оно представляет что-либо (some-thing). Это репрезентация фактической реальности (лексема, таким образом, предстает продуцированием копии, репродуцированием предмета, только в другом порядке — в порядке фонетических и графических знаков). Но нет такого «что» — такой вещи (no-thing), — на которую указывает слово «Бог». «Бог» не может быть именем «вещи» (c точки зрения религии, это было бы идолослужением, а с точки зрения философии — бессмыслицей), и пока мы не перейдем к употреблению этого слова, мы не сможем даже понять, что это: нарицательное существительное или имя собственное. Слово «Бог» без языка, которому оно принадлежит, — это все равно что «конь» без шахматной доски и правил игры: мы просто не знали бы, что с ним делать. Витгенштейн признает это, когда цитирует Лютера и, соглашаясь с ним, говорит: «Теология — это грамматика слова “Бог”». Но грамматика действует только по вертикальной оси, т.е. в синхронии; это подвергает нас риску вырвать язык из его исторического, диахронического измерения, сводя его лишь к одному — к структуре.
Практика и сообщество
Что способно спасти язык от утраты исторического измерения — это практика, то есть практическое воплощение его употребления сообществом. Как подчеркивает Витгенштейн, «термин “языковая игра” [Sprach-spiel] призван подчеркнуть, что говорить на языке — это компонент деятельности или форма жизни». И опять: «Представить же себе какой-нибудь язык — значит представить некоторую форму жизни». Здесь налицо двойственное представление об отношении практики к языку: с одной стороны, оно отдает приоритет лингвистической практике над значением, с другой стороны, оно возвращает валюту значения в лингвистический оборот. «А значение имени иногда объясняют, указывая на его носителя». Бессмысленно только то слово, которому еще не приписано никакое употребление или его употребление уже забыто, и оно остается всего лишь фетишем безвозвратного прошлого или же палеонтологическим термином, в котором усматривают магическую силу.
Слова, входящие в языковую игру, приглашают задуматься об их употреблении до того, как значение было определено. Чтобы это понять, чтобы понять, почему употребление должно главенствовать над значением, следует осознать простой факт, что слова не витают в вакууме. К примеру, слово «Бог» понятно нам лишь постольку, поскольку мы слышали, как люди употребляли его прежде нас, тем или иным образом. Таким образом, встречаясь с различными употреблениями слова «Бог», мы пришли к «пониманию» того, что оно означает, прежде всякого формального исследования его значения. То, что люди имеют в виду, когда они говорят «Бог…» (а порой они имеют в виду совсем разные вещи), отнюдь не придумано индивидами, которые произносят эти утверждения, а отсылает к долгой истории значения. Именно благодаря этой долгой истории значения мы распознаем слова как осмысленные. И наоборот, употреблять слово, изобретая его значение ad hoc, — это было бы, в буквальном смысле, идиотизмом [2]. Мы рождаемся в язык и живем в мире, где вещи уже без нас наделены значением. Никому из нас не пожалована райская привилегия давать вещам имена, как будто впервые (Быт. 2: 18–20). Кажется, именно об этом напоминает витгенштейнов образ языка как древнего города:
«Наш язык можно рассматривать как старинный город: лабиринт маленьких улочек и площадей, старых и новых домов, домов с пристройками разных эпох; и все это окружено множеством новых районов с прямыми улицами регулярной планировки и стандартными домами».
Как уже было сказано, язык (особенно религиозный язык) всегда «освящается использованием». Это я и назвал бы литургическим [3] характером языка, имея в виду этимологическое значение этого слова: эргон определенного сообщества — его дело и делание. Уже долгое время наши слова входят в эту литургию: они произносятся, пишутся, выкрикиваются и шепчутся. Они выражают борение, опасения и желания; они приводят к насилию, они приносят мир. Разумеется, не бывает слов без дел. И слова — это не просто слова.
И «одно из первых слов, которые мы узнаем» — это слово «Бог». Оно отнюдь не бессмысленно, ведь за века использования этого слова оно обрело избыток смысла. В самом деле, если мы не знаем, что означает слово «Бог», то это именно потому, что знаем слишком много о его значении. Это тот случай полисемии, который Рикёр описывает как «экспансионистский процесс, ведущий к перегруженности смыслом, как это можно видеть на примере некоторых слов, тех, что, означая слишком многое, вместе с тем не означают ничего». Слово «Бог» вполне может превращаться в такое слово, которое перестало именовать Кого-то и свелось к простому знаку — «сакральному» знаку, разумеется, имеющему единственную функцию священной реликвии: превозносимому, поклоняемому и безжизненному. Когда происходит такой коллапс значения, слово возводится в статус фетиша. Фетишизация языка — это симптом патологии знака (по отношению к которой так уязвим религиозный язык). Ролан Барт сумел диагностировать эту патологию, когда писал:
«Мы можем манипулировать означаемыми знака или знаками, только прибегая к именованию этих означаемых, но самим этим актом именования мы превращаем означаемое в означающее.
Означаемое в свою очередь становится означающим… Отступление означаемых, в определенном смысле, неизбежно; теоретически, мы никогда не способны остановить знак на последнем означающем; единственная возможность остановить знак приходит от практики».
Барт говорит здесь о медицинском означаемом, как в случае болезни, когда врач называет ее определенным образом (акт именования); теперь болезнь из означаемого превращается в означающее. Этот процесс может воспроизводиться бесконечное число раз, загоняя нас в «головокружительный круговорот означающих и означаемых». Единственный способ разорвать этот порочный круг — это, по мнению Барта, практика: то есть в какой-то момент врач должен оставить в стороне все проблемы именования болезни и перейти к лечению (это и знаменует переход от «семиотической системы к терапевтической проблеме»). Выход из бесконечной цепочки означающих, даже на одно мгновение, сам по себе имеет терапевтический эффект. Это «вылазка за границы значения», где значение заново открывается на практике.
За пределами языка
Соссюр неоднократно настаивал на том, что язык предшествует говорящему: я не хозяин языка, скорее, наоборот, в языке подчиняюсь я. Иными словами, язык составляет мою фактичность: я рождаюсь в язык и «границы моего языка означают границы моего мира». Как же я могу хотя бы помыслить что-то «за границами» языка? Что еще говорить о языке веры? Что такое «Бог» — одно слово среди многих других? Должны ли мы представлять себе Бога (без кавычек) сведенным абсолютной редукцией к имманентности языка?
Когда на Витгенштейна ссылаются, говоря о языке веры, это, как правило, затрагивает вопрос о верификации или (другая сторона той же медали) о фальсификации религиозных утверждений. Если я говорю: «Я верю в Бога», но у меня нет эмпирических данных, чтобы показать, что Бог (в Которого я верю) существует, мое утверждение лишено смысла. И если я говорю: «Я верю в Бога», но этот тезис не может быть проверен опытным путем, мое утверждение опять-таки лишено смысла. Оба этих принципа пытаются применять к религиозным утверждениям методологию и критерии т.н. точных наук (“hard sciences”). В таких случаях философия позднего Витгенштейна используется как корректива, напоминающая, что следует различать две языковые игры — науку и религию, поскольку modus operandi [способ действия] одной игры не может и не должен переноситься на другую. Итак, языковые игры описываются как серия замкнутых систем со своими внутренними критериями вразумительности, совершенно не вразумительными за пределами данной системы. Словом, язык одной языковой игры (скажем, науки) непереводим на язык другой (скажем, религии) и наоборот. Непереводимость языков предполагает качественное различие между разными языковыми играми. Характерным выражением такого подхода, известного как витгенштейновский фидеизм, стала позиция Малколма Норманна: «Религия — это форма жизни; это язык, воплощенный в действии, — то, что Витгенштейн называет языковой игрой. Наука — это другая форма жизни. Никакая из них не нуждается в оправдании, ни одна, ни другая».
У меня два серьезных возражения против такого взгляда. Во-первых, если язык веры представляет собой обособленную «языковую игру» (Sprachspiel), то все мы делимся на посвященных в нее и профанов. Первые знают, как играть в эту игру, ибо им известны правила. Более того, их знание игры дает им право играть; вторые не знают, как играть в эту игру. Они игнорируют ее предписания. Проще говоря, они «не говорят на этом языке», не имеют права на это, и их невежество исключает их из этой игры. Опасность такой позиции очевидна: мы превращаем религию в эзотерическую секту, открытую лишь для элиты посвященных, которые способны расшифровать ее. Во-вторых, если религиозный язык есть обособленная «языковая игра», то она может выражать лишь два типа суждений: (а) богооткровенные истины и (б) нонсенс. В любом случае, предполагается, что мы не можем играть в две языковые игры одновременно. Это предположение следует логике исключительности: одно или другое, религия или наука, убеждение или знание, вера или разум. Но тогда мы немногим отличались бы от тех строителей, о которых говорит Витгенштейн во второй части своих «Философских исследований»; подобно им, мы были бы вынуждены говорить лишь на одном языке и играть лишь в одну игру — всегда одну и ту же. Однако истина состоит в том, что все мы полиглоты и все мы легко переходим из одной игры в другую. В противном случае получалось бы, что языковая игра конституирует нашу идентичность настолько, что при смене первой неминуемо меняется и вторая. Скорее можно сказать, что языковая игра определяет роль, которую мы играем, — место, которое мы занимаем. Здесь-то нам и приходится обращаться к герменевтике и к герменевтическому вопросу par excellence: d’où parlez vouz? («Откуда вы говорите?»). Именно место, к которому отсылает этот вопрос, и определяет все отличие языка, в который мы играем:
«Если говорят “Моисей не существовал”, это может означать разное: у израильтян при исходе из Египта не было одного вождя, или их вождя звали не Моисей, или вообще не было человека, совершившего все, что Библия приписывает Моисею, и т.д., и т.п. Вслед за Расселом мы могли бы сказать: имя “Моисей” можно определить с помощью разных описаний. Например, таких: “человек, проведший израильтян через пустыню”; “человек, живший в такое-то время и в таком-то месте и называвшийся тогда Моисеем”, “человек, который в младенческом возрасте был вытащен из Нила дочерью фараона” и т.д. И в зависимости от того, примем ли мы одно или другое определение, предложение “Моисей не существовал” приобретает разный смысл, как и любое иное предложение о Моисее. Ну, а всегда ли я готов, высказывая нечто о Моисее, заменить имя “Моисей” одним из этих описаний? Пожалуй, я скажу: под “Моисеем” я подразумеваю человека, содеявшего то, что Библия приписывает Моисею, или же многое из того. Но сколь многое? Решил ли я, сколь многое должно оказаться ложным, чтобы я признал мое предложение ложным? Иными словами, имеет ли для меня имя “Моисей” твердо установленное и однозначное употребление во всех возможных случаях? Не обстоит ли дело так, что у меня в распоряжении как бы целый набор подпорок, так что, лишившись одной из них, я готов опереться на другую, и наоборот?»
Что мешает нам заменить слово «Моисей» в этих словах Витгенштейна на слово «Бог»? Разве существование Моисея более правдоподобно или менее невероятно, чем существование Бога? Имеет ли смысл утверждение «Моисей существует», если утверждение «Бог существует» считать бессмысленным? Я предложил бы заменить личное имя «Моисей» словом «Бог» и прочитать все это место в новом свете:
«Если говорят “[Бог] не существует”, это может означать разное: такого Бога не существует, или Бога больше не существует (в случае «смерти Бога», о которой толкует Ницше), или Бог — вообще за пределами категории существования, и т.д., и т.п. Вслед за Расселом мы могли бы сказать: имя “[Бог]” можно определить с помощью разных описаний. Например, таких: “Бог, проведший израильтян через пустыню”; “Бог, обращавшийся к пророкам”, “Бог, Которого Иисус называл Отцом” и т.д. И в зависимости от того, примем ли мы одно или другое определение, предложение “[Бог] не существует” приобретает разный смысл, как и любое иное предложение о [Боге]. Ну, а всегда ли я готов, высказывая нечто о [Боге], заменить имя “[Бог]” одним из этих описаний? Пожалуй, я скажу: под “[Богом]” я подразумеваю [Существо], содеявшее то, что Библия приписывает [Богу], или же многое из того. Но сколь многое? решил ли я, сколь многое должно оказаться ложным, чтобы я признал мое предложение ложным? Иными словами, имеет ли для меня имя “[Бог]” твердо установленное и однозначное употребление во всех возможных случаях? Не обстоит ли дело так, что у меня в распоряжении как бы целый набор подпорок, так что, лишившись одной из них, я готов опереться на другую, и наоборот?»
Значение слова «Бог» — отнюдь не фиксированное и не однозначное — открывается, с точки зрения Витгенштейна, в описаниях, хранящихся в библейской (т.е. текстуальной и нарративной) памяти. Это предполагает прежде всего предпочтительность плюрализма описаний перед монизмом определений. Нарративы Писаний, к которым отсылает значение, не определяют, что такое «Бог», а описывают, Кто такой «Бог». Во-вторых, эти описания как таковые препятствуют концептуализации «Бога» и, следовательно, препятствуют всем обсуждениям истинности или ложности этой концептуализации. Описание — это не абсолют, а практика.
Кроме того, значение слова «Бог» отсылает к определенной памяти. «Я… Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова» (Исх. 3:6) — это утверждение помещает голос Говорящего в контекст определенной истории — авраамической истории, память о которой помогает нам распознать имя «Бог» как отсылку к библейскому Богу. Имя, в качестве знака, становится таковым только в повторении, т.е. только «со второго раза». Не существует «целинных» феноменов: мы просто не могли бы их распознать (а значит, идентифицировать) как что-либо. Откровение знака, имени «Бог», также требует двух факторов: его «воплощения» в некое чувственное начало, поскольку бесплотные знаки — это не знаки вообще; и «Второго Пришествия», которое устанавливает первое в его правах, обеспечивая аутентичность откровения. Если религиозные утверждения должны иметь свою особую верификацию, то это может быть только верификация à venir: от грядущего, эсхатологическая верификация.
Таким образом, религиозные утверждения подвешены в этом «временном промежутке» — между Первым и Вторым Пришествиями; синхрония теперь ищет своего обоснования в диахронической памяти откровения, данного в прошлом, и чаяния откровения, обещанного в грядущем. Впрочем, если мы вспоминаем Второе Пришествие как уже совершившееся — о чем нам явно напоминает евхаристическая молитва — или, более того, как совершающееся при каждой Евхаристии, то диахрония пересекает синхронию в моменте, который Беньямин называет Jetztzeit, а Павел определяет как кайрос. Когда в литургическом времени происходит воспоминание незапамятного, утверждение «Иисус — Господь» обретает не только значение, но и уверенность.
«О том, какого рода объектом является нечто, дает знать грамматика» («Теология как грамматика»). Грамматика — это взаимодействие слов, которое позволяет регистрировать различные категории слов и различия между словами, что делает их осмысленными. Мы уже убедились, что невнимание к такому пониманию грамматики может выражаться в путанице относительно объекта богословия, когда Бога принимают за объект теологической спекуляции, упуская категориальное различие. Слова Витгенштейна можно прочитать так: «О том, какого рода объектом является нечто, дает знать грамматика»; я считаю, что их следует читать так: «О том, какого рода объектом является нечто, дает знать грамматика». Различие небольшое, но красноречивое. «Сами по себе слова не дают знать, как понимать слова» («Теология»). Это определяется также практикой и сообществом. Слова приобретают значение только тогда, когда они употребляются. Это то, что мы обозначили выше как литургический характер языка; возможно, теология (взятая здесь в скобки Витгенштейном) может быть парадигматическим примером зависимости лексической сигнификации от значения, наложенного практикой. Религиозные утверждения, изолированные от практики, в которой они укоренены, рискуют стать неадекватными, а значит, бессмысленными. Иначе говоря: теология (буквально: Божий логос) не сможет стать логосом и будет оставаться всего лишь пригоршней бессмысленных лексем до тех пор, пока она не будет использована по назначению — пока она не будет обращена к Богу. В конце концов, Августин, кажется, отдавал себе отчет в этом тонком, но важном различии фигур речи: логос его «Исповеди» не повествует о Боге; напротив, он обращается к Богу.
Примечания
↑1. Букв.: «Я научу вас различиям». Так граф Кент говорит Освальду в IV сцене, имея в виду различие статуса (в рус. пер. Б. Пастернака: «Я поставлю вас на место»).
↑2. От греч. ἴδιος, «свой», откуда и наше понятие «идиосинкразия».
↑3. Литургия (λειτουργία от ἔργον, «дело, труд») — букв. «общее дело», «общественное служение».
Перевод Дарьи Морозовой. Глава из книги публикуется с разрешения автора и издательства.
Источник: Мануссакис Д.П. Бог после метафизики. Богословская эстетика. К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2014. С. 189–212.




Комментарии