Ян Пробштейн
Соблазны перевода
Перевод как «перевоссоздание по болевым точкам»: от умения к искусству
 9 234
9 234 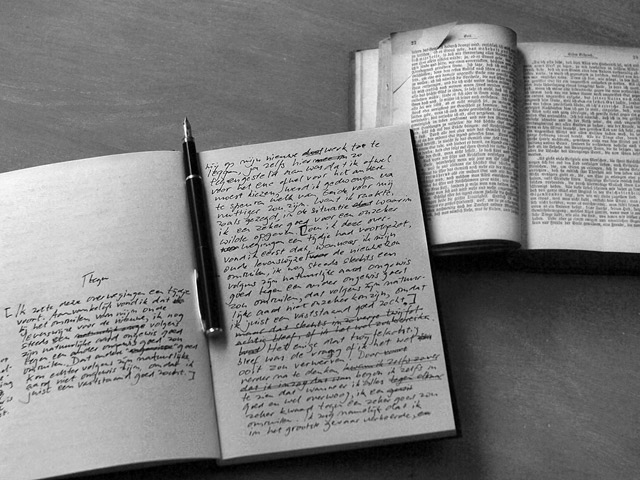
© Erik Tjallinks
От редакции: Мы публикуем текст лекции о переводе, прочитанной Яном Пробштейном в Университете Болоньи 8 октября 2014 года.
Сегодняшняя лекция посвящена литературному или художественному переводу. О необходимости перевода, как литературного, так и нехудожественного, хорошо сказано в статье выдающегося лингвиста Романа Якобсона «О лингвистических аспектах перевода», которую я цитирую, когда Якобсон пишет о художественном переводе.
Говоря же о художественном переводе, начать мне хотелось бы с еретической, так сказать, мысли, особенно для того, кто посвятил переводу около 45 лет жизни, — о том, что перевод поэзии и даже художественной прозы — дело невозможное. Не только строй, но даже чувства, вкус оригинального языка, эмоции и ассоциации, воспоминания детства неизбежно теряются, видоизменяются, даже если взять такое простое русское слово, как «хлеб», оно и на звук, и на вкус будет другим, нежели в итальянском, если перефразировать Вальтера Беньямина, который об этом писал в «Задаче переводчика» (1923), говоря о том, что у слов не только разные денотации, то есть смысл, но даже эмоциональные коннотации, и при слове «хлеб» у немца и у француза возникают совершенно разные образы. Возьмем тот же пример: английское “bread”, немецкое “Brot”, французское “pain” (или итальянское “pane”). Не только ассоциации и коннотации будут другими, но даже эмоции, вызванные ими: у француза это, быть может, длинный батон или «бриошь», а у русского это могут быть ломтики хлеба, который выдавался по карточкам во времена Гражданской войны или блокады Ленинграда, или те кирпичи ржаного или, как говорили, черного хлеба или батоны, за которыми во времена кризиса при Хрущеве в 1960-х люди стояли в длиннейших очередях с пяти-шести часов утра. Так что если слово дано не в библейском смысле («хлеб наш насущный даждь нам днесь»), следует искать конкретное слово, чтобы если не передать ощущения точно, то хотя бы приблизиться к ним. Для этого надо знать и эпоху, исторический контекст, когда написано то или иное произведение или даже статья. Аналогично и в передаче названий цветов и оттенков, пространственных взаимоотношений, так что у текста появляется объем, и я сейчас говорю не только о параметрах, как, скажем, длина, ширина, высота, но и о мельчайших соотношениях между предметами и деталями, о создании некоей архитектоники. Естественно, примером, если можно так выразиться, архетипическим образцом, служит «Божественная комедия» — “La Divina Commedia” Данте, где продумана и вся структура в целом, и соотношения частей, создан некий универсум, слияние земного и божественного, некая космогония, в то время как оттенки чувств переданы в “Vita Nova”.
Однако слово как таковое непереводимо. Нет такого транспортного средства, чтобы буквально «перевезти» слово из одного языка в другой. Более того, и во времена Гомера или Сафо, и даже во времена трубадуров поэзия существовала в устной форме, а запись знаками на бумаге уже была искажением. Помимо воссоздания ритма и, если это поэзия, метра и рифмы оригинала, следует также перевоссоздать сам язык, стилистику автора. Нельзя подходить к художественному переводу чисто технически, с точки зрения перевода смысла. Невозможно перевести то, что сам переводчик так или иначе не пытался бы выразить сам на родном языке, то есть уровень языкового мышления переводчика должен в какой-то мере соответствовать уровню мышления автора, иначе перевод неизбежно станет упрощением.
В переводе прозы, к примеру, исключительную сложность представляют такие авторы, как Николай Васильевич Гоголь или Андрей Платонович Платонов. Следует осмыслить, какую роль играют отступления от правил, нормативного литературного языка, словоупотребления и синтаксиса в творчестве каждого из данных авторов, и попытаться воссоздать аналогичные отступления (например, вкрапления диалектизмов для передачи «украинизмов» Гоголя или, что еще сложнее, создать свой синтаксис и язык, часто идущий вразрез со всеми нормами, будь то «советские» словообразования или совершенно особый синтаксис Платонова).
Борхес в эссе «Переводчики “Тысячи и одной ночи”» сравнивает переводы этого ставшим легендарным произведения на французский, английский и немецкий языки, предпринятые разными переводчиками в течение двух веков. Выводы Борхеса парадоксальны: самые лучшие переводы — самые вольные переводы, как, например, Жана-Антуана Галлана, французского арабиста XVIII века, выполненный между 1707-м и 1717 годом; как перевод он «в буквальном смысле наименее точен и слаб», пишет Борхес; более того, с помощью привезенного им помощника, отличавшегося изобретательностью и воображением, не уступающими и Шахразаде, Галлан дописал такие ставшие легендарными сказки, как об Ала-ал-Дине, о сорока разбойниках, о принце Ахмаде и другие. Мнение Борхеса основано не только на интересе читателей, который не ослабевал в течение почти двух веков, но и на мнении таких известных поэтов и писателей, как Кольридж, Томас де Куинси, Стендаль, Теннисон, Эдгар По, Ньюмен, которые превозносили этот перевод. Галлан установил канон: все последующие переводчики включали сказки, которых не было в оригинале. Во-вторых, как считает Борхес, Галлан стилизовал перевод, отказываясь от вульгарностей, с одной стороны, и от морализаторства — с другой (чем был занят, например, переводчик на английский Эдвард Лейн, по-пуритански комментируя то, что опускает: «Здесь я выпускаю один предосудительный эпизод. В этом месте пропущено омерзительное толкование…») [1]. Само название «Тысяча и одна ночь» как бы привнесено: скорее всего, говорит Борхес, ссылаясь на переводчика на немецкий арабиста Энно Литтмана, здесь произошла контаминация «турецкого выражения “bin bir”, буквально означающего “тысяча один” и имеющего смысл “много”» [2]. Однако переводы устаревают, и другому переводчику на французский доктору Мардрюсу «приписывают моральное право быть самым точным переводчиком “Тысяча и одной ночи”, книги восхитительного сладострастия, чей смысл до некоторых пор был скрыт то хорошим воспитанием Галлана, то пуританскими ужимками Лейна» [3]. Тем не менее, и Мардрюс грешит своеволием, «переводя не слова, но сцены книги: свобода не известная переводчикам, но приемлемая среди художников, позволяющих себе добавлять детали… Его недостоверность, его сознательная и удачная недостоверность — вот что для нас важно» (выделено мной. — Я.П.) [4]. Аналогично дело обстоит и с переводами на английский: Ричард Бертон, дипломат, исследователь, плодовитый писатель и даже поэт, неистощимый словарь которого не только вобрал английский язык от Чосера до Байрона, но в нем «архаизмы сочетаются с арго, канцелярский или морской жаргон — с технической терминологией. <…> Изобилуют неологизмы и слова иностранного происхождения». В этом смысле в совершенно достоверном, обстоятельном и научном переводе на немецкий Эно Литтмана (1923–1928), являющемся четвертым и самым лучшим по мнению специалистов, с чем соглашается и Борхес, но по его мнению, в переводах «Литтмана <…> нет ничего, кроме германской благопристойности» [5]. Стало быть, помимо материала, необходима также и личность, в переводе не менее, чем в оригинальном творчестве. Кроме того, Борхес делает вывод, что «переводы Бертона и Мардрюса, и даже перевод Галлана, были возможны только в рамках большой литературной традиции. Какими бы ни были их недостатки или достоинства, эти характерные труды предполагают богатый предшествующий опыт» (выделено Борхесом. — Я.П.) [6].
Еще труднее обстоит дело с поэзией, поскольку вся истинная поэзия есть отступление от нормы. Как сказал Иосиф Бродский в своей статье «В тени Данте» об Эудженио Монтале,
«в конечном счете поэзия сама по себе — перевод; или, говоря иначе, поэзия — одна из сторон души, выраженная языком. Поэзия — не столько форма искусства, сколько искусство — форма, к которой часто прибегает поэзия. В сущности, поэзия — это артикуляционное выражение восприятия, перевод этого восприятия на язык во всей его полноте — язык в конечном счете есть наилучшее из доступных орудий. Но, несмотря на всю ценность этого орудия в расширении и углублении восприятия — обнаруживая порой больше, чем первоначально замышлялось, что в самых счастливых случаях сливается с восприятием, — каждый более или менее опытный поэт знает, как много из-за этого остается невысказанным или искажается. Это наводит на мысль, что поэзия каким-то образом также чужда или сопротивляется языку, будь это итальянский, английский или суахили, и что человеческая душа вследствие ее синтезирующей природы бесконечно превосходит любой язык, которым нам приходится пользоваться (имея несколько лучшие шансы с флективными языками). По крайней мере, если бы душа имела свой собственный язык, расстояние между ним и языком поэзии было бы приблизительно таким же, как расстояние между языком поэзии и разговорным итальянским. Язык Монтале сокращает оба расстояния» [7].
Рильке писал графине Сицци в 1922 году, что даже порядок слов и использование служебных слов, как, например, артикли и союзы, делают стихотворение неповторимым. Но перевести это невозможно, поскольку у каждого языка свой неповторимый синтаксис, строй. Более того, зачастую делать это категорически нельзя, иначе перевод будет калькой. Даже пунктуация в разных языках выполняет совершенно разные, зачастую противоположные, функции. Скажем, там, где в английском языке употребляется двоеточие, в русском чаще всего необходимо тире, и наоборот — тире в английском языке несет очень сильную нагрузку, употребляется, особенно в американском варианте, только в случае резкого контраста, резкого перехода. Поэтому, кстати, Мэйбл Тодд и Томас Хиггинсон, составители и редакторы первых посмертных изданий Эмили Дикинсон, в стихах которой даже вместо точек стоит тире, изменяли в ее стихах не только словоупотребление, рифму, правописание, но и пунктуацию, приводя ее к «норме», как они ее понимали. Восстановил справедливость профессор Томас Джонсон, издавший в 1955 году стихи Эмили Дикинсон так, как они были написаны. Заметьте, что мы в данном случае говорим о текстологии, то есть о воспроизведении поэтического текста в пределах одного языка. Стало быть, текстология и интерпретация текста даже в рамках одного языка являются своего рода переводом.
Роман Якобсон в работе пражского периода «Два стихотворения Пушкина» анализирует переводы стихотворений Пушкина на чешский и приходит к выводу, что они неудачны, потому что переводчику не удалось передать игру служебных слов в стихотворении «Я вас любил», которое, по его мнению, лишено образов. Но ведь образ — это больше, чем троп, его нельзя сводить к метафоре, метонимии и т.д. Образ — это картина. А поэзия — это движение поэтической мысли сквозь образ. Поэтической, заметьте. Нельзя сводить перевод к лингвистике либо к толкованию смысла, подтекста — к герменевтике. Это равно опасные соблазны в переводе. (Существуют и другие, на которых могу остановиться подробнее.) Нельзя утверждать, что если «быть может» или «не совсем» не переданы в переводе — значит, перевод неудачный или наоборот. Нужно воссоздавать, перевоссоздать игру, помня о сверхзадаче — передать движение поэтической мысли сквозь образ, энергетику и дух оригинала. Это опять-таки говорит о том, что слово как таковое в художественной литературе, особенно в поэзии, непереводимо, нет такого транспортного средства, чтобы перевести слова из одного языка в другой, перевести можно лишь то, что в античности называли enargaia (движение поэтической мысли или повествования сквозь образ) и одновременно — energeia в трактовке Средневековья, а затем Гумбольдта — сгусток поэтической мысли, дух, воплощенный в языке, при этом сам язык, по Гумбольдту, есть не произведение (Ergon), а деятельность (Energeia), то есть «вечно обновляющаяся работа духа, направленная на то, чтобы сделать артикулированный звук выражением мысли». Если удалось передать движение поэтической мысли сквозь образ, энергетику и дух оригинала — значит, перевод удачный. Сохранить же синтаксис, а тем более пунктуацию, грамматику поэзии невозможно. Поэзия, как сказал Валери, это «колебание между звуком и смыслом» или, как сказал Хопкинс, «речь, полностью или частично повторяющая звуковой образ». Поэзия — это артикуляция, магия.
Если сравнить «Два стихотворения Пушкина» и «О лингвистических аспектах перевода», мы придем к выводу, что сам Р. Якобсон противоречит себе:
«В поэтическом искусстве царит каламбур или, выражаясь более ученым языком и, возможно, более точным, парономазия, и независимо от того, беспредельна эта власть или ограничена, поэзия по определению является непереводимой. Возможна только творческая транспозиция, либо внутриязыковая — из одной поэтической формы в другую, либо межъязыковая — с одного языка на другой, и, наконец, межсемиотическая транспозиция — из одной системы знаков в другую, например, из вербального искусства — в музыку, танец, кино, живопись.
Если бы перевести традиционное итальянское изречение traduttore traditore как “переводчик — предатель”, мы лишили бы итальянскую рифмованную эпиграмму всей ее парономастической ценности. Поэтому когнитивный подход к этой фразе заставил бы нас превратить этот афоризм в более развернутое высказывание и ответить на вопросы: “переводчик каких сообщений?”, “предатель каких ценностей”?» [8]
Не только перевод, но даже и сочинение на родном языке, если мы говорим о передаче видений и образов, виденных в сознании или во сне, — тоже вещь невозможная. Русский философ Павел Флоренский, который, кроме того, был богословом, математиком, ученым естественных наук, фигура сродни тем, которые были в эпоху Ренессанса, замученный в лагере на Соловках большевиками, писал в книге «Иконостас» о том, что есть два вида творчества: первый — когда душа восходит из мира дольнего в мир горний и еще хранит связь с этим миром, передавая, так сказать некую приземленность, и другой — когда душа нисходит из мира горнего в мира дольний, неся отблески божественного трансцендентального света. По Флоренскому — это высший вид искусства. Флоренский сравнивает искусство иконописи с переводом с божественного языка на земной [9]. Любой вид творчества может быть либо божественным вдохновеньем, либо заземленным, даже механическим, неважно, как он воплощен — в красках, линиях, нотах или в словах. При этом мы преодолеваем сопротивление материала (здесь уже помимо всего прочего требуется мастерство). Русский философ и литературовед Михаил Бахтин писал: «Имманентное преодоление есть формальное определение отношения к материалу не только в поэзии, но и во всех искусствах, причем имманентное преодоление языка в поэзии резко отличается от чисто отрицательного преодоления его в области познания: алгебраизации, употребления условных значков вместо слова и т.п.» [10].
Техника, будь то версификация, лексика, умение построить фразу, владение словом и т.д., в художественном переводе нужна для того, чтобы думать не о ней, а о передаче духа оригинала, перевоссоздании по «болевым точкам», как выразилась Марина Цветаева. Критерием точности перевода в данном случае будет сохранение ключевых слов — «болевых точек», с одной стороны, и передача движения языка сквозь образ — с другой.
В пользу непереводимости слова как такового говорит и несоответствие категории рода в различных языках. Об этом же пишет Роман Якобсон в уже упомянутой статье «О лингвистических аспектах перевода»:
«Русского художника Репина удивило то, что немецкие художники изображают грех в виде женщины; он не подумал о том, что слово “грех” в немецком языке — женского рода (die Sünde), тогда как в русском — мужского. Точно так же русскому ребенку, читающему немецкие сказки в переводе, было удивительно, что “смерть” — явная женщина (слово, имеющее в русском языке женский грамматический род) — было изображено в виде старика (нем. der Tod — мужского рода). Название книги стихов Бориса Пастернака “Сестра моя жизнь” вполне естественно на русском языке, где слово “жизнь” — женского рода; но это название привело в отчаяние чешского поэта Йозефа Хора, когда он пытался перевести эти стихи, ибо на чешском языке это слово — мужского рода (zivot)» [11].
Даже в пределах одного языка слово приобретает смысл, извлекается из словаря, если можно так выразиться, только в конкретном контексте. Вне этого существует огромный выбор, насколько полисемичный, настолько же неопределенный. Жак Деррида считает, что любая интерпретация текста, а тем более перевод как вид интерпретации — дело невозможное и необходим как невозможность. Любое прочтение, интерпретация ведет, говорит Деррида, к «итерации» (переиначиванию, iteration) и к изменению, то есть к искажению. Собственно, и творчество — дело невозможное, и любой перевод с языка образов, вИдения, если хотите, с языка божественного на язык земной — искажение. Эту мысль, как известно, впервые высказал Платон в диалоге «Ион». Платон вообще считал, что любой переход от созерцания к попытке выражения есть искажение. Однако были и неоплатоники, в первую очередь Плотин и Лонгин, которые говорили, что хотя идеал недостижим, но в стремлении достичь недостижимое — путь к совершенствованию. В Средние века идеи неоплатоников развивал Джованни Боккаччо. В «Генеалогии языческих богов» Боккаччо цитирует Блаженного Августина и говорит о «затемненности» (слово, которое, перефразировав на постмодернистский лад, употребляет Деррида — у него это impurity, «нечистота») как об обещании бесконечной глубины и, следовательно, бесконечного источника человеческого совершенствования. Благодаря переводу развивались и совершенствовались языки: достаточно вспомнить о том, что благодаря переводам «Священного Писания» сначала на древнегреческий и латынь («Септуагинта» и «Вульгата»), затем на немецкий — Мартина Лютера, на английский — в переводе 47 самых образованных людей того времени (1604–1611) под руководством короля Иакова (King James Bible) изменялись и усовершенствовались не только языки, но и сама человеческая природа. Думаю, что Лютер и ученые под руководством короля Иакова сделали для своих языков не меньше, чем Шекспир и Гёте. Словом, «и невозможное возможно», если процитировать Блока. Вальтер Беньямин в работе «Задача переводчика» (1923) говорит о том, что Лютер, Фосс, Гёльдерлин и Георге расширили границы немецкого языка.
Следует заметить, однако, что и при переводе Библии возникали трудности, которые вели к изменению или переиначиванию текста. Об этом пишет Р. Якобсон:
«Какова была первая проблема, возникшая при самом зарождении славянской литературы? Как ни странно, переводческая проблема передачи символики, связанной с выражением грамматического рода, при когнитивной нерелевантности этой проблемы, оказалась основной темой самого раннего оригинального славянского текста — предисловия к первому переводу Евангелия, сделанному в начале 860-х годов основателем славянской литературы и церковной обрядности Константином-Философом. Недавно текст был восстановлен и прокомментирован А. Вайаном [12]. “Греческий не всегда можно передать при переводе на другой язык идентичными средствами, и на разные языки он передается по-разному, — пишет этот славянский проповедник — греческие существительные мужского рода, такие как potamos (река) и aster (звезда), в каком-нибудь другом языке могут иметь женский род, например, “река”, “звезда” — в славянском”.
Согласно комментарию Вайана, из-за этого расхождения в славянском переводе Евангелия от Матфея в двух стихах (7:25 и 2:9) стирается символика отождествления рек с демонами, а звезд — с ангелами.
Но этому поэтическому препятствию Святой Константин решительно противопоставляет учение Дионисия Ареопагита, который призывал главное внимание уделять когнитивным ценностям (силе разуму), а не словам самим по себе» [13].
В уже упомянутой работе, в статьях «Грамматика поэзии и поэзия грамматика», «О стихотворном искусстве Уильяма Блейка и других поэтов-художников» Якобсон великолепно анализирует — такой анализ должен предшествовать работе поэта-переводчика, но не ограничиваться им, — переводчик вообще должен много знать, но при работе это знание не должно выпирать — оно должно уйти в комментарии и в подтекст. Как говорили Рене Веллек и Остин Уоррен в книге «Теория литературы» (1948), которая и сейчас считается в США основополагающей, «лингвистическое изучение становится изучением литературы только тогда, когда оно служит изучению языковых явлений, вкратце, когда оно становится стилистикой (по крайней мере, в одном смысле этого слова). Стилистическое изучение, разумеется, не может быть успешным без основательной опоры на общее языкознание, ибо одной из его главных задач является противопоставление языковой системы литературного произведения общепринятому словоупотреблению данного времени» (здесь и далее перевод, если это не оговорено особо, — мой. — Я.П.). Иными словами, литература и поэзия в особенности — это отступление от нормы, от правил, в том числе и грамматических, стилистических, лексических (вспомним хотя бы «львицу с гривой на боку» Лермонтова — исправлять такие вещи в переводе было бы нелепо). Это, разумеется, и жанровые сдвиги — вкратце, то, что Шкловский называл «остранением», Брехт — «очуждением», чешский литературовед Ян Мукаржевский — «деавтоматизацией», а поэт Крученых — «сдвигологией».
Есть и другие соблазны. Прежде всего, это два крайне противоположных соблазна — соблазн запретительный и соблазн вседозволенности. Дю Белле в «Защите и прославлении французской поэзии» (1549) требовал отказаться от перевода, ибо он засоряет язык, а у каждого языка — свой неповторимый строй и «если сделать попытку передать его природу на другом языке, соблюдая законы перевода так, чтобы не извращать переводимое произведение, ваш язык будет скован, напыщен и лишен очарования». К слову сказать, Дю Белле, один из ревностных борцов за чистоту французского языка и за то, чтобы писать по-французски, был известен не только как автор стихов, написанных на латыни, но и сам переводил на французский с латыни. Так, его известный сонет «Рим» из «Римских древностей, III» (1558) является переводом с латыни поэта эпохи Возрождения Джованни Витали, а стихотворение Дю Белле было переведено в «Руинах Рима» Эдмундом Спенсером («Жалобы», 1591), а затем Паундом. Знаменательно, что В.Б. Микушевич, который перевел на русский язык и сонет Дю Белле, и сонет Паунда, уловил и передал не только общий дух, воплотив его на сей раз в русском языке, но и некоторые различия [14].
Паунд считал, что Дю Белле сыграл весьма важную роль для перехода лирической поэзии из Италии в Англию. Он писал: «Итальянцы… обновили искусство <лирической поэзии>, они писали на латыни, а некоторые даже на греческом, и использовали древнегреческие размеры. Дю Белле перевел Навгериуса на французский, а Спенсер перевел переложения Дю Белле на английский, и так же, как во времена Чосера и последующие за ними, англичане приобретали технику за Ла-Маншем» (Поэзия, январь 1914 года). Как заметил К.К. Ратвен (Ruthven), ритм первой строки терцетов “Rome that art Rome’s one sole last monument” позаимствован Паундом из I сонета Шекспира: “Thou that art now the world’s fresh ornament.” Стихотворение Эзры Паунда является лишь маской, характерной для него, поэтической вариацией, а не переводом, хотя и приближается к переводу, почти достигая местами дословности.
Таким образом, этот сонет, как некий пратекст, переходит из языка в язык, путешествуя — или шествуя — через века и страны.
Еще одним противником перевода был Сэмюэль Джонсон, который в «Предисловии 1755 г. к словарю английского языка» утверждал, что перевод – это бич для языка и ни одну книгу еще не удалось перевести без привнесения хотя бы частицы языка оригинала, что тысячи иноязычных слов проникают в язык и хотя «ткань языка остается той же, новая фразеология мгновенно в ней многое меняет — она меняет не только отдельные кирпичи здания, но даже ордера колонн. Если будет учреждена академия для совершенствования нашего стиля <…> пусть они лучше вместо составления грамматик и словарей постараются, употребив для этого все свое влияние, прекратить злоупотребления переводчиков, чья лень и невежество, если их деятельность будет продолжаться, низведут нас до невнятицы французского языка (буквально — диалекта)». Речь, однако, идет о «невежественных и ленивых» переводчиках, во-первых, а во-вторых, не следует забывать, что ни один из современных языков нельзя назвать чистым, как, скажем, древнегреческий: все они развивались именно из перевода, прежде всего, античных авторов. И русский язык не является исключением — я имею в виду не только, скажем, переводы Кантемира, Тредиаковского, Жуковского, Гнедича: перечтите «Войну и мир» Толстого — многие ли могут обойтись без перевода? Еще Фридрих Шлейермахер в лекции 1813 года «О разных методах перевода» говорил, что перевод существует и внутри одного языка, говоря о потребности «перевести для себя речь другого, даже похожего на нас человека иных взглядов и иного характера, когда мы чувствуем, что те же слова в наших устах имеют совершенно иной смысл… Даже наши собственные речи спустя какое-то время иногда приходится переводить, если мы хотим их заново освоить» [15].
Об этом же писал Роман Якобсон в уже несколько раз упоминавшейся статье «О лингвистических аспектах перевода» [16]:
«Способность говорить на каком-то языке подразумевает способность говорить об этом языке. Такая “металингвистическая” процедура позволяет пересматривать и заново описывать используемую языком лексику. Взаимодополнительность этих уровней — языка-объекта и метаязыка — впервые отметил Нильс Бор: все хорошо описанные экспериментальные факты выражаются посредством обычного языка, “в котором практическое употребление каждого слова находится в комплиментарном отношении к попыткам дать ему точную дефиницию”» [17].
Противниками перевода были также Гейне, сказавший, что его стихи, переведенные на французский, это «лунный свет, начиненный соломой», Шелли, писавший, что переводить поэзию — все равно что «плавить фиалку в тигле» (но при этом сам много переводил: с древнегреческого — гимны Гомера, элегии Биона, других древнегреческих поэтов, с латыни — Вергилия, с итальянского — Данте и Кавальканти, с испанского — Кальдерона, с немецкого — отрывки из «Фауста» Гёте). Противником перевода был и Джакомо Леопарди, стихотворение которого “Sopra il Rotratto di Una Bella Donna” также переложил на английский Паунд. Джакомо Леопарди (1798–1837) умер в том же году, что и Пушкин, старше которого был на год. Для Леопарди природа — царство бессознательного, безразличного к человеку зла. Красота природы — иллюзия, творимая искусством, но эта художественная иллюзия — единственная отрада для человека. Отсюда культ строгой классической формы в сочетании с романтическими порывами, заранее обреченными на тщетность. «Песни» (“Cаnti”) Леопарди перекликаются с канцонами Петрарки, отчасти воспроизводя его строфику, хотя рифма у Леопарди встречается лишь эпизодически, но она тем существеннее в музыкальной композиции. В то же время Леопарди предвосхищает многое в поэзии ХХ века. Не исключено, что “Cаnti” Леопарди были одним из источников или образцов для “Cantos” Эзры Паунда [18].
В 1915 году Эзра Паунд писал: «В Леопарди такая искренность, такой пламень мрачного пессимизма, что его манера не дает повода ни для критиканства, ни для вопросов». Любопытно, что Эзра Паунд смягчает натуралистический пессимизм Леопарди, и там, где итальянский поэт говорит о камне над гнилью и костями (“fango ed ossa”), у Паунда только «стыд и грусть» (комментарий В. Микушевича).
В наши дни противником перевода был Владимир Набоков, который много и успешно (за исключением «Евгения Онегина») переводил. Он, утверждавший, что в переводе поэзии все, кроме «самого неуклюжего буквализма», есть надувательство, при переводе, скажем, стихов Руперта Брука на русский (замечательные, кстати, переводы) и собственных стихов на английский всячески этого буквализма избегал. Вот, например, как он перевел собственное стихотворение «К России» на английский:
Навсегда я готов затаиться
И без имени жить я готов,
Чтоб с тобой и в мечтах не сходиться,
Отказаться от всяческих снов,
Обескровить себя, искалечить,
Не касаться любимейших книг,
Променять на любое наречье
Все, что есть у меня, — мой язык.
I’m prepared to lie hidden forever
and to live without name. I’m prepared,
lest we only in dreams come together,
all conceivable dreams to forswear;
to be drained of my blood, to be crippled
to have done with the books I most love,
for the first available idiom
to exchange all I have: my own tongue.
«Затаиться» имеет несколько иной оттенок, чем “to lie hidden forever“, а «отказаться от всяческих снов» отметает всякую надежду, тогда как в английском тексте эта надежда сохраняется: “lest we only in dreams come together”.
Более того, и в переводе прозы он избегал как раз «неуклюжего буквализма» — «Аню в Стране чудес» или роман «Николка Персик» иначе как переложениями не назовешь, а в послесловии к собственному переложению «Лолиты» Набоков пишет, что пришел к выводу, что главное различие между русским и английским заключено в духе каждого из этих языков.
Не менее именитыми и великими были и сторонники перевода: переводчик Ветхого Завета на немецкий Франц Розенцвейг утверждал, что перевод «есть не только мессианистический акт, который приближает искупление», но также искусство и высокое ремесло, Гёте писал Карлайлю в 1827 году, что перевод — одно из важнейших и ценнейших занятий среди всех международных дел. Высказывание Пушкина о том, что «переводчики — это почтовые лошади просвещения», известно русскому читателю настолько, что уже как-то неприлично его и цитировать. И тем не менее, вряд ли мы сегодня назовем Жуковского или Гнедича, Пастернака или Лозинского, Райт-Ковалеву или Виктора Голышева «почтовыми лошадьми просвещения». С другой стороны, притом что институт редакторов, пусть даже и советских, почти прекратил в наши дни существование, а книжный рынок ненасытен и непривередлив, многие переводчики превратились в волов или, с позволения сказать, ишаков — не просвещения, нет, а книгоиздательского бизнеса. И здесь уместно сказать о соблазне вседозволенности. Так, американский литературовед и теоретик перевода Джон Старрок (Sturrock) говоря о невозможности перевода в феноменологическом смысле, как это понимает Жак Деррида, приходит к парадоксальному выводу, что «бóльшая терпимость к буквализму в переводе успокоит совесть переводчиков и поможет восстановить утраченное равновесие между предельным уважением к оригиналу и наглыми притязаниями рынка» [19]. При этом в переводе Бертона Раффеля на английский известного стихотворения Мандельштама «Айа-София» превратилась в «Ай-ай-ай, София», а стихи А.С. Кушнера по-английски, особенно в переводе Пола Грейвза, звучат, ей-богу, лучше, чем стихи Мандельштама (на том же английском). Хотя в Западной Европе и в Америке считается, что рифма в наши дни употребляется только в рекламе и в детских стихах и переводить рифмой — значит профанировать высокую поэзию, но вот замечательный поэт и переводчик Ричард Уилбер перевел Мольера, соблюдая не только рифму, но и все каноны, и постановка Мольера на сцене стала гвоздем сезона. В США раз в несколько лет появляются новые переводы Гомера, «Метаморфоз» Овидия, «Энеиды» Вергилия. Правда, русской поэзии «везет» меньше, но за последние годы вышло несколько переводов «Преступления и наказания», «Братьев Карамазовых», «Бесов», появились новые переводы «Войны и мира», «Анны Карениной», «Доктора Живаго» — рынок, следовательно, требует также и улучшения качества перевода.
Несомненно, каждое поколение будет переводить не только классику (кстати, на Западе под классикой прежде всего понимают античность), но и современных авторов — начиная, скажем, с романтиков и до модернистов и постмодернистов. Удачи есть, хотя их немного, но они могут сосуществовать с новыми переводами. Скажем, есть перевод Гомера на английский язык Чапмена, чему посвящен знаменитый сонет Джона Китса «По случаю чтения Гомера в переводе Чапмена», но после этого появилось много новых переводов «Илиады» и «Одиссеи». Недавно Максим Амелин заново перевел Катулла, при этом его перевод не отменяет переводы Шервинского или Петровского, а дополняет их. Тем более что существуют вольные переложения, передающие дух, а не букву, дополнением к которым могут быть и более точные переводы.
Я к переводу пришел от соблазна переводить. Как сказал Мандельштам, «этого нет по-русски, но это должно быть по-русски». Учился в экспериментальной специализированной английской школе, тогда мы даже географию и новую историю изучали на английском языке. В школьные годы пробовал переводить Вордсворта, Байрона, Лонгфелло, Шелли. К подавляющему большинству тех переводов никогда не возвращался и даже не вспоминал о них. Но много лет спустя несколько юношеских переводов из Лонгфелло и Шелли в отредактированном, конечно, виде были опубликованы — Лонгфелло сразу в двух книгах издательства «Художественная литература», в сериях «Библиотека литературы США» и «Классики и современники». Еще будучи студентом лингвистического университета, буквально «заболел» Элиотом: сначала более ранними и, если так можно выразиться, броскими его вещами — «Пруфроком», «Полыми людьми» и «Бесплодной землей», а затем уже где-то в начале 1980-х сумел оценить глубину и полифоничность «Четырех квартетов», которые редактировал и переписывал не менее 11 раз. Занимаюсь творчеством Элиота вот уже более 40 лет. Для того чтобы его перевести, нужно было проштудировать десятки книг — от «Бхагавадгиты» до Библии на русском и английском (в переводе короля Иакова), от «Метаморфоз» Овидия, «Сатирикона» Петрония, «Божественной комедии» Данте до «Заката Европы» Шпенглера, философии А. Бергсона, Дж. Сантаяны, специальных книг, например «От ритуала к рыцарскому роману» Джесси Л. Уэстон или работ литературоведов, посвященных творчеству Элиота. Причем учтите, что в 1970-х многие из этих книг, как Шпенглер, были труднодоступны. А Элиот, как известно, отдельным изданием вышел по-русски в переводе Андрея Сергеева только в 1971 году. Затем я надолго погрузился в Паунда, сложнейшего поэта, вобравшего в себя мировую культуру и литературу от античности до современности, в стихах которого — аллюзии, скрытые и явные цитаты от Гомера до провансальских трубадуров, Данте, китайского поэта VII века Ли Бо, Конфуция и т.д. Приходится все это изучать: переводчик должен знать очень много, но затем это знание должно уйти в подтекст, в комментарии, не должно «чрезмерно» просвечивать сквозь текст, я еще буду говорить об этом подробнее. К тому же, Паунд — поэт изощренный в смысле формы: он обогатил и музыку английского стиха, позаимствовав и несколько модифицировав, скажем, алкеев стих, пеан, или такие изощренные формы, как рондо, триолеты, рондели, лэ и вирэлэ, а таких форм, как известно, у провансальских трубадуров было более 900.
Перевод для меня — это и возможность, так сказать, обогащать палитру, пробуя совершенно разные манеры, от классики до постмодернизма, — то что в собственном творчестве было бы эклектикой; это также — расширение кругозора и диапазона, а кроме того, возможность практиковаться (как музыкант), не занимаясь насилием над собой, когда не пишется (я всегда был противником того, что после знаменитого «Ни дня без строчки» Ю. Алеши многие начинали внедрять этот принцип во все сферы творчества).
Во второй половине 70-х мне посчастливилось познакомиться с В.В. Левиком, Арк. А. Штейнбергом, Э.Г. Ананиашвили, а затем после переезда в Москву я был принят в их семинары: тогда существовал ряд замечательных семинаров при Московской писательской организации, были свои семинары также у А.М. Ревича, М. Ваксмахера — теперь в ЦДЛ не находится для этого места. Семинары Вл. Микушевича и Евг. Витковского, которые были организованы после смерти Левика и Штейнберга, прекратили свое существование в начале 1990-х. Самым важным, на мой взгляд, было то, что все они — и Штейнберг, и Левик, и Ананиашвили — были русскими европейцами, энциклопедически образованными людьми, которые знали не только европейские языки, но и культуру этих стран. Эти люди не только и не столько ремеслу учили — они, как мосты, соединяли страны и поколения. Люди, еще заставшие в живых Андрея Белого, знавшие Мандельштама, Цветаеву, Пастернака, Ахматову, были для нас связующим звеном поколений, хранителями ценностей культуры. «Однажды в Гослитиздате я присутствовал при разговоре Андрея Белого и Бориса Пастернака. Для того чтобы их понять, нужно было знать с полдюжины европейских языков, философию, литературу, живопись, музыку, и еще много чего», — вспоминал Аркадий Акимович Штейнберг после одного из таких семинаров.
Левик и Штейнберг были совершенно разными мастерами. Вильгельм Вениаминович, за редким исключением, не занимался поэзией ранее шестнадцатого века и после девятнадцатого. Замечательны его переводы стихов Ронсара, Дю Белле, Лафонтена, наиболее ему удавшиеся, некоторые переводы из Шелли, Байрона, Гёте и немецких романтиков, причем работал он в основном на лексике XIX века. Аркадий Акимыч же буквально взрывал языковые пласты, как в «Потерянном рае» Джона Мильтона, вплетал архаику, а в переводы из Стефана Георге, Готфрида Бенна или Дилана Томаса — современность. По этой же причине ему легче было прислушаться к тем, кто переводил модернистов и вообще современных поэтов — Мастерса, Элиота, Милоша, Сэндберга. Он говаривал: «Научить поэзии и искусству перевода я не могу, но у меня можно многому поучиться». В русской школе поэтического перевода, при том, что я называю «невозможностью перевода», при всей, казалось бы, непереводимости, сложилась довольна высокая система требований, как я уже говорил в интервью Иларии Лелли: перевод должен быть эквилинеарен, то есть количество строк в переводе и в оригинале должно, как правило, совпадать, эквиметричен и эквиритмичен, то есть должны быть сохранены и метр, и ритм, должна быть также сохранена система рифмовки. Скажем, сонет Петрарки — это одна система, а сонет Шекспира — другая, при этом должна быть передана образность и то, что я называю звукосмысл, то есть не смысл сам по себе, а некий синтез звука и смысла. За исключением англичан, причем, в основном, это все были выдающиеся поэты от Чосера до Шелли или, скажем, до переводчика Гомера Чапмена и переводчика Хайама Фитцджеральда, полагаю, в мире аналогов нет или почти нет. Есть отдельные исключения, и это, как правило, выдающиеся поэты или писатели.
Аркадий Акимович Штейнберг говаривал, что в живописи, в собственной поэзии и в переводе поэзии он занимается одним и тем же — только разными средствами. Для меня перевод поэзии — это возможность обогатить, так сказать, палитру, прежде всего музыкальную, но также и обратиться к форме и к лексике, к которым вряд ли бы прибег в собственном творчестве. Перевод требует умения читать, вслушиваться в другого, дара перевоплощения. Переводчик поэзии должен быть артистом, исполнителем. Но также и поэтом. Почти все выдающиеся русские переводчики были поэтами. Считалось, что Левик не писал собственных стихов, но однажды как-то прочел довольно виртуозные эпиграммы, стихи на случай, мог выдать остроумный экспромт. Мы работали с голоса — помните, у Мандельштама: «Мы только с голоса поймем, / Что там царапалось, боролось, / И черствый грифель поведем / Туда, куда укажет голос»?
Стоит ли читать «конкурирующие» переводы?
Думаю, что стоит. Ведь если перевод нравится, незачем переводить то же стихотворение или поэму еще раз. Когда я не согласен — даже с переводами очень известных авторов, тогда осмеливаюсь переводить. Так, я не согласен с тем, как Бальмонт переводил Шелли: это все-таки импровизации Бальмонта на тему Шелли, который стал этаким русским символистом — ну, просто близнец Бальмонта. Не согласен я был и с трактовкой Элиота выдающимся переводчиком Андреем Сергеевым: «Коты» у него получились замечательно, цикл Суини и другие сатирические вещи 1920-х годов — тоже, а вот в других вещах, в особенности же в «Четырех квартетах» и в «Бесплодной земле», мне кажется, утрачена музыка, звукосмысл. Вообще, свободный стих переводить очень трудно: можно сбиться на прозу, хотя и в ней есть своя энергетика, музыка, ритм.
Несколько раз было так, что, переведя какую-то вещь, мне самому захотелось написать что-то по-русски. Так, используя мотивы стихотворений Чеслава Милоша, причем не одного, а нескольких, в частности «Бедный христианин смотрит на гетто» и «Тадеушу Ружевичу», я написал цикл «Гетто». Для меня он имеет особый смысл, ведь почти все мои родственники по отцовской линии погибли в польских гетто — в Перемышле, а я по отцовской линии вообще принадлежу к первому поколению, для которого русский язык — родной. Был пример и не из поэзии. Так, я использовал в своих «Элегиях» некоторые образы и мысли Хайдеггера. В целом же, это скорее исключение. Для меня важнее не мысль, даже не образ, а попытка перевоссоздать музыку, привнести некоторые музыкальные, ритмические элементы, скажем, английского тонического стиха.
Бывали и неудачи. Вообще, Элиот в свое время писал в «Четырех квартетах»: «Есть лишь попытки, иное — не наш удел».
О соблазнах буквализма и вольности в поэзии
В курсе лингвистического и теоретического перевода мы в свое время изучали книгу Андрея Федорова «Введение в теорию перевода» (М., 1953). Долгое время эта книга считалась основополагающим трудом. Что касается художественного перевода, то здесь следует назвать труды К. Чуковского «Искусство перевода» (1936) и его же письма (начиная с писем К.К. Чуковскому 1930-х годов), который считал, что «хороший переводчик хотя и смотрит в иностранный текст, думает все время по-русски и только по-русски, ни на миг не поддаваясь влиянию иностранных оборотов речи, чуждых синтаксическим законам родного языка»; работу И.А. Кашкина «Вопросы перевода» (1954), который считал, что идеал — это некая прозрачность, растворенность переводчика, что как бы его и нет, но поскольку идеал часто недостижим, то чтобы личность переводчика не заслоняла поэта (что, однако, делали и М. Лермонтов, и Б. Пастернак); труд Ефима Эткинда «Поэзия и перевод» (Ленинград, 1963), замечательной книгой по истории художественного перевода является работа Ю.Д. Левина «Русские переводчики XIX века» (Л.: Наука, 1985), в которой он подробно разбирает не только творчество крупнейших переводчиков, как В.А. Жуковский, но и таких как переводчик Диккенса и Теккерея Иринарх Введенский, Михайлов, Мин, Петр Вейнберг, причем Ю.Д. Левин показал, во-первых, что традиции русской и советской школы перевода возникли не на пустом месте, а во-вторых, была извечная борьба между соблазном буквализма и соблазном вседозволенности, условно говоря, борьба между школой XVIII века, наиболее ярким представителем которой был поэт Василий Тредиаковский, и XIX века, где ярчайшим представителем школы переводной поэзии был, конечно, В.А. Жуковский. Тредиаковский, как известно, стремился к точности настолько, чтобы перевод, если бы и отличался чем-то от оригинала, то лишь фамилией создателя. Идеалом переводчика XVIII века, по наблюдению Ю.Д. Левина, было создание некоего безличного произведения искусства, максимально приближенного к оригиналу. Василий Жуковский, напротив, как известно, был одним из основоположников вольного перевода и высказал свое кредо в эссе «О баснях»: «Переводчик прозы — раб, а переводчик поэзии — соперник». Известно, что Жуковский дважды переводил «Элегию, написанную на сельском кладбище» Томаса Грея (1802 и 1839) и «Ленору» Бюргера (1808 и 1831) и расположил все варианты в своем «Собрании сочинений» по датам их перевода. Автором всех стихотворений был Жуковский. В переводах Жуковского «сюжет был заимствован, а стиль — его собственный» (Гуковский), он создал «новое художественное единство — гармоничное, цельное, жизнеспособное, в котором оригинал был перемещен в иную стилистическую систему» (Жирмунский).
Считается, что переводчик поэзии должен обладать искусством перевоплощения, даром Протея. Однако Пушкин, наделенный этим даром в высшей мере, не создал ни одного перевода в полном смысле этого слова. Более того, перелагая поэму Джона Уилсона «Чумный город», посвященную эпидемии чумы в Лондоне в 1665 году, Пушкин изменил и сам жанр, «дописав» в своей маленькой трагедии «Песню Мэри» и «Песню Председателя». Нельзя назвать также переводами ни переложение «Меры за меру» Шекспира, ни отрывок «Из Пиндемонти»: в молодости мы придумали даже единицу измерения вольности перевода — «один Пиндемонти» или, если хотите, «одна пиндемонтя».
Удивительно, однако, что Лермонтову, одному из наиболее своевольных гениев русской поэзии, удавалось в общем-то довольно точно передавать дух переводимого произведения. Я имею в виду, конечно, не переложение «Горные вершины» из Гёте, хотя и там дух оригинала передан, несмотря на отступления, прекрасно проанализированные М.Л. Гаспаровым, но прежде всего его переложения «Еврейских мелодий» Байрона. Правда, и в этом, в частности в финале переложения «Душа моя мрачна», Лермонтов остался собой: если у Байрона существует надежда (“…And break at once — or yield to song”), то Лермонтов этой надежды не оставляет: «И грозный час настал — теперь она полна, / Как кубок смерти, яда полный».
В уже упомянутой лекции Шлейермахер предлагает представить такую ситуацию, «когда переводчик говорит читателю: вот, я принес тебе книгу, такую, как написал бы этот человек, пиши он по-немецки; а читатель отвечает ему: премного благодарен, но это все равно, как ты написал бы портрет человека, если б мать родила его от другого отца. Ибо при создании произведения науки и искусства духу создателя принадлежит право материнства, а его родному языку дано право отцовства. По сути, вольности переводчика оправданы только как игра, которая доставляет наслаждение сама по себе» (перевод Н.М. Берковской). Шлейермахер, стало быть, между точностью и вольностью, «очуждением» и «одомашниванием» отдает предпочтение первому. Тем не менее, удачи в переводе существуют. К таковым я причисляю «Илиаду» Гомера в переводе Гнедича и «Потерянный рай» Джона Мильтона в переводе Штейнберга, и многие другие, о которых говорил выше. А переложения из иноязычных поэтов издавна украшали стихотворные сборники русских поэтов. Не следует лишь выдавать переложение за перевод.
Шлейермахер говорит о двух видах перевода, утверждая при этом, что третьего не дано (ссылаясь при этом на мысль Гёте о том, что прозаические переложения поэзии, пусть полезные для образования молодежи, переводами назвать нельзя и при переводе поэзии следует соблюдать метр и ритм): либо заставить говорить Тацита так, как если бы он был немцем (и, соответственно, прибегать к вольностям, стремясь передать дух переводимого произведения), либо «не гнаться за легкостью и дешевизной», «не смешивать неумелые школярские потуги с работой мастера», а направить усилия на создание «особого языка, который не тождествен повседневному, является результатом целенаправленной деятельности и демонстрирует некое сходство с иностранным языком». То есть имеется в виду именно такой перевод, через который «просвечивает» иноязычный текст. Путь этот, по мнению Шлейермахера, наиболее сложный и требует мастерства и смирения.
В последнее время появилась еще школа так называемого транспарентного перевода: то есть считается, что через перевод должен просвечивать оригинал, что выражается, скажем, в синтаксисе, словоупотреблении, особенно в переводе прозы. Я с этим в целом не согласен: у нас и в лингвистике, и тем более в художественном переводе это называется «калька», когда иноязычная конструкция или оборот буквально переносятся из одного языка в другой. Следует прежде всего понять, какие задачи ставил перед собой автор и какова его или ее манера. Если это не постмодернист, который и в родном языке нарушает нормы синтаксиса и словоупотребления, тогда я против такого перевода. Более того, мы иногда поневоле допускаем подобные «кальки» и для этого нужно серьезно редактировать, а в спешке, конечно, никакой серьезной редактуры быть не может.
Если же говорить о том, должен ли оригинал просвечивать через перевод или нет с филологической точки зрения, то все зависит от того, как это сделано: скажем, у Голышева это бывает сделано мастерски, в лучших переводах из Сэлинджера (особенно Р. Райт-Ковалевой), гениального и очень сложного писателя, оригинал просвечивает, но это опять-таки убедительно. Главное, чтобы переводчик понимал, что оставить, а что — нет, и чтобы он был мастером, что, к сожалению, в наше время встречается крайне редко. Это — на прикладном уровне.
Если же говорить об этом с точки зрения философской, то оригинал не может не просвечивать через перевод, как оригинал Священного Писания просвечивает сквозь переводы Лютера и переводы, сделанные под эгидой короля Иакова. А кроме того, любое произведение искусства — палимпсест (и строго говоря — перевод). И каждое новое поколение прочитывает его по-иному. Более того, каждый человек прочитывает по-разному одно и то же произведение. В этом смысле существует бесчисленное множество «Гамлетов» или «Идиотов» (вспомним современное прочтение-экранизацию «Идиота» — «Даунхаус» или рассказ Борхеса «Пьер Менар — автор “Дон Кихота”»). Даже если читать, скажем, «Над пропастью во ржи» Сэлинджера по-английски в Москве и в Нью-Йорке, да еще сидя в Сентрал-парке, — это будут совершенно разные произведения. Кроме того, мы говорим не только для того, чтобы общаться, но и чтобы скрывать нечто от посторонних или непосвященных. Существует ведь герметическая, эзотерическая литература, чтение которой требует большой подготовки, большой работы, больших усилий.
Есть еще перевод фонологический, передача звучания оригинала, звука. Примером такого невозможного перевода можно считать перевод такого классического стихотворения Артюра Рембо, как «Гласные» (“Voyelles”). Такую задачу, а если точнее, сверхзадачу поставил перед собой в свое время американский поэт Луис Зукофски, который, переводя Катулла, стремился сохранить звук. Его переводы из Катулла и теперь считаются образцом. Однако я столкнулся еще и с переводчиками на разные языки, в том числе на английский, иврит, которые ставят перед собой задачу только передачи звука, не обращая внимания на смысл, содержание. Помимо содержания есть еще и содержательность. Форма не является содержанием, как полагали формалисты, но сама по себе форма — содержательна; причем содержательность и содержание, как заметил выдающийся русский поэт Семен Израилевич Липкин, — вещи разные. Если содержательность делает неповторимым любое литературное произведение, то содержание подчеркивает либо самобытность, либо беспомощность, а то и вовсе пустоту формы.
Слово как таковое непереводимо, однако есть выбор даже в пределах этой непереводимости, то есть перевоссоздание текста с оглядкой на оригинал либо вариация на тему оригинала, но тогда это уже не перевод, а новое произведение.
А вообще-то, как заметил Шлейермахер, «мы редко говорим и слишком много болтаем, то же самое происходит в литературе, и перевод немало способствует возвращению речи ее весомости. Настанет время, когда у нас наконец-то будет общественная жизнь: с одной стороны, появится содержание, достойное языка, а с другой — талант ораторов получит свободное выражение. Вот тогда для развития языка уже не нужен будет перевод. И пусть это время придет раньше, чем мы пройдем все круги мучений переводчика!» [20] Надо сказать, что Шлейермахер был слишком оптимистичен: мы все еще ждем того времени, когда «талант ораторов получит свободное выражение», а что до того времени, когда «уже не нужен будет перевод», то оно, кажется, никогда не наступит, поскольку, даже если бы удалось возвести новую Вавилонскую башню, вернуться к одному праязыку будет невозможно, и это нормально, поскольку мы живем во времена «цветущей сложности», как выразился русский философ Константин Леонтьев, и поэтому для понимания мира и самих себя нам необходим перевод.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Ezra Pound. Rome
From the French of Joachim du Bellay
“Troica Roma resurges”
Propertius
O thou new comer who seek’st Rome in Rome
And find’st in Rome no thing thou canst call Roman;
Arches worn old and palaces made common,
Rome’s name alone within these walls keeps home.
Behold how pride and ruin can befall
One who hath set the whole world ‘neath her laws,
All-conquering, now conquerèd, because
She is Time’s prey and Time consumeth all.
Rome that art Rome’s one sole last monument,
Rome that alone hast conquered Rome the town,
Tiber alone, transient and seaward bent,
Remains of Rome. O world, thou unconstant mime!
That which stands firm in thee Time batters down,
And that which fleeteth doth outrun swift time.
Эзра Паунд. Рим [21]
С французского, из Иоахима Дю Белле
“Troica Roma resurges”
Propertius
О ты, пришелец, посетивший Рим
И не нашедший в древнем Риме Рима,
Когда тщета в былых чертогах зрима
И славен город именем одним.
Гордыне и разрухе в свой черед
Подвластны те, кто правил здесь и там.
Завоеватель завоеван сам,
Так Время всех со временем пожрет.
Рим — памятник себе же самому.
Рим Римом был в конце концов разбит;
Спешит, как прежде, в море, как во тьму,
Лишь древний Тибр. Над Римом шутит зло
Мир, чьи твердыни время сокрушит.
А что течет, от времени ушло.
Перевод В. Микушевича
Сонет «Рим» является переводом с французского из «Римских древностей» (1558) Иоахима Дю Белле (1522–1560):
Римские древности III
Ты в Рим пришел и не находишь Рима.
Где в Риме Рим? Владеет лишь закат
Руинами чертогов и аркад.
«Рим», — говоришь и видишь: слава мнима.
Минувшее — фантом и пантомима.
Самой себе гордыня — супостат.
Рим по своим законам виноват.
Снедь времени, жизнь временем гонима
Рим — памятник себе, свой вечный след;
Рим сам одна из всех его побед.
Лишь в море Тибр по-прежнему спешит.
Мир к вечному был беспощаден граду.
Твердыни — прах. Их время сокрушит,
А что течет, противится распаду.
Перевод В. Микушевича
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Эзра Паунд. Ей памятник, над ней возникший образ
(С итальянского из Леопарди)
Такой была ты.
Ты теперь
Прах погребенный, ты скелет поблекший.
Недвижное, воздвигнутое тщетно
Немое зеркало годов бегущих,
Страж горести,
Страж памяти,
Ты образ минувшей красоты.
Взгляд бывший твой теперь и не теперь,
Когда вселял твой взгляд
Огонь в мужские жилы, губ изгиб,
Напоминавший вазу, где восторг,
На шее ожерелье, быстрый пыл,
Любви ладони на путях твоих;
Не раз, не два на дню
Касание похолодевших рук
Влекла ты. Где же красота твоя,
Недавняя теперь?
Лишь стыд и грусть —
Под камнем тленье бывших форм твоих.
И все-таки, накликано судьбою,
Подобие любое среди нас —
Поистине живой небесный образ,
В котором тайна жизни нашей вечна.
И ныне ввысь
Возносится из мысли, от истока,
Где красота сокрыта
И трепетный отбрасывает свет
Бессмертья на струящийся песок,
Как будто бы опеку
Даруя человеку,
Сверхчеловеческий нам рок сулит
В блаженном царстве сферу золотую,
И поутру изгибом света вдруг,
Отвратностью своею пристыжен,
Вид ангельский вернуться может весь
К нам, ныне пусть былой,
Чьи дивные прообразы исчезли,
Покинув дух, покинутые духом.
Видений, в бесконечности желанных,
Мысль вожделеет с доблестью природной
В согласье мудром в море ненаглядном,
Где тайный дух всего людского рода —
Надежный кормчий… Но неверной нотой
В звучанье,
Пусть мгновенной,
Весь этот рай ввергается в ничто.
О смертная природа,
Если ты
Вся лишь порок и тлен,
Как ты высот, убогая, достигла?
А если ты,
Хоть в малости знатна,
Как знатность помыслов твоих и речи
Иссякла вся,
В ничтожестве презренном отблистав?
Перевод В. Микушевича
Ezra Pound. Her Monument, the Image Cut Thereon
From the Italian of Leopardi (Written 1831-3 circa)
Such wast thou,
Who art now
But buried dust and rusted skeleton.
Above the bones and mire,
Motionless, placed in vain,
Mute mirror of the flight of speeding years,
Sole guard of grief
Sole guard of memory
Standeth this image of the beauty sped.
O glance, when thou wast still as thou art now,
How hast thou set the fire
A-tremble in men’s veins; O lip curved high
To mind me of some urn of full delight,
O throat girt round of old with swift desire,
O palms of Love, that in your wonted ways
Not once but many a day
Felt hands turn ice a-sudden, touching ye,
That ye were once! of all the grace ye had
That which remaineth now
Shameful, most sad
Finds ‘neath this rock fit mould, fit resting place!
And still when fate recalleth,
Even that semblance that appears amongst us
Is like to heaven’s most ‘live imagining.
All, all our life’s eternal mystery!
To-day, on high
Mounts, from our mighty thoughts and from the fount
Of sense untellable, Beauty
That seems to be some quivering splendour cast
By the immortal nature on this quicksand,
And by surhuman fates
Given to mortal state
To be a sign and an hope made secure
Of blissful kingdoms and the aureate spheres;
And on the morrow, by some lightsome twist,
Shameful in sight, abject, abominable
All this angelic aspect can return
And be but what it was
With all the admirable concepts that moved from it
Swept from the mind with it in its departure.
Infinite things desired, lofty visions
’Got on desirous thought by natural virtue,
And the wise concord, whence through delicious seas
The arcane spirit of the whole Mankind
Turns hardy pilot . . . and if one wrong note
Strike the tympanum,
Instantly
That paradise is hurled to nothingness.
O mortal nature,
If thou art
Frail and so vile in all,
How canst thou reach so high with thy poor sense;
Yet if thou art
Noble in any part
How is the noblest of thy speech and thought
So lightly wrought
Or to such base occasion lit and quenched?
Ниже приводится стихотворение Леопарди в переводе Вл. Микушевича:
К изображению красавицы, высеченному в монументе над ее гробом
Прекрасна прежде, ты в земле сегодня
Скелет и прах. Над гнилью и костями,
Изваяно искусно, но напрасно
Навек в немом внимании к пропаже
Стоит на грустной страже
Лишь принадлежность памяти, подобье
Минувшей красоты; взгляд этот нежный,
Бросавший в дрожь других, теперь недвижный,
И губы, взор прельщавшие сосудом,
Который наслажденьем переполнен
Неудержимым; шея в ожерелье
Желанья; длань, которую опасно
При встрече вожделенной
Потрогать было; руки леденели,
Грудь, от которой люди,
Ее увидев, пламенно бледнели;
Сегодня камень только над костями
И гнилью, труд искусный,
Сей вид постыдно грустный грустно прячет.
Но так по воле рока
Средь нас подобье более подобно
Живому небу, этой тайне жизни
И бытия; там наша мысль гнездится
И там родится в чистоте первичной;
Там красота, оттуда
Сияние истока
Бессмертного, чей дар в земной пустыне;
Там власть судеб над нами,
Над временами золотого века
В надежной благостыне,
И там не одинока
Жизнь, движимая смертью,
Но мерзкий, грязный, смрадный
Здесь тот, кто реял в небе,
По-ангельски нарядный;
Оставленного духом
И жизненною силой
Прообраз ненаглядный покидает.
Безбрежные желанья,
Высокие виденья
Рождают побужденья
К добру в премудром строе,
Где в море дух наш тайный
Избрал необычайный
Путь в солнечные дали
Сквозь океан бескрайный,
Но первый звук фальшивый
В ничтожество повергнет
Весь этот рай, где странствует счастливый,
Когда природа наша
Разрушится в напасти,
Как может прах столь дивно быть украшен?
А если хоть отчасти
Наш дух привержен мысли благородной,
Как мелочью бесплодной
Он может быть низвержен и погашен?
Чекко Анджиольери (Сиена, ок. 1260–1312)
Когда б я был огнем, весь мир бы сжег,
когда б я был водой, низверг потоп,
когда б я ветром был, сплел бурь клубок,
когда б я Богом был, мир бы погреб.
Когда б я Папой был, вкушал бы наслажденья,
мораль и христиан вогнал бы в гроб;
когда б я император был, то чтоб
я сделал? Всех казнил бы без сомненья.
Когда б я смертью был, к отцу припал бы,
когда б я жизнью был, прочь со всех ног
от матери и от отца бежал бы.
Когда б я Чекко был, ведь я — не Бог,
Красавиц всех любил бы сколько смог,
Уродин и старух другим отдал бы.
Перевод Яна Пробштейна
Cecco Angiolieri (Siena, c. 1260–1312)
S’i’ fosse foco, ardere’ il mondo;
s’i’ fosse vento, lo tempestarei;
s’i’ fosse acqua, i’ l’annegherei;
s’i’ fosse Dio, mandereil’en profondo.
S’i’ fosse papa, serei allor giocondo,
ché tutti cristïani embrigarei;
s’i’ fosse ‘mperator, sa’ che farei?
a tutti mozzarei lo capo a tondo.
S’i’ fosse morte, andarei da mio padre;
s’i’ fosse vita, fuggirei da lui:
similemente faria da mi’ madre.
S’i’ fosse Cecco, com’i’ sono e fui,
torrei le donne giovani e leggiadre:
le vecchie e laide lasserei altrui.
Charles Bernstein. S’i’ fosse
If I were fire, the world’d burn;
if I were wind, there’d be tempests at ev’ry turn;
if I were water, watch earth drown;
if I were God, I’d smash it all to worms.
If I were Pope, to hell with moral compass,
the christians’d all be flung into a stinkin’ rumpus;
if I were ’mperor, what’ld you see?
everybody’s heads rolling round me.
If I were death, I’d go straight for my father;
if I were life, I’d run fast from that bastard:
likewise, don’t you know it?, from mother.
If I were Cecco, likes I am ’n’ was,
I’d chase young, pretty fuzz:
crips and hags, I’d leave to you, putz.
after Cecco Angiolieri (Siena, c. 1260–1312)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Классический пример вольного перевода в русской поэзии — это «Ночная песня странника» Гёте в переложении Лермонтова [22].
Ober allen Gipfeln
Ist Ruh.
In allen Wipfeln
Spurest du
Kaum eine Hauch.
Die Vogelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
He дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.
В оригинале 11 знаменательных слов, в переводе — 17. Из текста Гёте, можно считать, точно переведены четыре слова: Gipfeln, warte, balde, ruhest (schweigen вряд ли можно считать точным эквивалентом к «не дрожат»). В переводе точно соответствуют оригиналу пять слов (Gipfeln передано двумя словами — «горные вершины»), остальные 12 cлов внесены переводчиком («не пылит дорога, не дрожат листы», по-видимому, соответствует словам Kaum eine Hauch, но это трудно считать точным переводом). Показатель точности, стало быть, 4 : 11 = 35%; показатель вольности 12 : 17 = 70%. Собственно переводом здесь можно считать только первую и две последние строчки, все остальное — свободные вариации Лермонтова на тему Гёте. Заметим попутно, что даже заглавие оригинала, “Wanderers Nachtlied”, неприложимо к стихотворению Лермонтова: «Не пылит дорога, не дрожат листы» — это зрительные образы, в ночном стихотворении неуместные, тогда как Гёте строго ограничивается образами слуховыми и осязательными (Hauch, schweigen).
Примечания




Комментарии