«Запад» и реальность
Война без объявления войны. Материалы дискуссий АИРО-XXI на конференции «“Запад как враг”: реанимация исторического мифа или новая реальность?»
 2 359
2 359 
© The U.S. Army
Первое заседание. Исторические аспекты мифа
Сергей Сергеев. «Запад как враг» в русской общественно-политической мысли: от преддверия Крымской войны до «лихих девяностых»
Наверняка тот материал, который я изложу, не будет новостью для большинства присутствующих, но, во-первых, он совершенно необходим для введения в тему, а во-вторых, он показывает, что современные идеологические концепты русской мысли, в общем-то говоря, далеко не новость, и мы увидим много чего знакомого. Вообще тема русского антизападничества велика и обильна, какие-то декларации можно найти и в Киевской Руси, хотя в целом этот период далек от цивилизационного противостояния России Западу, но представляется, что создание образа Запада как коллективного и экзистенциального врага России — заслуга 1840-х годов, времени, когда империя Николая I, претендовавшая на роль европейского гегемона, с удивлением обнаружила свою непопулярность в общественном мнении Запада, свидетельством чего стала, в частности, известная книга Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году» (1843), но, впрочем, еще до появления книги, в 1841 году один из идеологов так называемой официальной народности С.П. Шевырев в статье «Взгляд русского на современное образование Европы» написал о том, что «Запад… забыв прежнее добро наше, забыв жертвы ему от нас принесенные, при всяком случае выражает нам свою нелюбовь, похожую даже на какую-то ненависть, обидную для всякого русского, посещающего его земли». Слова «враг» по отношению к Западу в этой статье нет, но он представлен как смертельно больной человек, могущий заразить своей болезнью Россию:
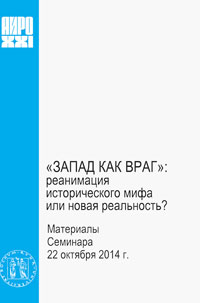 «…в наших искренних, дружеских, тесных отношениях с Западом мы не примечаем, что имеем дело как будто с человеком, носящим в себе злой, заразительный недуг, окруженным атомосферою опасного дыхания. Мы целуемся с ним, обнимаемся, делим трапезу мысли, пьем чашу чувства… и не замечаем скрытого яда в беспечном общении нашем, не чуем в потехе пира будущего трупа, которым он уже пахнет!»
«…в наших искренних, дружеских, тесных отношениях с Западом мы не примечаем, что имеем дело как будто с человеком, носящим в себе злой, заразительный недуг, окруженным атомосферою опасного дыхания. Мы целуемся с ним, обнимаемся, делим трапезу мысли, пьем чашу чувства… и не замечаем скрытого яда в беспечном общении нашем, не чуем в потехе пира будущего трупа, которым он уже пахнет!»
Но все же окончательно, как мне кажется, целостный образ Запада как врага сформировал такой выдающийся деятель русской культуры, как наш великий поэт Ф.И. Тютчев. Именно в его работах конца 40-х годов основы этой идеологемы были созданы. Причем обычно считается, что решающее влияние на создание этого образа имели европейские революции 48–49-го годов, это во многом так, но все же требует уточнения. По крайней мере, Тютчев обдумывал ее как минимум на несколько лет раньше. В записке на имя Николая I (1845) он писал о России как о наследнице православной Византии, противостоящей Западу, руководимому католическим Римом, полем боя между ними является православный, славянский Восток: «Если пристально рассматривать ход событий, борьба между Западом и нами никогда не прекращалась. В ней не было даже длительной передышки, а случались лишь короткие остановки. Зачем теперь это скрывать от себя? Борьба между Западом и нами готова разгореться еще жарче, чем когда бы то ни было, и на сей раз опять, как и прежде, как всегда, именно римская Церковь, латинская Церковь оказывается в авангарде противника. Что же, примем бой открыто и решительно. И да не забудет ни на мгновение Восточная Церковь перед лицом Рима, что она является законной наследницей вселенской Церкви». Революции 1848–49 годов изменили ракурс тютчевского взгляда на Запад, но не на его вражескую сущность. Теперь стало ясно, что Запад опасен прежде всего не католицизмом (о нем Тютчев написал уже в гораздо более примирительных тонах в работе «Римский вопрос», где говорится, что католицизм — это последний осколок традиционного общества на Западе), а своим революционным духом, в основе которого «человеческое я, желающее зависеть лишь от самого себя, не признающее и не принимающее другого закона, кроме собственного волеизъявления, одним словом, человеческое я, заменяющее собой Бога…». Современный Запад, по Тютчеву, это отрицание традиций, отрицание какого-либо порядка. Т.е. революция на Западе — это не просто политический процесс, это процесс духовный, это крушение всех авторитетов, крушение, с точки зрения Тютчева, основ общества вообще, это практическое антихристианство. «Революция… прежде всего — враг христианства. Антихристианский дух есть душа Революции, ее сущностное, отличительное свойство». Россия же — «христианская держава, а русский народ является христианским не только вследствие православия своих верований, но и благодаря чему-то еще более задушевному. Он является таковым благодаря той способности к самоотречению и самопожертвованию, которая составляет как бы основу его нравственной природы». Поэтому-то «уже давно в Европе существуют только две действительные силы: Революция и Россия. Эти две силы сегодня стоят друг против друга, а завтра, быть может, схватятся между собой. Между ними невозможны никакие соглашения и договоры. Жизнь одной из них означает смерть другой. От исхода борьбы между ними, величайшей борьбы, когда-либо виденной миром, зависит на века вся политическая и религиозная будущность человечества». Тютчев говорит о «беспощадной войне в готовящемся крестовом походе нечестивой Революции, уже охватившей три четверти Западной Европы, против России». Впрочем, он совершенно уверен в победе России: «Тысячелетние предчувствия совсем не обманывают. У России, верующей страны, достанет веры в решительную минуту. Она не устрашится величия своих судеб, не отступит перед своим призванием. И когда еще призвание России было более ясным и очевидным? Можно сказать, что Господь начертал его огненными стрелами на помраченных от бурь Небесах. Запад уходит со сцены, все рушится и гибнет во всеобщем мировом пожаре — Европа Карла Великого и Европа трактатов 1815 года, римское папство и все западные королевства, Католицизм и Протестантизм, уже давно утраченная вера и доведенный до бессмыслия разум, невозможный отныне порядок и невозможная отныне свобода. А над всеми этими развалинами, ею же нагроможденными, цивилизация, убивающая себя собственными руками… И когда над столь громадным крушением мы видим еще более громадную Империю, всплывающую подобно Святому Ковчегу, кто дерзнет сомневаться в ее призвании, и нам ли, ее детям, проявлять неверие и малодушие?..»
В неоконченном трактате 49-го года «Россия и Запад» Тютчев выстраивает конкретную стратегию, что собственно делать с этим революционным Западом: поглощение Россией Австрии, присоединение Германии и Италии и объединение христианских церквей при союзе русского императора и православного папы в Риме. Крымская война для Тютчева стала подтверждением тех его самых дурных предчувствий, когда, по его словам, Россия «вступит в схватку с целой Европой». Любопытно, что ракурс у него опять несколько меняется, и он выражает в частных письмах надежду на то, что «красный» Запад нам поможет в этой ситуации, он надеется на новую революцию в Европе, которая ее ослабит. Но этого не произошло, и письма Тютчева 50-х годов наполнены гневом по поводу, как он говорит, «тупоумной» политики Николая I, который в свое время не воспользовался его рекомендациями.
После Крымской войны, на мой взгляд, антизападничество несколько поутихло, поскольку русская мысль ушла в осмысление реформ, которые происходили в России при Александре II. Новый виток резкого антизападничества вызвала негативная реакция европейских держав на подавление Россией польского мятежа 1863 года, воспринятая русским общественным мнением, даже, кстати, во многом и либеральным, как вмешательство во внутренние дела России. Кроме того, в 60-е годы начинается противостояние России и Англии на Востоке, так называемая большая игра, что тоже способствовало росту антизападничества. Теоретическим оформлением этих настроений стала этапная для антизападничества книга Н.Я. Данилевского «Россия и Европа» (1869). Принципиальной новостью в сравнении с точкой зрения Тютчева стало то, что если для Тютчева и Запад, и Россия принадлежат к Европе, т.е. Тютчев недвусмысленно говорит, что Россия тоже Европа, но «другая», «восточная», Тютчев еще универсалист в этом смысле, то для Данилевского Россия и Запад принадлежат разным культурно-историческим типам, разным цивилизациям: германо-романский Запад, уже дряхлеющий на глазах, и идущий ему на смену славянский культурно-исторический тип, центром которого является Россия. Отсюда ненависть Европы к России: «…Европа не признает нас своими. Она видит в России и в славянах вообще нечто ей чуждое, а вместе с тем такое, что не может служить для нее простым материалом, из которого она могла бы извлекать свои выгоды, как извлекает из Китая, Индии, Африки, большей части Америки и т.д., — материалом, который можно бы формировать и обделывать по образу и подобию своему… Европа видит поэтому в Руси и в славянстве не чуждое только, но и враждебное начало. Как ни рыхл и ни мягок оказался верхний, наружный, выветрившийся и обратившийся в глину слой, все же Европа понимает, или, точнее сказать, инстинктивно чувствует, что под этой поверхностью лежит крепкое, твердое ядро, которое не растолочь, не размолотить, не растворить, — которое, следовательно, нельзя будет себе ассимилировать, претворить в свою кровь и плоть, — которое имеет и силу и притязание жить своею независимою, самобытною жизнью. Гордой, и справедливо гордой, своими заслугами Европе трудно — чтобы не сказать невозможно — перенести это. Итак, во что бы то ни стало, не крестом, так пестом, не мытьем, так катаньем, надо не дать этому ядру еще более окрепнуть и разрастись, пустить корни и ветви вглубь и вширь. Уж и теперь не поздно ли, не упущено ли время? Тут ли еще думать о беспристрастии, о справедливости. Для священной цели не все ли средства хороши? Не это ли проповедуют и иезуиты, и мадзинисты, — и старая, и новая Европа?.. Все самобытно русское и славянское кажется ей достойным презрения, и искоренение его составляет священнейшую обязанность и истинную задачу цивилизации». Данилевский доказывает, что Европа «не случайно, а существенно нам враждебна; следовательно, только тогда, когда она враждует сама с собою, может она быть для нас безопасною», и поэтому европейская политика России должна быть такова: «Нам необходимо… отрешиться от мысли о какой бы то ни было солидарности с европейскими интересами, о какой бы то ни было связи с тою или другою политическою комбинацией европейских держав и прежде всего приобрести совершенную свободу действия, полную возможность соединяться с каждым европейским государством под единственным условием, чтобы такой союз был нам выгоден, нимало не взирая на то, какой политический принцип представляет собою в данное время то или другое государство». Берлинский конгресс 1878 года, где опять-таки, с точки зрения русского общественного мнения, Запад коллективно выступил против России, когда неожиданно для русских канцлер Бисмарк занял враждебную по отношению к России позицию, добавил аргументов к этой точке зрения Данилевского. Он прокомментировал итоги конгресса в статье 1879 года «Горе победителям», где, конкретизируя прежние свои выводы, говорит о том, что Россия в политическом смысле не только не Европа, но Анти-Европа, что антагонизм России и Европы неизбежен, его невозможно предотвратить, поэтому для успешной русской политики нужно перестать считать Россию членом европейской политической системы: «Россия, для достижения своих целей, должна пользоваться всеми ошибками Европы, всяким внутренним раздором ее, всякою надобностью, которую то или другое государство может встретить в помощи России… Политика России, чтобы быть успешною… должна держаться, как постоянного руководящего принципа, русско-славянского эгоизма…»
Для эпохи Александра III вообще характерна антизападническая риторика, причем теперь она распространяется на самые разные направления русской мысли, потому что до этого мы говорили только о консервативном направлении. Наиболее яркой фигурой в дискурсе о Западе как враге этого периода является К.Н. Леонтьев, крупнейший идеолог русского консерватизма. Для него, как и для Тютчева, современный Запад есть отрицание самих основ общества, плюс для него как принципиального эстета буржуазная цивилизация антиэстетична, при этом Леонтьев по-своему любит старый Запад, но нынешний буржуазный Запад для него отвратителен. Характерна в данном отношении цитата из его работы «О всемирной любви» (это полемика с Пушкинской речью Ф.М. Достоевского): «…как мне хочется теперь в ответ на странное восклицание г. Достоевского: “О, народы Европы и не знают, как они нам дороги!” — воскликнуть не от лица всей России, но гораздо скромнее, прямо от моего лица и от лица немногих мне сочувствующих: “О, как мы ненавидим тебя, современная Европа, за то, что ты погубила у себя самой все великое, изящное и святое и уничтожаешь и у нас, несчастных, столько драгоценного твоим заразительным дыханием!”» (Кстати, «заразительное дыхание» заставляет вспомнить Шевырева.) В работе 1882 года «Письма о восточных делах» Леонтьев говорит о том, что он во многом последователь Данилевского и что Россия как представитель нового культурно-исторического типа неизбежно должна вступить в борьбу с Западом, в ее цели входит присоединение Царьграда и образование союза восточных государств вокруг себя. В качестве главного врага он видит Францию. Правда, он оговаривается, что, конечно, если бы Германия тоже была республикой и президентом там был бы какой-нибудь либерал Вирхов, то неизвестно, что было бы хуже — Франция или Германия, но в данном случае все-таки Франция хуже. Один из ярчайших пассажей этой статьи в том, что было бы прекрасно, если бы присоединение Царьграда совпало с анархическим бунтом во Франции и разрушением Парижа, потому что это был бы осязательный пример того, что западная цивилизация гибнет: «…надо желать, чтобы якобинский (либеральный) республиканизм оказался совершенно несостоятельным и не перед реакцией монархизма, а перед коммунарной анархией; ибо монархическая реакция все-таки прочна не будет, а только собьет еще раз с толку наше и без того плохое общественное мнение, ненадежная монархия будет только томить, как томит осужденного на смерть больного медленная агония; она будет длить обманчивое и зловредное влияние европейских либеральных идей; торжество же коммуны более серьезное, чем минутное господство 71-го года, докажет, несомненно, в одно и то же время и бессилие “правового порядка”, искренно проводимого в жизнь (чем искреннее, тем хуже!), и невозможность вновь организоваться народу на одних началах экономического равенства. Так что те государственные организмы, которым еще предстоит жить, поневоле будут вынуждены избрать новые пути, вовсе не похожие на те пути, по которым шла Европа с 89-го года. Большинство не умеет ни отвлеченно предвидеть, ни художественно предчувствовать; большинству нужны наглядные примеры… Прибавляю еще вот что: возможно ли серьезное (хотя, повторяю, опять-таки временное) торжество и господство коммуны без вандализма, без вещественного разрушения зданий, памятников искусства, некоторых библиотек и т.д.? Конечно нет, и при нынешних средствах разрушения обратить большую часть Парижа в развалины и груды пепла гораздо легче, чем было во времена древние разрушать другие великие культурные центры — Вавилон, Ниневию, старый Рим и т.д. А этого и нужно желать тому, кто жаждет новых форм цивилизации на берегах Босфора. Разрушение Парижа сразу облегчит нам дело культуры далее и внешней в Царьграде. И неужели это только бессильное желание варварской зависти? Не думаю! Не вернее ли, что это нечто вроде пророчества, если не совсем уже научного, то полунаучного, гипотетического, по индуктивному способу из примеров исторических выведенного». Еще очень острая цитата из частного письма по поводу отношения Леонтьева к структурным принципам западной цивилизации: «Придет время, так прихлопнем всю эту анафемскую демократию, что только мокро останется… И “Оптинские старцы” даже не откажут в своем благословении на такой exploit». Любопытно, что параллельно с этим на левом фланге русской мысли появляются близкие настроения, в народническом дискурсе, и это понятно, потому что и мысль Леонтьева, и мысль народников находилась в русле антикапиталистической ментальности. Характерна, например, в этом отношении работа С.Н. Южакова «Англо-русская распря. Небольшое предисловие к большим событиям. Политический этюд» (1885). Здесь уже символом Европы становится Англия, она воплощение западного капитализма, противостоящего антибуржуазной России: «Буржуазный капиталистический режим, дошедший (в Европе) до самого крайнего выражения именно в Англии и притом именно в лице Англии, перенесшей свое господство и в международные отношения, этот режим встретил в лице России страну не буржуазную и не капиталистическую, а построившую свою культуру на идее крестьянства; борьба между двумя мировыми колоссами поневоле явится борьбою между двумя режимами, проверкою их состоятельности и их значения и роли в будущем. В этом — смысл борьбы и в этом же ее причина, ибо обе страны, следуя каждая не более, как логике своей культуры и требованиям своей истории, пришли на Востоке в такое соприкосновение, что ужиться рядом не могут и, покуда не преобразовали своего внутреннего строя по образцу противника, не должны уживаться, не уживутся, как бы того государственные люди обоих государств не желали… борьба между лордом-капиталистом с одной стороны и русским мужиком с другой предписывается всей логикой обеих государств».
К началу Первой мировой войны ситуация принципиально изменилась, потому что Россия оказалась в союзе с рядом западных стран против других западных стран. Наследникам славянофильских традиций пришлось эту проблему как-то осмыслять, и очень любопытно смотреть, как это делает, например, В.Ф. Эрн в своих публичных лекциях «Время славянофильствует (Война, Германия, Европа и Россия)» (1915), где он говорит, что «старая антитеза “Россия и Европа” вдребезги разбивается настоящей войной», ибо Германия уже не Европа, не подлинная Европа, в Германии восторжествовали богоборческие, антихристианские тенденции, зато в Англии, во Франции, в Бельгии они, напротив, проснулись, и теперь наступает некое возрождение христианской цивилизации: «Отношение России к Европе стало чрезвычайно простым после того, как отрицательные, богоубийственные энергии Запада стали сгущаться в Германии, как в каком-то мировом нарыве, — и оттягивать весь воспалительный процесс в одно место. Когда вспыхнула война и наяву в Бельгии, Франции и Англии воскресли “святые чудеса”, между Россией и этими странами установилось настоящее духовное единство. С этой Европою подвига и героизма, с Европою веры и жертвы, с Европою благородства и прямоты мы можем вместе, единым сердцем и единым духом, творить единое “вселенское дело”. Мы должны быть бесконечно благодарны чутью и такту нашей дипломатии, которая чуть ли не в первый раз в нашей истории оказалась на действительной высоте и поставила нас в мировом конфликте рука об руку с теми странами и с теми народами, с которыми у нас есть подлинная общность в самых глубоких и в самых духовных наших стремлениях. Но мы не должны забывать и того, что политический союз с странами Западной Европы осмысливается и освящается для нас высотою духовных целей, нас объединяющих, и что мы подружились с ними не на ненависти к общему врагу, а на любви и привязанности к родственным и близким святыням. Этот момент чрезвычайно обязывает. Как бы ни была значительна и огромна война, с более общих точек зрения судеб Европы и России она все же представляется только началом нового периода истории, в котором духовные силы Востока и Запада станут в какие-то новые, творческие и небывалые еще соотношения, и Европе в дружном сотрудничестве с Россией придется пересмотреть, в свете пережитого “онтологического” опыта войны, все основы своего духовного бытия и найти новые пути дальнейшего культурного и духовного развития».
После катастрофы 1917–20 годов в русской эмиграции снова возникают очень сильные антизападнические настроения, наиболее концентрированным выражением которых явилось евразийство (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий и др.), которое сделало шаг вперед в этом направлении, дальше Данилевского, Россия не только выводится вообще за пределы европейской цивилизации, но и сдвигается в сторону близости с Азией. Антизападничество присутствовало и в советском официальном дискурсе, но оно было всегда непоследовательно, образ Запада был двойственен, там имелись «реакционные» и «прогрессивные» силы. Настоящее антизападничество в СССР формировалось где-то с конца 60-х годов в рамках так называемой «русской партии», вокруг журналов «Молодая гвардия» и «Наш современник» (В.В. Кожинов, П.В. Палиевский, С.Н. Семанов и др.). Это была группа интеллектуалов, ратовавшая за возрождение традиций дореволюционной России и опиравшаяся на наследие славянофилов, Леонтьева и т.д. Идеология этой группы имела в СССР скорее еретический статус, т.е. в официозе она была представлена, но эта точка зрения постоянно подвергалась критике, в отношении некоторых ее выразителей даже применялись «оргвыводы». Прекрасный источник для изучения этого явления — публикуемые сегодня дневники С.Н. Семанова. В легальной печати наиболее ярко эта тенденция была представлено статьей В.В. Кожинова «И назовет меня всяк сущий в ней язык…» (1981), где высказана вполне евразийская концепция русской истории и отношений России с Западом. В перестройку, в 80-е годы антизападничество было крайне непопулярно, но крах СССР его снова пробудил, в середине 90-х годов возникло много его новых версий, тут можно назвать имена и А.Г. Дугина, и С.Г. Кара-Мурзы, и А.С. Панарина, активно были подняты на щит идеи Л.Н. Гумилева. Постсоветское антизападничество стало важнейшим структурным элементом идеологии антиельцинской, как ее тогда называли, «красно-коричневой» оппозиции. Тем интереснее, что сегодня многие из этих идеологем практически получили статус политического официоза.
Татьяна Филиппова. «Враг с Запада» — мифологема в контексте исторических и культурных смыслов
Что самое интересное в мифах, в их бытовании? То, что случается с ними в их жизни «здесь и сейчас», то есть на зыбкой границе между мифами «органическими», бытующими в культурных депо исторической памяти, и мифами-конструктами, которые периодически концептуально создаются и продвигаются той или иной властью, т.е. мифами с заранее заданными свойствами. На этом порубежье (подчас конфликтном) «низовых» представлений и «верхушечного» мифа происходит то, что наполняет некоей смысловой и функциональной конкретикой жизнь мифа «здесь и сейчас».
Предмет моего интереса — отечественная журнальная сатира 1914–1918 годов, которая вполне закономерно оказалась и фактором, и производным от небывалого в истории человечества кризиса, справедливо названного Великой войной. В эпоху, когда (по словам Лоуренса Аравийского) «печатный станок стал наиболее мощным оружием в арсенале современного военачальника», российские журналисты-сатирики создали интереснейшую систему образов, приемов и риторик вражды, в подвижных рамках которой конкретные адресаты — «враги с Запада» — выступали в очень неоднозначных, изменчивых ролях и амплуа, отражавших, бесспорно, мифологизированное восприятие врага.
Формирование образов врага с помощью воздействия на общественное сознание средствами журнальной сатиры и создания специфических мифов в пространстве смеховой культуры часто приводит к образованию своего рода «параллельного измерения». Оно существует и развивается одновременно с реальными событиями военного времени. Более того, эти образы приобретают опасную способность нагнетать напряжение между реальностью представлений и мнимостью фактов. Особенно в условиях, когда наложение старых, исторических фобий на процесс конструирования новых, актуальных с очевидностью фиксирует симптоматику социокультурного кризиса.
В этой связи мне представляется важным (поскольку миф всегда сугубо контекстуален по своему содержанию, а тем более миф «врага»), прежде чем перейти к исследованию этапа конструирования обновленного мифа «врага с Запада» в связи с Первой мировой войной, обратить внимание на те реперные точки, по которым полезно настроить свою исследовательскую «оптику» в каждом конкретном случае при рассмотрении такого мифа. К примеру: сатирическая стратегия и риторика «возраста», диктуемая такой формой критики, а подчас и дискриминации, как эйджизм (от англ. age, возраст). Обратим внимание на то, какой именно «возраст» придается или приписывается тому или иному «врагу», в какой «возрастной категории» он видится сатирикам в этом качестве.
Отметим и то, в каком гендере он изображается, особенно если идет речь о визуализации образа врага. Причем я имею в виду именно гендер как социальную, культурную, образную, символическую роль, приписываемую врагу, а не «пол» как таковой. От этого, кстати, очень зависит и следующая реперная точка — за что именно в данном конкретном мифе не любят объект критической мифологизации, какая основная вина ему приписывается, как в каждой конкретной ситуации видится «иерархия вражды» (если врагов несколько), то есть кто именно в данном случае выступает главным воплощением «врага с Запада».
Важно учитывать, что исторически (в качестве «половины пары») в мифе «врага» заложена бинарная конструкция, отражающая специфику мифологического сознания как такового. «Врагу с Запада» сопутствует на другом полюсе, как правило, «Враг с Востока». В Первую мировую войну отечественным журналистам-сатирикам положение России виделось как раз в перекрестье «западно-восточной» угрозы, поэтому и образ «врага с Запада» («австрийца», «германца») всегда оценивался в его взаимоотношениях с «врагом с Востока» (Османская Турция).
Мне посчастливилось работать с совершенно уникальным историческим источником. Это русская журнальная сатира, в основном карикатура, начала ХХ века. Это самые лучшие, наиболее профессиональные, качественные, отечественные сатирические журналы — «Сатирикон», «Новый Сатирикон», «Шут», «Будильник», «Искры», «Пугач» и т.д. Что их объединяет? Прежде всего, это журналы, условно говоря, либеральной сатиры. В чем здесь условность? В том, что это был не «высокий» либерализм думских споров и партийных дискуссий, а «низовое», повседневное свободомыслие читающей публики столиц и провинции, основного адресата этой журнальной продукции. Этой спецификой данные издания и представляют интерес, поскольку они и отражали, и поддерживали то идейно-политическое небезразличие, которое было так характерно для настроя умов на заре «века войн и революций». Знакомство с подобной литературой позволяет сделать ряд интересных заключений по поводу того, как формировался, развивался и преодолевался образ «врага с Запада» в русской сатире.
В тот момент, к началу Первой мировой войны, «враг с Запада» виделся как «немец» в двух ипостасях — «австриец» и «германец». И риторики критики в их адрес были разными. Во «враге с Запада» в образе «австрийца» реализовались две стратегии критики, два вида соперничества, присутствовавшего в русской культурной традиции по отношению к «австрийцу». Это соперничество Петербурга и Вены, соперничество двух имперских центров и культурных столиц, соперничество двух разных дипломатических, политических и культурных проектов, связанных с присутствием двух традиционных империй в пространстве Европы и Азии. Образ «веселой Вены, столицы оперетты», миф особого «венского шика», с началом событий Первой мировой войны, с варварскими бомбардировками Белграда, с жертвами среди мирного сербского населения отечественная сатира как бы «возвращает» русскому обществу в виде карикатурно изображенного жуткого австрийского офицера, лощеного «аристократа», с бокалом шампанского и с нанизанной на саблю головой сербской женщины… Другой концентрированный образ «врага с Запада» в роли австрийца возвращает нас к эйджистской трактовке — это скелет-Макабр, отсылающий нас к культурной традиции Центральной Европы, где стиль «макабр» предполагал некую эстетизацию мощей, скелетов, черепов. В этом жутком образе «пляски Смерти» («данс Макабр») на страницах русской печати появляется сам император Франц Иосиф I как олицетворение ветшающей империи Габсбургов. Но даже в таком «посмертном» состоянии, по мнению русских сатириков, Австро-Венгрия продолжает представлять угрозу народам мира.
Образ «германца» как врага визуализируется с самого начала войны в таком привычном для карикатурного жанра глумливом виде, как «торжествующая свинья». «Германское свинство» (обыгрывающее такую деталь повседневности, как гастрономические пристрастия немцев) видится карикатуристам и в бомбежках Бельгии, и в развалинах европейских городов, и в особо жестоком характере ведения боевых действий, и в беспрецедентных жертвах среди мирного населения. Образ «германской свиньи», топчущей Европу, гадящей бомбами на ее города, будет постоянно присутствовать на страницах русской печати военных лет. Наряду с образом самого кайзера Вильгельма II, брутального воплощения германского милитаризма, наделяемого выраженной отрицательной харизмой.
Упомянутое соотношение образов «врага с Запада» и «врага с Востока» имеет в русской сатире той поры очень примечательную особенность. «Турок» как главный и традиционный «врага с Востока» выступает в Первой мировой войне в роли жертвы своих же западных союзников. В этом контексте одно из главных обвинений в адрес «австрийца» и «германца», предъявляемых отечественной журналистикой, состоит в том, что те готовы воевать «до последнего турка», сугубо прагматически относясь к Турции и ее роли в Великой войне. Характерные образы той поры: германский кайзер сбрасывает из гондолы воздушного шара жалкую фигурку старенького турка (снова пример эйджистской трактовки!) прямо на русские штыки, облегчая тем самым себе дальнейший полет.
Сделаем шаг назад по шкале времени для того, чтобы представить себе истоки современной традиции изображения «врага с Запада», заложенной «мировой войной номер ноль», как иногда называют Русско-японскую войну 1904–1905 годов. Уже тогда за фигурой агрессивного японского вояки-подростка (снова «возрастная» метафора вражды!) сатирики изображают подлинных инициаторов кризиса на Дальнем Востоке — Великобританию и США, выступающих подстрекателями и финансистами войны Японии с Россией. На массе карикатур той эпохи за личиной «японского дракона», сокрушающего русские корабли, скрываются «лукавые доброжелатели» с Запада, направляющие «молодую» энергию Японии, реформированной по европейским образцам, против России как геополитического соперника Запада. Продвижение мысли о том, что натравливание «Востока» на Россию происходит по указке «Запада», — характерная стратегия отечественных журналистов с самого начала ХХ века.
Даже в период Первой мировой войны «американец» (не будучи точно говоря врагом) как образ предстает в неоднозначной роли. С одной стороны, типична визуализация «Америки» в позитивном образе статуи Свободы как символа всего того, к чему стремится свободолюбивая мысль русской интеллигенции. С другой стороны, Америка в лице ее политического режима, пресловутого «дяди Сэма», располневшего на военных поставках и займах, начинает подвергаться моральной (!) критике. Русские сатирики недоумевают: это кем же надо быть, чтобы в условиях жуткой мировой бойни не выбрать свою сторону конфликта и так долго затянуть со вступлением в войну?! В представлении тогдашних российских журналистов эта не слишком благородная стратегия (когда предпочитают откупиться, чем рыцарски вступить в поединок) становится характернейшим типом поведения западной («атлантической») цивилизации.
Что характерно: русская сатира была болезненно чутка к ужасам военного времени и заранее предугадывала крутую траекторию падения мира в пропасть небывалых катастроф, порожденных «новейшей цивилизацией», построенной на милитаризме. К концу войны риторики вражды в русской журнальной сатире теряют свою адресную «географическую» четкость. Они все меньше зависят от конкретных событий на полях сражений и все больше проникаются осознанием глобальной взаимозависимости внутренних кризисных процессов в странах, участвовавших в Великой войне.
Явственней звучит обвинение «Запада» в лице Австро-Венгрии и Германии в том, что своим влиянием на азиатские страны они усугубили остроту кризиса в них и спровоцировали наиболее жестокие проявления социальных катастроф (к примеру, резню 1915 года в Османской империи). Более того, «азиатский» аспект жестокостей и зверств (как на Кавказском фронте, так и внутри Турции) становится заметной темой на страницах российских сатирических журналов именно в контексте «европейского» (германского и австрийского) воздействия на последствия позднеосманского реформаторства по «западным» лекалам. Патологические последствия некритично воспринятых «Востоком» заимствований с «Запада» видятся сатирикам как знамение времени. Отсюда — уверены журналисты — все эксцессы внешних агрессий и внутренних репрессий, характерные, к примеру, для эпохи бесславного заката Османской Турции в результате ее вступления в Первую мировую войну.
Ближе к окончанию войны, в контексте революционных событий 1917 года, в русской сатирической печати наступает своего рода прозрение — резкое, болезненное, трагическое. Демонический образ-перевертыш «немца» как «врага внешнего» и «врага внутреннего», охватывающего извне и пронизывающего изнутри тело России, под влиянием осмысления русских революций теряет в итоге и силу, и пафос. Исчезают, размываются четкие контуры того или иного образа врага, будь то с «Запада» или с «Востока». Приходит позднее понимание, что за бедами России в войне и революции стоят прежде всего проблемы самой России. В том числе и неготовность, незрелость, неспособность самого русского общества в послефевральский период оказаться на высоте поставленных историей задач — противостоять стихии левачества и большевистской интриги. И уже не так важно, пришли ли большевики к власти на «германские деньки» или это кайзер использовал «ленинцев» для выведения России из войны. Вывод один: «Зло» восторжествовало в стране из-за неспособности самого русского общества осуществить свой собственный конструктивный сценарий развития страны после свержения самодержавия.
Уже после «брест-литовского предательства» (каким видят Брестский мир русские сатирики) образ «Запада» в последних номерах сатирических журналов (окончательно закрытых летом 1918 года) двоится на «положительный» и «отрицательный». Наступление войск «прекрасной Франции», продолжающей воевать с германцами (эпохальное сражение на Марне), видится русским журналистам-сатирикам как рука помощи, благородно протянутая гибнущей России, прикованной к позорному столбу германским кайзером (персонализированным воплощением «врага» с Запада) и собственным режимом «национального предательства». А все потому, что Франция прочитывается как символ свободы и демократии (отобранных в России большевиками), потому-то в ней и возможен подлинный воинский дух и патриотизм… На такой возвышенно-трагической ноте исчезает и само явление русской сатирической журналистики, на смену которой придет советская сатира, всегда готовая «приравнять к штыку перо». Начнется новый виток мифотворчества по части создания и воссоздания образов «врага».
Пока же сатирикам уходящей России пришедшие к власти большевики видятся как режим закрытости от «Запада», как власть, принципиально забившая «окно в Европу», прорубленное когда-то Петром Великим… «Германец» же, когда-то представлявшийся главным демоническим образом вражды, блекнет на фоне тех демонических сил, которые взорвали прежнюю Россию изнутри.
Эта критическая рефлексия, свойственная тогдашней журнальной сатире как одному из важнейших «агентов» создания образа «Запада» как «Врага», и представляется мне важным вкладом в историю и культуру медийной сферы в России. Способность (пусть и запоздалая) в итоге увидеть собственные грехи и ошибки, не приписывая их «демоническому Другому», — признак интеллектуального мужества журналистов-сатириков, продукт профессионального и гражданского опыта. Сама же тогдашняя сатира — во всем своеобразии ее инструментов, риторик и стратегии — дает богатейший материал для выявления истоков и корней многих традиционных мифов и стереотипов о «враге с Запада», бытующих в современном медийном пространстве, в публицистике и массовых представлениях.
Безусловно, у сатирических образов, по-своему мифологизирующих тему «врага» как продукта своей эпохи, есть и «срок годности», по истечении которого многие их составляющие не только в значительной степени утрачивают свою юмористическую нагрузку и фобийное содержание, но и попросту перестают быть понятны человеку, не посвященному в специфику исторических реалий. Однако в своей базовой основе — как очередной продукт «языка вражды», актуализированный реальностью войны, — они исправно пополняют собой те самые «культурные депо» исторической памяти общества, из глубин которой на очередном витке обострения ситуации продолжают подпитываться. Именно отношение к внутренним проблемам страны чаще всего становится пусковым механизмом появления новых интерпретаций и мифологизации образа «Запада», разнообразя нарративный и визуальный репертуар соответствующих трактовок.
Ведущий: Прежде чем перейти к вопросам дискуссии, хотел бы поинтересоваться: есть ли у докладчиков желание задать друг другу вопросы?
Татьяна Филиппова: Как видится моему коллеге динамика «иерархии вражды»? Иными словами, кого и за что больше не любят в России на протяжении определенного исторического периода? Кто из западных «антигероев» лидирует, в представлении россиян, в роли главного «демонического Другого» (demonic Other)?
Сергей Сергеев: Ну, в общем, пальма первенства, у Англии все-таки.
Ведущий: Предлагаю построить нашу дискуссию следующим образом: прошу участников семинара задавать вопросы, высказать суждения по очереди, а затем докладчики смогут отреагировать и прокомментировать накопившиеся мнения в своих заключительных словах.
Борис Ланин: В русской литературе XIX века, как правило, персонаж — англичанин или англичанка — это непременно отрицательный персонаж. Исключения лишь считанные, я и не припомню. Русские учебники для гимназий по истории и литературе были заведомо антизападными. Сейчас они выглядят более славянофильскими, чем произведения самих славянофилов. Учебники были более тенденциозными, чем работы многих славянофильски и почвеннически настроенных мыслителей, которые сдерживали себя в научных дискуссиях и высказывались более сбалансированно в публицистических работах. Дело в том, что учебники были крайне архаичными. Возьмем, к примеру, знаменитого «человека в футляре», чеховского персонажа. Он был продуктом дореформенной русской гимназии, которая строилась на причудливом смешении античных идеалов, греческой философии и православных идей. В целом, поколение за поколением воспитывались антизападнически, хотя дворянская элита, тем не менее, говорила на французском языке.
Александр Люсый: Я недавно увидел в библиотеке трехтомник, посвященный Первой мировой войне, — «Первая мировая война: историографические мифы и историческая память». Там меня больше всего заинтересовала одна статья с целым блоком иллюстраций — юмористические и сатирические карты тогдашней военной Европы, издаваемые в разных странах, по обе линии фронтов. Хорошо бы это было бы издать отдельным альбомом — как на британских, французских, немецких картах обыгрываются разные национальные стереотипы и конкретные эпизоды боевых действий. Как там Россия (обычно в образе доброго или злого медведя) то наступает, то ее гонят вглубь Азии. Получается по-своему поучительный картографический карнавал.
Владимир Симиндей: С одной стороны, мы видим, что традиционно мифы стремятся к герметичности, с другой стороны, с древних времен мифы не были самоизолированы, в них попадали герои из столкновений с другими культурами. Они трансформировались. Естественно, образ себя формировался под внешним воздействием и в современном мире, в том числе формального рационализма, мы видим, что мифы никуда не деваются, используются отнюдь не только конкретными государствами, но и транснациональными компаниями, другими субъектами, которые заинтересованы в том, чтобы влиять на потребительское поведение. Естественно, происходит жонглирование мифами, это попытка предвидеть «несвятую троицу» самых больших угроз мира, которую предприняла администрация США. На первом месте вирус Эбола, в борьбу с которым вкладывают деньги (тут наблюдается мощнейшая конкуренция различных субъектов в борьбе с этим вирусом, но не факт, что он действительно станет мировой угрозой), на втором месте обозначена Россия, а на третьем месте так называемое «Исламское государство».
Наверное, м.б. некоторые читали последнюю вещь Владимира Сорокина, в которой герой пытается изобразить миф 40-х годов XXI века, где переплетаются мифы о неизбежной атомизации всего евразийского пространства, там же есть миф и о гибели Запада, средства «сопротивления» угрозе номер три, то бишь очередной «крестовый полет», и т.д. Но сегодня мы живем в парадоксальном мире, и, с точки зрения современного международного права, войны вообще запрещены, т.е. можно обороняться, но наступать нельзя. Мы видим, что Запад позволяет себе участие в авантюрах; естественно, это пробуждает желание людей на равной основе тоже позволить себе определенные «безумства». Когда мы сегодня сталкиваемся с тем, что это отторгается, то возникает взаимное непонимание: как так, «Западу можно, а России нельзя?» Это также ставит вопрос об извечной цепочке побежденных и победителей.
Еще один аспект, который мне хотелось бы затронуть, это образ Запада, «Запад как враг», он все-таки не всегда был тотальным. Кроме того, прозападные так называемые партии, они в российской элите тоже боролись между собой — были англофилы, франкофилы, которые очень активно конкурировали. Поэтому мне кажется, что если мы поместим проблематику, которую затронули, в более широкий контекст определенной системы «зеркал», то мы увидим, что российский миф враждебного Запада вполне зеркален мифам о «русском медведе» и т.п.
Кроме того, мы должны понимать, что на местных уровнях, на приграничных территориях как-то «склеиваются» разные региональные мифы. Замечательной представляется карикатура в эстонской газете или журнале 1938 года, где над тремя условными прибалтами, изолировавшимися друг от друга, склонились три мифологических, но в равной степени по восприятию «империалистических» существа: белый медведь со сталинскими усами и в буденовке, черный орел (Германия) и орел белый — в конфедератке (Польша), который тоже представлялся империалистическим, хотя сейчас принято Польшу считать исключительно жертвой войны. Поэтому если рассматривать ситуацию в более широком контексте, то мне кажется, что этот пункт вражды взаимно подогревается, и здесь какая-то наша риторика не является уникальной. Попытка «саморазоружиться» и отрефлексировать не приведет к какому-либо серьезному результату, если мы не встретим схожие попытки влиятельных кругов на Западе взвесить свои представления о России и «проветрить» их от заблуждений.
Геннадий Бордюгов: Мне не хватило в докладах уважаемых коллег внимания к моментам угасания мифа «Запад как враг». Наблюдались ли они в истории? Вот Владимир Симиндей считает, что бесполезно влиять на этот процесс, все со временем само собой рассосется… Нужны ли вообще усилия интеллектуалов по дешифровке, деконструкции мифа? Мне кажется, что они крайне необходимы.
Андрей Макаров: Я вижу три важные предпосылки рассматриваемого мифа. Первое, если мы рассмотрим на длительной исторической перспективе взаимодействие Запада, скажем, Европы, России, то мы должны прежде всего принять в рассмотрение фактор неравномерности исторического развития, представлять, что мир-система, функционирующая, скажем, последнюю тысячу лет, предполагает структурирование пространства и формирование метрополии и периферии с принципиально разными свойствами, качествами и с характерным взаимодействием их друг с другом. Одним из таких фундаментальных свойств этой системы, сложившейся за тысячу лет развития цивилизации на европейском пространстве, является неравномерность обмена и потока ресурсов от периферии к метрополии, к центру и обратно. Поэтому любые периферийные страны, а Россия, безусловно, в той или иной степени всегда занимала позицию периферии, хотя и автономной и самостоятельно существовавшей, но в развитии, все-таки, как правило, отставание всегда наблюдалось. В этом плане свободное, неконтролируемое взаимодействие метрополии и периферии всегда приводило к преобладанию потока ресурсов к метрополии и разрушению вследствие этого периферийной системы, длительное состояние деградации и распада.
Один пример из сегодняшнего дня — наше современное сельское хозяйство, когда мы открыто заняли место периферии Запада примерно 20 с лишним лет назад. Мы получили импорт продовольствия и треть сельских площадей нераспаханными, необработанными. Однако следует отметить, что этот стержневой фактор в истории непременно сопровождается другим — идеологическим обеспечением сложившейся системы «метрополия – периферия», которая нужна для обеспечения стабильности потока ресурсов от периферии к метрополии. Этим фактором является создание системы идеологического доминирования (назовем это так). Мы видим начало этого процесса уже тысячу лет тому назад в эпоху крестовых походов и «освобождения» — непрошенного освобождения — гроба Господня и «угнетенных христиан» Палестины и Ближнего Востока, которые и привели к целой цепи кровопролитных войн и порабощению, временному, Востока и т.д.
Идеологическое воздействие, попытка идеологического и культурного доминирования над периферией создают не просто угнетенное состояние периферии, но ведет к ее структурному кризису и распаду, если этот процесс неконтролируемый. Сегодня можно отчетливо наблюдать такие характерные проявления, эту очень давнюю традицию Запада: например, в последний год очень наглядно стало заметно третирование стран культуры периферии, а особенно — людей, как неполноценных, по типу унтерменшей. И я хотел бы именно на этом обстоятельстве заострить внимание, потому что оно дает понимание многого в современной политической жизни.
В чем это проявилось? Обратимся к событиям в Донбассе и развязанной там войне. Если взять отношение Запада ко всему творимому там ужасу и отношение Запада, скажем, к каким-то второстепенным, третьестепенным событиям культурной или иной жизни в других странах или регионах, то можно констатировать, что эти жертвы и эти люди, которые живут на Украине, в России, в Сирии или еще где-то, не рассматриваются как равноценные, как равноправные по сравнению с жителями стран, которые мы называем Западом.
И в первом, и во втором случае я хотел бы подчеркнуть, что есть русская традиция терпения. Мы все знаем, что русский человек терпелив, индивидуалистичен и для того, чтобы его «раскачать» и объединить вокруг действующей власти, нужны очень мощные, сильные факторы. И отмеченные выше факторы сами по себе не привели бы к резкой ответной реакции народа России, встречной реакции. Но в дополнение к этим двум факторам добавляется третий. Дело в том, что в процессе эволюции больших систем, где идет неограниченная перекачка ресурсов от периферии к центру, не возникает стабильных, устойчивых промежуточных состояний. Т.е. этот процесс, процесс «перекачки», предоставленный самому себе, ведет к предельному случаю — сосредоточению всего ресурса в одном элементе, в «одной точке» (этакая «сингулярность»), и, безусловно, разрушению всех периферийных систем и их способности к самовоспроизводству.
Проецируя это на сегодняшний день, можно увидеть, что достаточно высокий культурный образовательный уровень, еще сохраняющийся в нашей стране, позволяет активной части идентифицировать сложившуюся ситуацию как реальную угрозу существования и развития своей страны. И именно это обстоятельство — ощущение угрозы со стороны Запада своему существованию — является основой представления о Западе как о враге, враге реальном, а не мифологическом. Это интегральное, упрощенное, но реально существующее и реально осознаваемое активной частью населения России чувство, чувство, что Запад сам по себе не может остановиться в своем агрессивном отношении к России (и не остановится), а не «зомбирование телевидением», является основой того эффекта (внезапного, неожиданного для самых разных слоев нашего населения) консолидации вокруг действующей власти. Притом что власть продолжает точно так же рассматриваться как в чем-то вороватая, в чем-то неполноценная, в чем-то коррумпированная — но тем более требующая поддержки народом против «внешней угрозы»!
Подводя итог, можно указать на следующий важный вывод: возрождение и развитие образа Запада как врага в России имеет, как это ни парадоксально, и позитивную сторону. «Образ врага» требует определенного дистанцирования в политике и идеологии, а следовательно — ослабления фактора идеологического доминирования Запада в России и иных странах мировой «периферии», некоторого «уравнения» позиций для необходимого рационального дискурса, обсуждения возникающих острых противоречий и проблем сосуществования.
Борис Беленкин: Я бы попросил докладчиков как-то прокомментировать, как-то отреагировать на вопрос: существует ли необходимость более подробного разговора в контексте рассуждений типа «Запад как враг», «Запад как реаниматор исторического мифа новой реальности», Тютчев, Данилевский и т.д., с одной стороны, и, соответственно, западное пропагандистское, мифологизированное отношение к России — с другой. У меня в связи с проблемой пинг-понга возникают вопросы и к присутствующим, ответы на которые для меня неочевидны. Наверное, ответы на них есть, но не знаю, насколько эти ответы ясны для всех.
На первом уровне существует то, о чем говорилось: высоколобое антизападничество, Тютчев, Данилевский и т.д., некая высоколобая точка зрения, конструирующая определенную точку зрения на Запад, на его отношение к России. Второй уровень, назовем его условно журналистским, пропагандистским, более направленным в пропаганду, начиная условно с Крымской войны, поскольку вы дальше в рассуждениях не шли, затем — Первая мировая война… У меня возникает соответствующий вопрос: насколько (у вас, кажется, звучало, что Данилевский и Тютчев — это одно, а потом в политической реальности все было другое, потом враг — Германия, потом Франция) это высоколобое антизападничество соотносилось с реальной политикой, можно ли его вообще соотносить с этой реальной политикой? Или реальная политика соотносилась с чем-то иным, например с журналистикой или с народным лубочным сознанием, мировосприятием.
Вспомним тот же лубок эпохи Первой мировой войны (например, вроде «Жена Вильгельма — шельма»). Самый главный вопрос, насколько все — и то и другое, и Тютчев с Данилевским, и «журналистика», и лубок — соотносятся с мифологическим представлением о Западе, с представлением того, на 90% (или чуть менее того) безграмотного населения России, каковым оно было условно до 30-х годов XX века? Но ведь после того, как так называемая всеобщая грамотность в России победила, мы можем уже не обвинять «высоколобых» да «журналистов» в «производстве некоего продукта “в отрыве от масс”» и реальной политики, а фиксировать знакомство со всякого рода пропагандистскими текстами широких слоев населения. В контексте этого непонятно, почему вас заинтересовала именно Первая мировая война, а не начало Второй мировой войны, когда возникает достаточно неожиданно поворот в советском пропагандистском языке. После 1937–38 годов, когда в советской пропаганде, где собственно Запад почти не присутствует, а в «лучшем случае» присутствуют гестапо, фашисты и троцкисты, вдруг возникает Англия, возникает опять как главный враг на период 1939 — конец весны 41-го года. Ведь это на самом деле совершенно резкий и неожиданный поворот в пропаганде, поворот против Западной Европы, в первую очередь Англии… Как будто на Западе не было прогрессивных сил, не было Коминтерна. Это все игнорировалось, вместо этого — прогерманская и антизападная парадигмы!
Возникает вопрос: насколько этот новый поворот в пропаганде укоренился, насколько эта пропаганда была понята и принята, была взята на вооружение широкими массами теперь уже грамотного (или полуграмотного) населения? К сожалению, выбранная для анализа Первая мировая война с точки зрения сегодняшнего поворота к антизападничеству как-то намного сложнее воспринимается, объясняется и рифмуется с сегодняшним днем.
Ведущий: Предлагаю докладчикам среагировать на высказанные суждения и вопросы.
Сергей Сергеев: Выделю два вопроса, которые меня заинтересовали, один прямо мне был задан, начну с первого, который был задан. Речь пошла о том, насколько этот антизападнический дискурс был распространен в русском общественном мнении. Потому что, если слушать мой доклад, получается вообще сплошняком, да нет же, конечно, на самом-то деле русские интеллектуалы и русская интеллигенция гораздо более были настроены прозападно, в основном, как и славянофилы, и Тютчев, и Данилевский, они были в меньшинстве, в целом русское общественное мнение, по крайней мере до периода правления Александра III, было либерально, социалистически настроено и в целом к Западу относилось скорее позитивно, другой вопрос, что когда стали преобладать в русском общественном мнении скорее народнические настроения, народнический дискурс, то оно пошло в сторону антизападничества Александра III, о чем я, собственно говоря, упомянул. Вопрос здесь сложный, в разные периоды было по-разному, я приведу здесь простой пример: во время Крымской войны ведь, ближе к ее концу, большинство русского мнения занимало пораженческую позицию, и не только, кстати, западники, славянофилы ждали, когда эта война закончится и можно будет приступить к реформам, это исторический факт, в воспоминаниях Соловьева можно прочитать. А вопрос о соотношении внешней политики Российской империи и этого антизападнического дискурса тоже непростой. На самом деле, скорее всего, и Тютчев, и Данилевский, и Леонтьев не были никакими серыми кардиналами или интеллектуальными творцами внешней политики, они пытались влиять, очень хотели влиять, предлагали свои проекты, но самодержавие руководствовалось своими прагматическими интересами, просто чтобы было понятно, ведь центральной идеей и Тютчева, и Данилевского, например, было разрушение Австрии и поддержка славян, но ни Николай I на это не шел, ни Александр II не шел на это никогда, игнорировали, всегда были подозрительны для императорского правительства, арестовывали тех же, скажем, славянофилов в 90-е годы, ведь тютчевские предложения же были игнорированы на самом деле в 40-е годы, о чем он в своих письмах писал. В определенном смысле славянофильская концепция вроде бы стала побеждать во время войны с Турцией в 78–79-х годах, которая была воспринята как борьба за освобождение славянства, самодержавие пошло на уступки Западу на Берлинском конгрессе, это было воспринято как национальная измена, Аксаков произнес пламенную речь, за которую он был отправлен в ссылку, и славянские комитеты были распущены. Я уже не говорю про Леонтьева, который казался чудным фантазером, и всерьез его в коридорах власти никогда не воспринимали.
Татьяна Филиппова: Благодарю за «человека в футляре». Образ работает в этом качестве как очень интересный носитель мифологизированного сознания. Он коррелируется определенным образом с карикатурой, но имеет свою собственную насыщенную «природу», это очень важная вещь для выяснения стереотипов сознания, не только отразившихся в литературной классике, но и порожденных ею. Мне очень понравилось также замечание, выводящее на тему утилизации традиционных мифов с помощью самых современных технологий. Вообще прагматическое использование пластов исторической памяти с помощью высокотехнологичной пропаганды, масштабный пиар подобных вещей — это и научно-практическая, и чисто исследовательская проблема особой актуальности.
Обратим, кстати, внимание на то, как это делается, скажем, в Голливуде, на материале научной (и не слишком) фантастики. Природа страха, фобийности, воплощенная, к примеру, в сериях про инопланетного «Чужого», состоит в том, что «враг-монстр» поселяется в тебе самом, изнутри меняя или убивая твою природу. Страх «потерять себя» под внешним воздействием — это как бы «проговорка» современного западного общества — по поводу боязни потерять свою самость под внешним воздействием. А это многое объясняет в критических риториках в адрес всех «иных», «чужих», «пришлых» как таковых, делая их «врагами». (И, кстати, служит оправданием упреждающего нападения на «чужого».) Репертуар фантастических образов врага в подтексте включает в себя самые разные страхи «западного» происхождения.
Возвращаясь к вопросу Геннадия Бордюгова, — были ли в истории моменты угасания мифа и явной работы в этой области, — конечно, были. Пример: блестящая работа европейских элит, в том числе и российских, по преодолению франкофобии после Наполеоновских войн. В 1815 году, после окончательной победы над Наполеоном (и как реальным противником, и как образом агрессора), элиты победителей и европейский бомонд изрядно поработали над тем, чтобы избавить Францию от образа-символа врага всей Европы, и перенесли эту фобию на фигуру Наполеона как «единственного виновника» общеевропейских военных бедствий. «Француз» при реставрированной монархии перестал быть для России врагом, это заметно по нашей печати, это заметно и по тогдашней карикатуре, которая создавалась отнюдь не народным мышлением, а профессионалами, но с учетом лубочной, низовой традиции.
И еще один прецедент: 1918 год, об этом я уже говорила. В отечественной сатирической литературе произошло размывание, преодоление образа «Запада» как внешнего врага («австриец», «германец») под влиянием шоков революции, пошедшей не по тому сценарию, который считала желательным либеральная печать. В работах журналистов-сатириков зазвучали ноты самокритики: мол, никакой внешний враг — ни с Запада, ни с Востока — был бы не страшен, если бы само российское общество умело защищать свои интересы и независимость России, как от внешнего врага, так и от внутреннего (большевиков и прочих «левых»)…
Отметим: раннесоветская пропаганда довольно прагматично подходила к тому, кого изображать своим врагом. В том числе и с «Запада». Поступление американской помощи в 1920-х выводило «американца» (на время) из сферы враждебных риторик. Это нельзя было назвать работой по деконструкции языка вражды в том числе и потому, что тогда еще не сформировался во всей полноте образ Америки как противника. Для советского же времени в целом было характерно использование антизападного настроя как удобной отсылки ко всему, что вредит «извне» благополучию Отчизны «здесь и сейчас».
В поздне- и постсоветский периоды приливы размывания образа «Запада как врага» случались, скорее, стихийно. Сознательная рефлексия на эту тему (как было справедливо замечено Геннадием — прецедент Сорокина) имела превращенные формы, проявляясь, к примеру, в эстетизации соответствующих риторик. Те глубинные пласты сознания, в которых отложились массовые настроения недоверия к Западу, остались в сохранности.
Вопрос о ситуации «пинг-понга», то есть взаимного обмена образами вражды. Да, конечно, этот прием был свойственен журналистике начала ХХ века. Причем буквально. Отечественные сатирические и вполне серьезные издания очень часто попросту перепечатывали западную карикатуру даже без снабжения ее даже какими-либо комментариями. Бестактность, злость и, как бы мы сейчас сказали, неполиткорректность западной сатиры эффективно работали против самих ее создателей и заказчиков. Характерный пример из 1914 года — перепечатанные «Новым Сатириконом» из австрийского сатирического издания карикатуры на «братьев-славян» — черногорцев. Почему, вы думаете, в Черногории горы черные? Да потому, что черногорцы ноги не моют и грязнят своими собственными ногами свои собственные горы. Этот юморок «ниже плинтуса» отечественные сатирики приводят как пример характерного антиславянского пасквиля, признак антикультурности австрийских журналистов…
Вопрос, почему я разрабатываю тему фобий на материале именно Первой, а не Второй мировой войны. Потому что именно Первая мировая война, на мой взгляд, создала современный, модерный язык вражды в карикатуре, в сатире, в стихах. То, что делали потом советские мастера сатиры, все было родом из журналистики того времени — стилистически, образно, эстетически. В советское время мало было создано принципиально новых изобразительных средств по части форм трактовки и интерпретации Врага. Советские художники и поэты под мощным прессом идеологии лишь ужесточили и немного опростили этот модерный язык вражды, разработанный в годы Великой войны талантливейшими сотрудниками лидеров дореволюционной сатиры — журналов «Сатирикон», «Новый Сатирикон», «Бич», «Шут», «Будильник» и пр.
Если же отслеживать точку кристаллизации в России репертуара образов вражды в отношении Запада, то надо обратиться ко времени Русско-японской войны, как я уже отмечала. Тем более что в тогдашней Японии одновременно наблюдалась едва ли не истерическая западофилия на фоне антирусских настроений. Дошло до того, что и в японской карикатуре, и в сатирических рассказах стала проводиться мысль: японец лишь снаружи «желтый», а внутри он «белый», то есть «западный» человек. Тогда как русский — он снаружи «белый», а внутри — «желтый», то есть «азиат». Стало быть, японская европеизация — это именно то, что делает японца «равным» человеку «Запада».
Еще пример из истории зарубежной сатиры. Расцвет турецкого сатирического рисунка в 1980–1990-х годах сопровождался критическим осмыслением роли Запада в Турции. Однако в ту пору «Запад» критиковался не за то, что он Запад, а за то, что он попирает свои же нормы либерализма, демократии и свободы и насильно тянет мир в свою систему ценностей. Турецким журналистам-либералам важно было сохранить возможность остаться турком, но при этом идти своим путем демократического развития страны. Для нынешней турецкой карикатуры более характерен критический настрой к Западу как антидуховному, антикультурному, антирелигиозному фактору.
Отношение же к «Западу» оказывается каждый раз (и не только в Турции, разумеется) одним из важнейших идентификационных факторов при построении обновленной системы духовных ценностей, моральных норм, оценочных категорий, самой стилистики политической культуры.

Второе заседание. Современные проявления мифа: природа и структура
Александр Люсый. Не сотвори себе Запада
Одной из главных проблем реализации национальных интересов России является относительная слабость контролируемых механизмов формирования позитивного образа страны. Уменьшение влияния и геополитическое отступление России на постсоветском пространстве во многом обусловлено тем, что Россия после распада СССР не смогла сформировать действенные механизмы формирования своего позитивного образа в странах постсоветского пространства, как среди политической и бизнес-элиты, так и среди большинства граждан.
Историософский подход к проблеме основан на анализе долговременных структур, действие которых происходит в масштабах столетий, на протяжении жизни многих поколений. Сторонники этого подхода ставят в центр своих исследований изучение культурных механизмов, за счет которых происходит изменение образа России, и сопоставляют динамику этого образа с циклами либеральных и антилиберальных реформ на протяжении XIX–ХХ веков. По их мнению, по мере прохождения ряда циклов реформ и контрреформ ценностные и институциональные основы западного и российского общества постепенно сближаются, а это делает возможным и необходимым все более интенсивное общение России с западными странами. Соответственно, постепенно в циклически-колебательном режиме модифицируется и образ России, как внутри страны, так и за ее границами. При этом совершенно не учитываются различного рода краткосрочные конъюнктурные факторы, которые и являются самыми важными для практических политиков. Этот подход не позволяет ответить на вопрос: через какие социально-политические механизмы поддерживается действие этих долговременных структур?
Глобалистский подход учитывает, прежде всего, глобальные факторы в формировании образа и имиджа страны, при этом характеристики образа той или иной страны постоянно сравниваются с некими всеобщими мировыми социально-экономическими и политическим индикаторами, такими как, например, демократия, рынок, права человека. Формирование образа страны, согласно этой концепции, происходит, главным образом, в информационном поле межкультурных глобальных процессов. Образ страны в данном случае выступает как некий межкультурный феномен, некое промежуточное звено анализа действительности, подчиненное развитию универсальных ценностей и межкультурных идентичностей в той или иной стране или регионе.
Имиджмейкерский подход связан с анализом распространения образов через средства массовой коммуникации, здесь главным предметом изучения выступают национальные стереотипы и механизмы, а также уровни их воспроизводства, включая изучение мифологии, манипуляций и виртуализации политических и социальных процессов. Основополагающим в этой концепции является формирование каналов влияния на массовое сознание или сознание целевых групп, в котором образ страны является плодом внутреннего мифотворчества и воображения. Функционирование этих каналов зависит от работы СМИ, координируемой и направляемой креативными имиджмейкерами. Сторонники рассматриваемого подхода полагают, что столкновение созданных имиджей создает некий баланс влияния и интересов среди разных стран (в силу относительной дешевизны создания имиджа в сравнении, например, с созданием ядерного оружия), поэтому имиджмейкеры должны постоянно как трудиться над формированием имиджа своей страны, так и противодействовать атакам на него извне. Как только работа по формированию имиджа страны приостанавливается, как правило, возникают проблемы восприятия страны за рубежом, поскольку другие страны в это время могут продолжать процесс формирования имиджа, бренда и репутации своего государства, интересы которого зачастую противоречат интересам государства, в котором власть не уделяет внимание пропаганде своего позитивного имиджа. В этом контексте имиджмейкерский подход в какой-то мере подвержен влиянию теории рационального выбора (в особенности, принципам игры с нулевой суммой, являющейся главной матрицей международных отношений в соответствии с концепцией политического реализма).
Наиболее перспективным в качестве методологии исследования, учитывающим сетевой подход, является тот, что основан на теории неоинституционализма. Сетевой подход позволяет выстроить сложную иерархию взаимодействия социальных сетей и факторов разных типов, начиная с самых краткосрочных и политически актуальных, например с народной дипломатии и личностного формального и неформального взаимодействия представителей разных стран. Кроме того, сетевой подход позволяет наиболее адекватно изучить и модифицировать конкретные механизмы реализации факторов, формирующих образ страны, и эти механизмы, в отличие от имиджмейкерского подхода, учитываются, уже начиная с уровня повседневного общения конкретного человека.
Сетевой подход, в отличие от историософского, учитывает различного рода краткосрочные конъюнктурные факторы, которые и являются самыми важными для реальной политики. В рамках сетевого подхода могут быть эффективно выявлены социально-политические механизмы, поддерживающие действие долговременных структур и институтов, при этом отрицается какой-либо идеологический или институциональный детерминизм. Сетевой подход уделяет большое внимание анализу социальной и даже политической жизни в структурах массовой повседневности. В рамках этого подхода только на следующем этапе, уже как вспомогательные, разрабатываются и применяются информационные технологии эффективного воздействия на формирование образа страны. В рамках этого подхода, как и в глобалистской концепции, также используются механизмы применения «мягкой силы» (soft power). Однако сетевой подход, в отличие от глобалистского, учитывает, применяя инструменты воздействия «мягкой силы», структуры социального взаимодействия первичного уровня (регионального, группового, межличностного, гендерного и профессионального).
В практике международных отношений и в социально-гуманитарных науках вопросы субъективного восприятия стран долгое время считались второстепенными по сравнению с их «реальным» потенциалом. Однако для постиндустриального мира характерны развитые системы коммуникаций и получения информации. И потребители, и производители в своей деятельности в значительной мере ориентируются на сознательно конструируемые в сознании характеристики объектов. В связи с этим, обратное воздействие субъективного воспроизведения реальности на саму реальность стало объектом пристального внимания в международно-политической практике и обслуживающих ее научных дисциплинах.
Образ страны — это знаковая модель, опосредующая представления о национальной общности и ее членах через доступные обыденному сознанию понятия и суждения. Далеко не всегда он соответствует реальному положению дел и объективным показателям национального развития. Характер представлений о себе и о своем месте в мире («внутренний» образ страны) оказывает определенное влияние на восприятие страны за ее пределами («внешний» образ). В то же время отношение к «иному» и соотнесение себя с другими национально-государственными общностями всегда было и остается одной из основ утверждения собственной национальной идентичности. Образ играет активно-действенную роль в поведении человека, регулирует поведение, осуществляет функции управления действиями. Это имеет место и в международных отношениях.
Понятие образа страны тесно связано с понятием «национальные стереотипы». Стереотип — стандартизированный и устойчивый образ, позволяющий получить обобщенное представление о целой категории однородных явлений или объектов. Стереотипы очень устойчивы, сохраняются на протяжении жизни нескольких поколений.
«Cамоконцепция» любого народа или «образ себя» как бы распадается на три составляющие: «образ для других», «образ для себя» и «образ в себе». «Образ для себя» осознается общностью и представляет собой набор характеристик, которые кажутся позитивными и желательными для нее. Здесь имеет место своя мифология и символика, которые имеют коммуникативное значение внутри этнической общности, для сторонних наблюдателей они почти незаметны. «Образ для других» можно описать как «переведенный» на язык, понятный для представителей других культур, набор приписываемых себе определений. Здесь также имеется собственная символика и мифы о своей общности, которые пропагандируются с целью наладить адекватную (с точки зрения «образа для себя») коммуникацию с внешним окружением.
В отличие от них «образ в себе» бессознателен, однако именно он определяет согласованность и «ритм» действий членов данной общности. Поиск русской и российской идентичности неразрывно сплетен с проблемой «Россия и Запад», ведь именно «Запад» был в Новое время тем «значимым Другим», противостояние и диалог с которым играли и играют решающую роль в определении национальной идентичности, формировании «русской идеи», поиске направления и содержания развития страны. Конечно же, речь идет не о реальном Западе, а скорее о «мифе Запада» или ментальном образе Запада, олицетворения и символы которого для русских в разные исторические эпохи были различными.
Вряд ли так уж удачно известное определение Борис Гройса, что «Россия — подсознание Запада» (скорее площадка для мыслительных экспериментов). Более верным представляется обратное: «Запад» как навязчивая идея России. Тогда «миф Запада» предстает в качестве одной из констант российской традиции. «Наша страна не просто испытывает на себе влияние Запада. Запад и Россия возникли в качестве цивилизаций как результат прививки на разные этнические основы одного культурного черенка. Их развитие происходило не рядом, а параллельно. Скорее всего, развитие России по-особенному, внутренне, а не внешне, связано с развитием Запада» [1].
Известные дихотомии О. Шпенглера «культура» и «цивилизация» оригинально проявляются в заданном контексте таким образом: Европа — понятие скорее культурное, Запад — цивилизационное. Культура обладает свойством более органичного усвоения и переработки мифов, цивилизация ставит их производство на конвейер, впрочем, запуская и конвейер их утилизации. С Европой у России не так уж и много проблем, российская культура, безусловно (или пусть даже условно), — органическая часть европейской культуры, с Западом же преимущественно проблемы. О. Шпенглер назвал было свою книгу «Гибель Запада». Так русские переводчики тут же его и «поправили», получился «Закат Европы».
Само слово «запад» в русском языке генетически негативно. «Се запад дней» (С. Бобров). В России немало потрудились над мифом запада. «…Весь Запад, — писал Ф. Тютчев в начале Крымской войны, — пришел высказать свое отрицание России и преградить ей путь к будущему». Антироссийская коалиция из нескольких стран, возникшая в результате ошибочной внешней политики России, это все-таки не «весь Запад». «Весь Запад» в таком понимании для России — это фантом, приобретающий кровь и плоть в результате чрезмерной веры в него. В стихах Тютчев писал, что «В Россию можно только верить», но как политический мыслитель сам уверовал — в «Запад»! Через много лет А. Белый оказался поэтически более точен и трезв, отмечая в письме: «И говорят нам — “Мы запад”. Но на западе “запада нет”. И говорят: “мы восток”. Где “Восток”?.. Почему же все-таки “Восток или запад”? Да потому, что все треснуло: омертвела культура и — валится… расколотые половинки души симметрически закачались и выпали из нас — западом и востоком». Как писал он же в поэме «Глоссолалия», «Наши востоки и запады — мумии нашего духа».
Остается неясным, сможет ли экономическая культура капитала и рациональные ценности либерализма как более «совершенные» в соответствии с концептом «прогресса» полностью вытеснить уникальные уклады жизни различных мировых цивилизаций. С другой стороны, капитализм, тождественный в экономике либерализму, в Европе с XVIII века, в России с XIX, а в мировом масштабе с XX века занимает доминирующее положение, зачастую прекрасно сочетаясь с любыми незападными культурами. Но если следовать подобной логике, то реальных противоречий у западничества и славянофильства нет. Противоречия инспирируются либо двусмысленностью исторической терминологии сегодня, либо применением данного антагонизма в прикладных целях, когда оппоненту приписываются негативные коннотации, связанные с одним из данных течений.
Терминология западников и славянофилов, некритически используемая сегодня, несет исторический шлейф смыслов, который вовлекает спорящие стороны совсем в иную, уже «почившую в Бозе» логику спора, отвлекая от политических реалий складывающегося на наших глазах постиндустриального общества. Суть исторического спора сводилась к проблеме модернизации страны, приятию или отторжению Россией середины XIX века капитализма, а также соответствующей этики: быть ей целерациональной утилитарной этикой капитализма и прогресса, нацеленных на эффективность, логику прибыли и выгоду, либо оставаться православной эквивалентной «этикой дара», характерной для традиционных обществ. Та же проблема, но в другой формулировке: что важнее — экономика капитализма, формирующая логику и ценности западного (= универсального) типа культуры, либо национальная культура, которой нужно (или вовсе не нужно) жертвовать в угоду логике экономического развития. Сегодня спор в действительности сместился несколько в иную плоскость. Речь уже не идет о том, быть или не быть капитализму, поскольку Россия де-факто включена в него, но о том, каким капитализму быть в пространстве национальной российской культуры. Иными словами, не что такое капитализм, но при каких условиях он максимально эффективно смог бы работать в России. А эффективность здесь зависит от гармонии с ценностями и культурой, то есть «надстройкой» над экономическим базисом: менять культуру под экономику либо приспосабливать экономику к культуре.
Т.е. в современных условиях фантом продолжает активно функционировать как в российских, так и в «западных» головах. Об этом, в частности, идет речь в книге У. Хаттона «Мир, в котором мы живем» (М., 2004), которая могла бы послужить изменению самой традиционной историософской парадигмы отечественного сознания, помещающей Россию между Западом и Востоком. В зависимости от исторических обстоятельств, Россия основные европейские веяния заимствовала, как в случае с чисто европейским феноменом коммунизма, модифицировала или оспаривала европейские веяния, но так и не стала частью Европы, потому что выбрала «американский» путь преобразований.
Хаттон проясняет, что теперь реальное положение России — не между «Западом» и «Востоком». В действительности Россия находится между «ближним» Западом (Европой) и «дальним» (США), по характерной российской инверсии оказавшемся в 1990-е годы «социально близким». Так что «младореформаторы» швырнули Россию, по чикагским моделям шоковой терапии, на дальний («дикий») Запад, вместо того чтобы идти по более щадящему европейскому «ближнезападному» пути, сохраняющему более высокий уровень социальных гарантий. В результате получился аналогичный орудийному после выстрела на поле Бородино откат на Восток. Важно оценить характер этого отката. Ранее, как только Россия территориально продвигалась на Запад, Европа сжималась в отторжении. Но когда это продвижение осуществлялось на Восток, Россия представала как передовой отряд западной цивилизации, что повторяется и в ходе текущих военных операций Запада на Востоке.
Теперь о проблеме политического субъекта и языка политологии. С одной стороны, политический субъект является безразличным и пассивным как целое, но воображающим и активным как фрагментарность или актуализация размещения в некоторой спектральной возможности бытия-значения (которая принципиально равнозначна с другими возможностями-линиями). Колебание между этими двумя (и многими) состояниями и характеризует сферу современной субъективности. С другой стороны, на универсальном языке выразимо лишь общее, то есть тождества культурного опыта. Различия, составляющие основу неповторимости символов культурных матриц, поддаются выражению, лишь следуя своим внутренним правилам игры и аутентичной внутренней логике смыслов. Кроме того, субъективизм, критика и идеология в политических понятиях неустранимы, так как они детерминированы не только сущим, но и должным той политической практики и культуры, в рамках которой они были выработаны. В отрыве от собственной культурной реальности они могут мутировать из категориальных понятий в идеологические штампы с подвижным смыслом, отражающим интересы интерпретатора.
Сейчас поле смыслов спора классических западников и славянофилов настолько размыто, что без предварительного определения их содержательного наполнения они не поднимаются выше идеологии. Эти идейные концепты подчиняются власти дискурсов, интересы которых они призваны отстаивать. Содержание начинает приписываться самой логикой спора. Здесь ключевые понятия, формирующие структуру проблемы, превращаются в носителей идеологических коннотаций, превращаясь в мифологемы. Типичный пример — причисление к славянофилам государственников, националистов, коллективистов, монархистов, а к западникам, соответственно, рыночников, либералов, индивидуалистов и т.д. Подобные абстрактные понятия черпают свою легитимность в некоем общем согласии, молчаливой отсылке к консенсусу относительно их интерпретации. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что можно быть и западником-националистом, и почвенником-индивидуалистом, и т.д. в зависимости от ситуации, сферы, контекста и т.п.
Сегодня в области политических идей вместо национально-государственных западников и славянофилов сталкиваются глобальные западники и антиглобалисты. По мнению последних, климатические, культурные, географические отличия национальных экономик обусловливают невозможность глобального слияния на нормативных истинах демократии, свободы и капитала. Если глобализм реализует «генетические ценности» «универсального» неолиберального экономического порядка, то антиглобалисты указывают на его особенность, явное противоречие этическим, историческим, национальным, экономическим принципам укладов незападных экономик, где устранение особенностей этих укладов, фактически, означает кризис основанных на них экономик и политик.
Нетрудно заметить, что экономическая глобализация формирует мировое разделение Труда и Капитала, где страны Капитала получают сверхприбыль за счет организации людской и сырьевой эксплуатации слабых стран Труда/Сырья, не входящих в «ядро глобализационных процессов». Более того, «свободная конкуренция» стран «второго» и «третьего» мира между собой за потоки глобальных инвестиций истощает эти страны, лишает ресурсов для национально ориентированного развития. Глобализация отвергает эквивалентный экономический обмен. Любой обмен между субъектом и объектом глобализации носит ассиметричный, властный характер, связанный с изъятием прибавочной стоимости у тех, кто ее произвел. Сегодня альтернативы глобальному западничеству связываются в основном с маргиналами как общества — анархисты, экологи, антиглобалисты, различного рода меньшинства, так и странами-маргиналами, которых эксплуатирует «глобальный мировой капитал» и которые (в марксистской логике) должны будут ответить на эксплуатацию созданием «глобального интернационала угнетенных», в составе всего «третьего» и бывшего «второго» мира. В свое время эта идея реванша Маргиналов, выдвинутая Г. Маркузе, соотносилась с левыми идеями. Ее спорность состоит в том, что маргиналы как люди, выкинутые из системы, вовсе не превращаются автоматически в антисистемную силу. Скорее система, в случае возникновения реальной угрозы со стороны «маргиналов», пойдет на увеличение издержек их содержания. То есть приручит, адаптирует и нейтрализует эти разрозненные группы скорее, чем те смогут (и смогут ли) составить ей действительную альтернативу.
По мнению российских антиглобалистов, реального политического субъекта, который мог бы противостоять «золотому миллиарду» как субъекту глобализации, после краха СССР и соцлагеря не существует. Россия как отдельное государство способна защитить себя лишь с помощью автаркии, позитивные результаты которой весьма спорны. В настоящий момент альтернатива асимметричной глобализации связана лишь с трансформацией самого Запада как субъекта глобализационных процессов, демобилизацией его политической воли в результате исчерпания пределов роста (сырьевых, технологических) или природных катаклизмов.
Политическая мифология, выполняя «иллюзорно-компенсаторную» функцию, представляет собой понимание политической реальности, способное определить относительно комфортное место человека в мире политики. Бинарная оппозиция «свои — чужие», «наши — не наши» позволяет конструировать в политическом мифе образ культурного антигероя в зависимости от того, каков критерий определения «чужого» и «нашего».
В настоящее время в западной прессе постоянно говорится о противоборстве России с Западом. Все чаще журналистами используется риторика времен Холодной войны. Негативный образ России позволяет западным политическим элитам решать целый ряд собственных задач. Их перечислил в своей публикации в газете The Times Анатоль Калецки. «Появление Владимира Путина как врага номер один на мировой арене удобно для всех, — пишет он. — Джорджу Бушу это помогает прикрыть геополитические провалы в Ираке и презрение к стремлению европейцев добиться перемен в климатической политике; руководителям Германии и Великобритании Путин помогает скрыть провалы атлантической дипломатии, а новичку Николя Саркози дает возможность проявить свой жесткий характер, не становясь при этом на антиамериканские позиции. Руководство Европейского союза получает возможность продемонстрировать солидарность с вновь принятыми в ЕС странами Восточной Европы, не идя при этом на отмену принятых по отношению к ним дискриминационных мер» [2].
Эти негативные образы России с Запада переходят и на постсоветское пространство. Постсоветские элиты используют их для того, чтобы интегрироваться с западными элитами, выставляя себя в качестве «форпоста борьбы с Россией». Кроме того, в ряде государств (страны Балтии, Украина, Грузия) обвинения в контактах с Москвой используются прозападными и националистически настроенными элитами с целью испортить имидж своим оппонентам.
Постсоветское пространство, согласно Э. Геллнеру, относится к «четвертому поясу» процесса «ирредентизации», т.е. становления новых наций и национализмов [3]. Любой возникающий национализм должен быть направлен против какого-то внешнего врага («негативного интегратора»), который используется для объединения, интеграции новой нации. К сожалению, практически для всех стран постсоветского пространства объектом такой «интеграции против» является Россия как бывший имперский центр. Кроме того, рост подобной риторики провоцируется использованием России в качестве «негативного интегратора» многими странами «третьего пояса» Э. Геллнера (страны Восточной Европы и Балтии).
Имидж страны представляет собой те компоненты образа, которые поддаются целенаправленному воздействию. Имидж России, по крайней мере со времен Петра Великого, строится, прежде всего, по признаку отношения к Западу. В то же время имидж России на постсоветском пространстве как сознательный инструмент нашей внешней политики практически не проработан. Фактически здесь также используются различные позитивные стереотипы. Следовательно, необходима разработка специальной имиджевой политики на постсоветском пространстве, отличной от имиджевой политики нашей страны в других регионах мира.
Нынешний год Первой мировой медиаместечковой войны отмечен наполнением заданной дихотомии свежей кровью. На Украине эти понятия никакие не абстракции, а повседневная реальность вооруженного противостояния, втягивающая в себя риторически несовместные Запад и Восток. Исход во многом зависит, с одной стороны, от взаимопонимания России с европейским Севером, с другой — Югом, законодателем цен на нефть.
Модернизация России, имея свой, исполненный специфических противоречий «фирменный стиль», разворачивается в неустойчивых полях глобального пространства — экономическом, политическом и культурном. Взаимодействующие на этих полях национально-государственные и транснациональные субъекты подчиняются определенным нормативным правилам с разной степенью принуждения. В экономическом поле эта степень наиболее высока, в политическом — ситуативно более гибкая, в сфере культуры — минимальна. Успешность российского современного «модернизационного рывка» во многом будет зависеть от «сложения сил», ответственных за формирование «национального стиля» модернизации в трех «полях» глобального пространства — экономическом, политическом и культурном. Он предполагает, что в «поле» российской национальной экономики следует ожидать усиления влияния правил глобальных транснациональных систем, поскольку на этом «поле» уже сегодня явно прослеживаются тенденции к интеграции в мировой рынок.
Сложность текущей ситуации заключается в том, что, по мнению ряда исследователей, в данный момент в России ощутимого запроса на модернизацию нет не только в элитах, но и в массе общества. Это неизбежное следствие социальных трансформаций, требующих структурных и функциональных изменений во всех сферах общественного организма — экономической, политической, социальной, культурной и т.п. Исторически при таких трансформациях наблюдается увеличение функционального разнообразия всех частей социального целого, сопровождающееся также умножением в этих частях новых форм, поскольку еще не выработаны правила для всего разнообразия функций.
Владимир Карпец. Самодиагностика и хирургия
Прежде всего, я хотел бы продолжить метафору господина Люсого и сказать следующее: грань между историей и современностью не просто зыбкая, а ее вообще нет. Мы говорим о мифе, но давайте вспомним хорошее определение Алексея Федоровича Лосева: «Миф — развернутое магическое имя». Здесь, перед нами, конечно, не миф, а идеологема в контексте исторического времени. В то же время она жестко отражает реальность, и, чтобы это понять, надо выделить парадигму этой реальности, без чего мы просто не сможем обратиться к современности.
Запад действительно, в отличие от России, изначально стремится к созданию однополярного мира — на собственной основе или на порабощении всего, что не есть Запад. Подоснова этого — несколько обстоятельств. Первое и главное — линейно-временное восприятие Ветхого Завета. Второе — представление об универсальности римского права и связанного с ним института собственности. Далее — римско-католическая доктрина богослужения только на трех языках — еврейском, греческом и латинском. Причем в результате — почти только латинском. Далее — кальвинизм с его учением о предопределении. Отсюда — предопределение глобального Запада (destiny — предопределение). Ну и, наконец, феодальные представления о земле как объекте купли-продажи.
В России все иначе. Не будем здесь подробно останавливаться на дохристианской веротерпимости, идущей от ведической эпохи, ограничимся эпохой христианской. Восточное православие восприняло Ветхий Завет с его «сакральным геноцидом» символико-онтологически, как образы невидимой брани не с народами, а с бесами, что относится прежде всего к монашескому «умному деланию». Новый же Завет русские восприняли «всеязычно», в духе Пятидесятницы. Земля, «земля благая» — образ Богородицы и Святого Духа, а значит, не может быть объектом купли-продажи. «Земля — Божья и Государева, а так ничья». Веротерпима была даже и Золотая Орда, от которой Русь долгое время пребывала в военной и экономической зависимости. В первые века после Орды, когда у власти были Рюриковичи, Русь не считала себя и врагом ислама, и даже на освобождение Константинополя смотрела скептически. «Государства всей вселенной не хотим», — говорил Иван Грозный. Собственно, Русь, хотя и была хранительницей православия, практически не занималась, в отличие от Запада, так называемым «миссионерством», которое нам сегодня навязывают церковные обновленцы. Это не русская традиция, это традиция Запада. Органическая черта России — «цветущая сложность», как говорил Константин Леонтьев.
Но, с другой стороны, государственно-правовое устроение России и Запада также взаимно противоположно. Но только здесь уже обратным образом. Средневековая Русь-Россия не знала феодализма, но знала тягловое, по выражению Ключевского, общинное государство, вошедшее в плоть и кровь народного сознания. Одни защищают государство, другие кормят тех, кто его защищают. Кровь барина как бы обменивается на пот крестьянина, и все в одинаковой степени — «люди Божьи и Государевы». Сам Государь — тоже носитель прежде всего обязанностей, а не прав. Европа видит и всегда видела в русском тягловом государстве стремление к порабощению феодализма и демократии, что в данном случае архетипически одно и то же. Этого нет, на самом деле. Русский мир по сути своей веро- и культуротерпим, но Запад в это не верит и всегда стремится и будет стремиться к превентивному уничтожению России как государства и к ассимиляции — в лучшем случае — русских как таковых.
Теперь, собственно, о «русском западничестве». Вопреки общему мнению, оно начинается не столько с Петра Великого, но с раскола XVII века и даже раньше. «Западничество» — не столько фактор общественной мысли, сколько, строго говоря, целый ряд рецепций, подобных рецепции римского права в Европе в Средние века, но только быстрых и насильственных, продолжающихся по сей день. Все началось со смены самой парадигмы времени: в православный Символ веры была внесена латинская формулировка «Его же Царствию не будет конца» вместо русской «Его же Царствию несть конца» — о Предвечном Сыне Божием Иисусе Христе. Это фундаментальное различие. По-гречески, кстати, точный перевод — «нет и не будет», что в конечном счете ближе к русскому. Вот — первая и главная рецепция, ведь параллельно на Западе как раз идут реформы хронологии, и вот Россия входит в это глобальное обновление «Великий Петр был первый большевик», — писал Волошин. Если продолжать эту логику, Никон — первый глобалист. Московское Царство, Третий Рим, было действительно удерживающим — не только политически, но и метафизически, время его было иным, нежели время Запада, неуклонно вступавшего на путь «просвещения», которое с точки зрения православного сознания было подготовкой к приходу антихриста. И вот начинается «взаимная гонка» с Западом — кто кого перегонит? Но до тех пор пока оставалась в России царская власть, «удерживающий» не отымался. Поэтому как элита — уже западническая, так и контрэлита — революционная и тоже западническая, синхронно оспаривают саму царскую власть, хотя и расходятся меж собою в частностях. Да и сама царская власть отчасти теряет ориентиры — иначе она бы сопротивлялась рецепциям, а не способствовала им. А она способствовала. Такова ее роль, например, в запоздалой рецепции феодализма — с Указа о вольности дворянства 1762 года, который дает формулу крепостничества в его негативном смысле, противоположном «крепостному закону» тяглового «всеуравнивающего полновластия» (В.О. Ключевский).
В феврале 1917 года элита свергает царскую власть, и далее рецепции идут в ускоренном, геометрически прогрессирующем темпе. Такова рецепция марксизма, такова почти всеобщая рецепция западного права и евроатлантических правовых представлений после 1991 года, таких как доктрина прав человека, правовое государство, разделение властей, политический плюрализм, «гражданское общество» и т.д. В то время как сами понятия права и обязанности в России никогда не разделялись. Наш замечательный правовед Николай Николаевич Алексеев в 30-е годы, в эмиграции, вводит понятие «правообязанности» — в противовес «правовому государству» — и обращает его как к старой России, так и к СССР. И дело, конечно, не в том, что «правовое» государство» и «гражданское общество» плохи сами по себе. Они хороши там, где они естественным образом исторически родились и развивались. Но привитые к чужому древу они дали и дают России дурные плоды.
Но есть еще и, так сказать, историческая инерция русского народа, который умеет «обкатывать» любые западные рецепции и делать их если не своими, то, скажем так, «полусвоими». Так произошло после Великой Отечественной войны с марксизмом, отчасти так произошло после 1991 года и с демократией. Отсюда наше знаменитое, ставшее притчей во языцех выражение: «Как живем? По закону или по понятиям?» Так вот, когда мы говорим, что мы живем по закону, мы говорим, что живем по рецепции. А когда говорим, что «по понятиям», оказывается, что мы живем по древним, даже архаическим, но органически своим представлениям. Интересно, что в «Русской правде» Ярославичей присутствует слово «наезд», и оно означает точно то же самое, что сегодня. Однако такое «полу-освоение» никогда не становится полным, внутренняя керигма рецепции начинает работать сама по себе («Больше социализма, больше демократии» после 1985 года, «За честные выборы, против жуликов и воров» в 2010–2012 годах), и… — Россия снова оказывается беременна новой смутой. А изначально и исконно боящаяся Россию и стремящаяся ее превентивно уничтожить Европа, и вообще Запад, сразу же, мгновенно использует эту двойственность — против России, разумеется.
Что необходимо? Прежде всего, углубленное самопознание и самодиагностика, преодоление двойственности через подлинное возвращение к себе. До тех пор пока этого не произойдет, Запад будет использовать наше раздвоение в своих геополитических целях. Будет провоцировать смуту для обрушения России — как конкурента и как предмет панического страха. Происходящее на Украине и в Новороссии — тому пример, и здесь я решительно не могу согласиться с уважаемым германским коллегой. Украинский народ и русский народ — это один народ, и Евросоюз сегодня пытается отторгнуть одну часть нашего народа от другой. Но то, что мы это видим, в этом участвуем, может стать и исцелением, может стать болезненной хирургической операцией по удалению раковой опухоли археомодерна, поразившей Россию вот уже как минимум три с половиной века. Все остальное уже накладывается. Если угодно, это хирургический нож в руках Бога. Поэтому я полностью согласен с выражением «русская весна» относительно того, что происходило весной этого года. Но надо сказать, что «русская весна» вызвала резкое сопротивление именно российской бюрократии, ибо она, почти целиком прозападная, компрадорская бюрократия — главная носительница рецепции и археомодерна. Она мешает «русской весне» вовсе не потому, что боится санкций или хочет экспортировать углеводороды (все это вторично), но потому, что в Новороссии действительно рождается совершенно новая политическая элита, абсолютно новая, действительно исторически русская.
Новороссия есть новая Россия, в которой, похоже, начинают в качестве строительных сил реально сочетаться две исторически противостоявшие друг другу, но неотъемлемо соединенные в «начертании России» идеи — Белая и Красная, монархическая и социалистическая. И это вызвало и будет вызывать все более яростное сопротивление либерально-республиканской бюрократии — именно так. Поэтому либо Россия вместе с молодой Новороссией осуществит эту тяжелую и опаснейшую хирургию нашего старого Западного края и мы вместе с народом Малой России вернемся к самим себе, в общий Русский Дом, либо все вместе перестанем существовать. Сегодня — Украина, завтра Новгород, послезавтра Карелия, потом так называемые независимые республики Сибири и Урала.
В конечном счете, хирургия по отношению к чему? К нашему собственному западничеству, во всех его видах. Ведь раковое заболевание, похоже, на последней стадии. Но если Бог даст, то операция пройдет успешно. Исцелится и Россия, и Западу более нечего будет бояться, потому что мы займемся своим, коренным делом, и сам «Запад» для нас как мифологема — со знаком «плюс» или со знаком «минус» — исчезнет. Как поется в песне, «не нужен нам берег турецкий, чужая земля не нужна».
Ведущий: Итак, мы выслушали два взгляда на проблему. Предлагаю докладчикам задать друг другу вопросы.
Александр Люсый: Владимир, вы использовали широкое поле, обращаясь к русской правде, но для западничества вы ставите точкой отсчета раскол, а как же тогда принятие христианства?
Владимир Карпец: Это совершенно отдельная тема, это вопрос взаимоотношений, кстати сказать, очень актуальный для русского национального движения. Я считаю, что здесь необходим, наконец, диалог между русскими православными и русскими новоязычниками. Сам я православный христианин, но с большим вниманием отношусь к этим людям, к родноверам в том числе. Я считаю, что мы, русские люди, должны начинать диалог — без какого-то вмешательства извне, решить этот спор, в конце концов, как наш старый русский домашний спор. Именно поэтому я сознательно сейчас эту тему не затрагиваю, считаю, что она отдельная и может быть ее не надо выносить сейчас на такие обсуждения. Но полагаю, что в конечном счете XXI век должен каким-то образом если не положить этому спору конец, то хотя бы наметить некие вехи его разрешения.
А к Александру у меня не вопрос, а маленькая реплика. Просто вы говорили о переводах Шпенглера, а я, например, перевел бы более точно — «Закат заката», но это все же филологический вопрос.
Александр Люсый: «Закат Европы» это сам по себе какой-то жанр, гибель Запада и сумерки Запада, а сумерки — это закат, а для Шпенглера это закатная земля, закат заката, но это не Европа. Как писал поэт XVIII века Семен Бобров, «се Запад дней», закат солнца и запад — это негативное что-то…
А к Владимиру у меня такой вопрос. Вот вы говорите, что в Новороссии рождается новая Россия, мы увидим в Новороссии новое лицо России, вместе с тем то, что образует Новороссию, совершенно не является чем-то единым, есть группа Гиркина, есть группа Захарченко, группа Пушилина, а есть группы казаков. Каким вам видится из всего этого лицо новой России?
Владимир Карпец: «Русская весна», которая была раздавлена бюрократией, — это, с одной стороны, Стрелков, а с другой — Губарев, это соединение монархической белой идеи и русского социализма. Губарев — это русский социализм, а Стрелков — дроздовец-монархист. Два потока. У меня самого недавно вышла книга, простите, забыл я ее взять с собой, «Социал-монархизм». Да, сейчас не весна, и не без помощи псевдосоратников-патриотов, не хотелось бы называть их имена, так как все знают прекрасно, о чем и о ком идет речь, например о Кургиняне.
Ведущий: Давайте все-таки идти по пути накопления вопросов и суждений по выслушанным докладам.
Беленкин Борис: Мне очень интересно, я сейчас сразу же констатирую то, как я понял выступавших, я их особо не разделил между собой. Мне кажется, одно как бы продолжает и развивает другое. Я понимаю эту панель, этот час как бы вослед выступавшим, что Запад как враг — это скорее не реанимация исторического мифа, а новая реальность. И тут разговор о мифе вообще неуместен. Единственное, с чем я согласен, это, конечно, не миф, а идеологема. Когда мы раньше говорили: западники, славянофилы, обсуждали какие-то течения, нюансы, возможности и т.д., мы все-таки говорили о некоторых интеллектуальных усилиях, интеллектуальных пониманиях, интерпретациях точек зрения. Все это было. Сегодня, с моей точки зрения, мы перед некоей очень интересной реальностью находимся, и я не знаю, была ли когда-нибудь в России подобная реальность. Вот это мне интересно — реанимация исторического мифа или новая реальность, идеологема? Неважно, что, но мы видим, что это принимается не просто большинством населения, а подавляющим большинством. И возникает вопрос: почему это так, что здесь сработало?
Владимир Симиндей: Очень интересный вопрос, и на него, наверное, не может быть какого-то исчерпывающего ответа, с другой стороны, ответ на него прямо напрашивается — пресловутые двойные стандарты и разрушение образа Запада как строго учителя демократии, кроме того, это расходящийся образ Запада как самодовлеющей ценности и Запада как ценного инструмента, Запада как носителя ценных инструментов. Учиться у Запада — наверное, это очевидно — этот посыл никуда не денется в силу западной риторики, другой вопрос, что некоторые западные ценности кажутся все более и более сомнительными в обществе, или они представляются, скажем так, и не всегда инструментами. Ну, в самом деле, толерантность — ценность или инструмент? Другие вещи. Естественно, эти сомнения в тех моментах, которые на Западе считаются важными, ценными, они естественно подхватываются средствами российской массовой информации, вопросы, связанные с положением сексуальных меньшинств и т.д., они в общем являются не сильно актуальными и, естественно, актуализируются, принимая определенное консервативное настроение в обществе, раздувают вопросы, делая Запад еще более смешным. Кроме того, из свежей памяти «эффект Псаки», когда мы видим, что артикуляция американской внешней политики осуществляется при весьма посредственных интеллектуальных способностях. Это делает американскую внешнюю политику, и без того не лишенную противоречий, очень смешной. Нынешняя волна антизападной риторики — это, в общем, и последствия еще и двух историй, пропущенных Западом шансов по втягиванию России в новую волну модернизации или постмодернизации. Речь идет о периоде так называемого раннего Путина. Мы же прекрасно с вами можем вспомнить, когда пути всерьез разошлись, 2008 год. С этого момента мы наблюдаем очень серьезный откат, который так или иначе по тем или иным поводам привел бы к схожим результатам. В данном случае, как мне видится, власть, средства массовой информации и рвущиеся во власть просто улавливают определенные тренды, которые есть и, естественно, тот ветер, который дует в паруса и используется властью для политических целей. Поэтому антизападные настроения, которые существуют, — это проекция тех ошибок Запада, которые мы наблюдаем сегодня. Поэтому это осознание Запада, что вроде бы Россия хотела принять определенные стандарты Запада, не ведет к каким-то ответным позитивным жестам. Мы помним, что наиболее популярным политиком, «лучшим немцем», был Михаил Сергеевич Горбачев. Когда Советский Союз, реальная сила откуда-то уходит, что-то отдает, это очень хорошо, это воспринимается на ура. Когда возникает обратный тренд, это воспринимается как сигнал тревоги, как повод для расщепления старых идеологем.
Сергей Гуляев: Я не историк, я представитель скорее науки, математик я по образованию. У меня вопрос ко всем присутствующим по поводу того, здесь противопоставляют два понятия: миф и рациональное знание. Но как быть в такой ситуации, если для какой-то части сообщества утверждение является мифом, а для другой это вполне рациональное знание. Я приведу конкретный пример, связанный с Украиной. Вот такое утверждение: США хотели при определенном раскладе политических событий на Украине основать в Крыму свою военную базу. Для части нашего сообщества, силовых структур, например, — это вполне рациональное утверждение, оно обосновано какими-то разведданными. Это вполне рациональный факт, который привел к совершенно определенным следствиям. А для другой части общества — это миф, потому что, ну как США могут вести себя подобным образом по отношению к России. Вот как быть в этой ситуации?
Сергей Сергеев: У меня реплика по поводу того, почему возникла такая сильная волна антизападнических настроений. Тут много было правильно сказано, но среди прочего я хотел бы еще все-таки добавить, что, на мой взгляд, это некая попытка заглушить на самом деле то чувство гигантского отчаяния, которое находится внутри у большинства населения нашей страны по поводу того, что состояние, собственно говоря, России ну просто-напросто тупиковое. Поэтому возникла прекрасная возможность выплеснуть какие-то эмоции и забыть о том, что мы на самом деле находимся в полнейшем тупике. А вопрос Владимиру Игоревичу Карпецу у меня такой: ваш идеальный, так скажем, социал-монархизм и реальность путинской России, в каком соотношении они находятся? Мне-то, насколько я знаю ваши взгляды, кажется, что они ведь очень далеко, и мне не очень понятно, почему вы питаете какие-то надежды на какие-то возрождения, тем более с учетом на территории вот этой маленькой Новороссии, которая всецело зависит от Российской Федерации.
Владимир Симиндей: Почему так получилось? Отвечаю уважаемому Борису Беленкину. Так получилось потому, что были найдены вовремя правильные слова, какие слова легче воспринять для населения, наблюдающего телевизор каждый день: фашизм, нацизм, геноцид, истребление. Эти слова были найдены, сказаны правильно и выбран был конкретный враг — Украина. Потому что это было вовремя, потому что слов было мало и они были точными, и потому что украинские пропагандисты оказались менее квалифицированными, менее удачливыми, менее изобретательными и не сумели выдвинуть какие-то контробразы России. Война идеологически и информационно Украиной была проиграна навсегда. Они никогда не установили никакого статус-кво, они не сумели мобилизовать украинцев на защиту Украины. Не было ощущения границ Украины, государственности Украины, которая выстраивалась двадцать с лишним лет.
Людмила Гатагова: Вот, Владимир (Карпец. — Ред.), вы сказали, что украинцы и русские — это один народ. Т.е. я так понимаю, что вы используете чисто экстенциалистский подход. Да, это был один народ, но сегодня, наверное, это другая реальность. Ведь что такое народ? Это то, как он сам себя идентифицирует, точно так же как человек, его идентичность такова, какую он сам себе заявляет. Т.е. получается, что вы как бы отказываете украинцам в их собственной самоидентификации? Я просто хотела это уточнить.
Фальк Бомсдорф: Мне, откровенно говоря, сложно дать оценку, потому что я уже пять лет не присутствую в России постоянно. Мне, конечно, не хватает обоснования многих тезисов, которые можно оспаривать. Кроме этого, хочу сказать: каждый имеет право на свое мнение, без сомнения, но никто не имеет право на свои факты. Вы действительно говорите о том, что американцы, если я правильно вас понял, имели план создать военную базу в Крыму? Такого плана никогда не было и не будет. Для меня это просто загадка. Как может математик, по моему впечатлению, интеллигентный человек, интеллектуал, делать такое утверждение?
Сергей Гуляев: Я сказал, что для определенной части силового сообщества это являлось неким рациональным фактом, отрабатывая который они предпринимали определенные действия в реальности. Это для них не был миф, это для них была реальность.
Фальк Бомсдорф: Господин Макаров мне в перерыве сказал, что действительно были планы у США по ведению войны. Это не только миф, это не соответствует действительности. Таких планов у военных США не было. Я считаю, что ваши военные действительно очень хорошо информированы, знают об этом. США хотели бы создать военную базу в Крыму? Зачем, с какой целью? Это совсем иррационально. Интеллигентный, критически мыслящий человек не может принять это как факт. Это пропаганда, это ложь. Все это вне моего понимания.
Андрей Макаров: Хорошо, я коротко отвечу. Приведу два факта. Первое: ряд событий, которые мы фиксируем 15 лет — югославской войны, затем иракская, ливийская, сирийская и т.д. Все это за пределами нашего сознания, но это факт. Второе: присутствие американцев в Афганистане, который гораздо дальше от Америки. Тем не менее, там армия воюет десять лет, и поэтому наличие планов создания любых баз американских в Крыму воспринимается вполне как возможная вещь.
Геннадий Бордюгов: Я понимаю озабоченность Фалька, но мне хотелось бы вернуться к главному нерву завязавшегося интересного разговора, и в данном случае хорошей провокации со стороны Владимира Карпеца. Когда вы, Владимир, говорите о соединении социалистической и монархической идей (а я в принципе согласен с тем, что новая реальность действительно сейчас возникает), у меня сразу возникает сомнение как у историка, потому что ваша идея — идея утопическая, тесно связанная с мифами, — принимайте наш образ будущего как канон, без всякого обсуждения и критики. И неважно, что этот образ вбирает в себя рациональное и иррациональное, знание и веру. Когда большевики, как вы сейчас, нарисовали новую реальность, в стремлении к ней они повсюду спотыкались, в том числе развенчивали эту новую реальность применяемыми ради нее средствами. Слушая вас, отмечаю ту же тенденцию. К примеру, какие рецепции существуют сейчас в Русской православной церкви, она единой стала? Вы говорите о бюрократии, которая сопротивляется «русской весне», но если она «русская весна», тогда она прозападная. И, наконец, самое важное, насколько вот эта новая утопия (я в кавычках все беру, потому что это предмет спора) будет рукотворной, управляемой в реализации? Ведь большевики на этом споткнулись, поскольку считали, что всем можно управлять, все можно спланировать, любые средства хороши. Чем это закончилось?
Ведущий: Предлагаю докладчикам отреагировать на вопросы и наши комментарии.
Александр Люсый: Ко мне не так уж много было вопросов, в частности, скорее замечание, что Запад — не миф, а идеологема. Идеологемы создаются именно в результате реанимации мифов, создания новых мифов, так что здесь это взаимосвязано. Большевистская идея — это идеологема и мифологема. Что касается работы этих идеологем в современной реальности — сейчас олицетворением «фашизма» стал украинский президент Петр Порошенко. Но это скорее псевдоним, он стал реинкарнацией Степана Бандеры, к которому всегда было негативное отношение. Он тоже был сложной, противоречивой фигурой, то он с одними воевал, то с другими, но сейчас в центре Львова возвышается памятник Бандере как победителю, триумфатору. Какой-либо более сложной рефлексии, с элементами покаяния, в нем не воплощено. У нас тоже, говорят, восстановили Феликса, но все же другого Феликса. А в Львове Бандера — абсолютный победитель.
Мои рефлексии касательно Новороссии заключаются в вопросе, сколько там этих Новороссий? На самом деле их две, основных Новороссии. Это Новороссия ополченцев и Новороссия Коломойского. Собственно, он же запустил вместе с Ахметовым сам этот проект Новороссии. Это не ополченцы придумали. Новороссия сначала выдвигалась как олигархическая альтернатива Януковичу. Сейчас эти две Новороссии, т.е. регионализация Украины или все-таки отделение территории, борются между собой. Вот эти две идеи борются сейчас, так непредсказуемо работают мифологемы. Я готов согласиться с немецким коллегой, к сожалению, он вышел сейчас, готов поверить ему, его гуманитарной осведомленности, что никаких планов создания американских баз в Крыму не было, но именно предполагаемые визиты туда американских кораблей еще в 2006 году впервые вызвали в Крыму массовое возмущение. Скоро, во второй половине дня, придет издатель одной из этих книг про тогдашнюю «российскую весну», «Операция АнтиНАТО. Феодосийский протест», — собрание материалов и документов, из которого видно, какой был тогда мощный подъем и в Феодосии, и в Севастополе, и в последний момент тогдашний президент Украины Виктор Ющенко отменил визит сюда американских кораблей. Очевидно, что уже тогда была предпринята первая попытка вовлечения этого пространства в военные интересы Запада. Вместе с тем я хочу подчеркнуть, что не имею в виду исчезновение Запада как врага, что Запад вообще должен исчезнуть как какая-то реальность, потому что в реальной политике то, что мы обсуждаем, не находится в контексте извечных проблем Запада и Востока. Вероятно, мы вообще не должны так всерьез пользоваться этими понятиями, рассматривая какие-то конкретные ситуации. Я сказал в конце, что север Европы — вот вектор экономического сотрудничества, а на юге — место, где определяются важные для нас цены на нефть. Сейчас нужен новый, более конкретный политический язык, где хорошо бы Западу и Востоку уделить как можно меньше места. Многие немецкие интеллектуалы уже задумались об этом, о том, какое найти применение отжившим понятиям, которые сейчас уже не работают. В Германии говорят: «Я не Запад, я не западный человек, я просто немец, и все тут». Впрочем, там тоже есть внутренний Запад, ведь Запад и на Востоке есть, здесь говорили, есть же Запад исламский, буддистский, т.е. и у них внутренний Запад. На Востоке Запад, а в Европе есть Восток, т.е. галльский мир — это Запад, а Германия — это Восток. Потом, впрочем, изобрели еще Восточную Европу.
Еще одно дополнение. Я был свидетелем того, как Фальк вел публичную дискуссию со знаменитым японским славистом Мицуеси Нумано, и Нумано сказал: вы знаете, мы, западные люди, испытываем сложности, общаясь с нашими русскими коллегами… Где тут Восток, где Запад? А писатель Владислав Отрошенко приводит такой эпизод: японский профессор спросил у меня, как я лично отношусь к тому, чтобы Россия вернула Японии четыре южных острова из архипелага, которые стали камнем преткновения русско-японской политики. У меня не было никаких оснований смотреть на этот вопрос с личной точки зрения. Я ответил японскому профессору, что в моих мыслях о пространстве Курильские острова никогда не являлись мне на ум. Я также сказал ему, что пространство как феномен чисто политический интересует меня мало. Суждения русских или японских политиков о пространстве не обладают для меня такой же ценностью, как суждения Канта или Бергсона.
Уж если говорить о моем личном отношении, то меня интересует проблема воздействия различных пространств и территорий на процессы творчества. И я тоже задал вопрос японскому профессору: «Если бы исторически сложилось так, что Восточной Сибирью владела бы не Россия, а Япония, что произошло бы в сознании японцев? Смогли бы они сочинять лаконичные трехстишия — хайку, создавать крохотные скульптурки — нецке, любоваться цветущими вишнями — сакурами? Продолжали бы они испытывать то, что в Японии называется мононо аверэ — печальное очарование бытия?» Японский профессор ответил: «Даже думать о таком гигантском пространстве тяжело. Оно убило бы японскую душу»».
Владимир Карпец: Было задано довольно много вопросов, поэтому я не знаю, уложусь ли в регламент, но постараюсь. Значит, первый был вопрос, когда была в условиях России реальность, о которой я говорил, была ли она всегда и т.д. Я скажу, что да, это было всегда. То, что происходит сейчас, есть продолжение того, что, собственно, было всегда. Теперь дальше, был вопрос Сергея Михайловича Сергеева. Я именно от вас, Сергей Михайлович, собственно говоря, и ждал чего-то подобного и дождался. Надежды на Путина, надежды на Новороссию и т.д., можно ли совместить те взгляды, которых я придерживаюсь, с реальностью, конкретно с тем, что вы назвали надеждами на Путина. Могу сказать, что не испытываю абсолютно никаких иллюзий в отношении лично Путина, как и вообще кого-либо. Для меня важно совершенно другое: любой правитель России, оказавшийся на том месте, на котором находится Путин, после Ленина (Ленин выпадает, для меня он разрушитель, цареубийца, вместе с остальными подельниками заложивший в основу СССР идею суверенитетов вплоть до отделения), это, скажем так, «местодержатель» — не местоблюститель, а именно местодержатель, бессознательный причем, пустующего императорского престола. Хороший он, плохой, нравится нам, не нравится — неважно. Он сидит в Кремле, возле Успенского собора, и так или иначе оберегает царское место.
Теперь конкретно о Путине. Интеллигенция его терпеть не может. Попробуем разобраться в этом без гнева и пристрастия. Здесь употреблялось выражение «ранний Путин». Он, прежде всего, продолжил экономическую политику Ельцина, то есть рыночные рецепции, антисоциальность, что сразу было, да и остается для меня решительным негативом. Но это как раз для интеллигенции было вполне приемлемо — ведь это все во имя «прав человека» и «как в Европе». Но вот переломил хребет внешнеполитическим уступкам и продолжает, будучи блокированный «демобюрократией», усилия по прорыву к суверенитету России. И что «креативный класс»? Большей свободы для него, чем это было при «раннем Путине» в отношении творческого самовыражения, возможности высказываться, печататься, писать все, да все что угодно, вплоть до этих самых пресловутых сексуальных ориентаций, не было. Не преследовали практически ни за что. Хорошо это было или плохо, правильно или неправильно, другой вопрос, но это было. Как повел себя «креативный класс»? А очень просто, по пословице, простите за выражение, — посади свинью за стол, она и ноги на стол. Интеллигенции свободы было мало, она захотела власти, причем всей власти. И что оставалось власти? Естественно, защищаться. Это законы выживания. Путин до последнего продолжал делать «креативному классу» примирительные жесты. Он лично, из своего кармана профинансировал создание артефакта чисто интеллигентской некоммерческой культуры — фильм Александра Сокурова «Фауст». В итоге? Интеллигенция продолжает вместе с «мировым общественным мнением» травлю главы государства.
Россия, вне каких-либо «масок», объективно была и остается монархическим по природе своей государством. «В России может быть или монархия, или анархия, причем анархия — лишь на очень короткий срок». Это говорил не кто иной, как Нестор Иванович Махно. С гипотетическим падением Путина начинают отделяться регионы. Региональные элиты соединяются, опять-таки, с креативным классом и ведут откровенно сепаратистскую политику. Пример — Екатеринбург, где уже все готово и американцы уже подключились. Да, с падением Путина начнется распад России. Это жесткая реальность. И этого допустить нельзя.
Но все же, если?.. — спросите вы. Да, тогда все сначала. Да, Земский собор, да, возможно, после гражданской войны и диктатуры, и да, тогда уже «окончательное решение» вопроса о русской государственности — никуда мы от этого не денемся. Тогда Земский собор, как в 1612–1613 годах, и его окончательное решение — уже навсегда. Да, я монархист, но я вовсе не хочу монархии любой ценой, ценой очередной бойни. Оптимальным считаю иной путь — через принципат, изменение титула президента на Верховного Правителя и назначение Преемника, что, по сути, уже есть. Фактически у нас уже реально сложилась передача власти по Указу Петра Первого от 1721 года. Как монархист я, естественно, сторонник династических начал, но пока что, на худой конец, тем более что безусловного Наследника Престола нет, сойдет и это. В надлежащую историческую минуту, ни минутой раньше и ни минутой позже, Преемником должен будет стать тот, кто во всех — именно во всех, и прежде всего родовых, отношениях достоин Престола.
В отношении социальной составляющей. Разумеется, не может быть речи о марксистском социализме, хотя, конечно, советский организационный опыт может и должен быть использован. Но по большому счету социал-монархизм — это некий аналог социал-демократии, т.е., условно говоря, социал-монархическая экономическая политика очень близка на самом деле к социал-демократии. Но это не демократия, а монархия, которая совместима с любыми социально-экономическими формами, в том числе и с социалистическими, в силу исторических и географических условий наиболее приемлемыми для нашего «месторазвития». И я думаю, что уже сейчас надо делать решительные шаги к «социализму сверху», в том числе, чтобы левые силы не сделали еще одну попытку утвердить его «снизу». Уже сейчас так называемый «экономический блок» правительства должен быть смещен и заменен теми, кто ориентируется на социальную экономику.
По поводу идентичности украинцев. Иван Франко, уж какой «щирый», возмущался, когда его называли «украинцем», говоря, что он русин, и Леся Украинка в паспорте писала «русинка»… Вы скажете, что сейчас народ себя осознает иначе. Во-первых, не весь. Во-вторых, что именно мы имеем в виду? Я считаю, что происшедшее на Украине — это результат полуторавековой общей работы, целенаправленной и долгой работы, Польши, австрийского генштаба, большевиков, прежде всего самого Ленина. Результат — острое безумие, массовое «скакание», что является первым признаком умопомрачения и сумасшествия. Простите, пожалуйста, но что делать с психически больным человеком, который был Васей Ивановым, допустим, а потом стал говорить, что он Наполеон? Поддерживать его в том, что он Наполеон? Я думаю, ответ очевидный. При этом никакой хулы ни мови, ни культуры! Пусть расцветают сто цветов, как говорят китайцы. Кстати, социал-монархический проект предполагает широчайшее местное самоуправление и широчайшую национальную, культурную и религиозную автономию.
Людмила Гатагова: В свете вашей речи я поняла, что социал-монархический проект включает Украину в свои пределы. Так ли это? Т.е. вы не принимаете данность, сложившуюся уже сегодня в течение двадцати пяти лет?
Владимир Карпец: Конечно, включает, как, в принципе, включает в себя вообще всю территорию Российской империи. Спрашивали также, не повторение ли это большевистской утопии. Нет, речь идет о всплытии извечного архетипа, одного и того же, который в свое время подспудно изменил и сам большевизм. Ведь даже «советское» 1948 года — это совсем не «советское» 1918 и даже 1924 годов. Надо просто не мешать этому всплытию. Спрашивали также, есть ли поддержка Русской православной церкви. К сожалению, нет, хотя есть священники, которые интересуются, но руководство церковной политикой сейчас находится в руках таких лиц, как митрополит Илларион (Алфеев), настроенных экуменически, в целом проевропейски. Они готовят так называемый Всеправославный Собор, который мыслят как Восьмой Вселенский. Но, согласно традиции и канонам Церкви, Вселенский Собор может быть созван только православным императором. Они получили сейчас то, чего добивались в начале прошлого века, — так называемую «свободную Церковь в свободном государстве». От чего и для чего свободную? Это уже иной вопрос. Надежда лишь на толщу православного народа и на монастыри, на строгое, глубокое и верное монашество, на серьезных духовников.
Примечания
1. Пастухов В.Б. Конец русской идеологии (Новый курс или новый путь?) // Полис. 2001. № 1. С. 53.
2. Казанцев А.А., Меркушев В.Н. Россия и постсоветское пространство: перспективы использования «мягкой силы» // Полис. 2008. № 2. С. 57.
3. Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991.
Источник: «Запад как враг»: реанимация исторического мифа или новая реальность? Материалы семинара 22 октября 2014 г. / Под ред. К. Аймермахера и Г. Бордюгова. М.: АИРО-XXI, 2014. С. 12–82.




Комментарии