Давид Зильберман
Традиция идеи человека
«Динамика человеческой идеи»: онтология факта идеи в культуре
 3 430
3 430 
От редакции: В сентябре 2015 года в России впервые опубликована книга Давида Бениаминовича Зильбермана «К пониманию культурных традиций». Это оригинальная философия культуры, созданная одним из наиболее ярких участников философских и социологических семинаров в Москве в конце 1960-х годов. Эта публикация стала возможна благодаря совместному издательскому проекту Института развития имени Г.П. Щедровицкого и издательства РОССПЭН. «Гефтер» публикует фрагмент раздела III части второй, ключевой для всей социологической теории Зильбермана.
Удивительна случайность идей. Но от «случайности» — всего шаг до «случаемости», как от «события» — к «бытию». Достаточно знания: «может быть», чтобы утвердиться в мысли: «нечто бытийствует». Ведь причинность лишена онтологии.
<…> В вере есть значительность реального. Есть она и в знании. Видимо, оттого та и другое способны служить источником действия. Но характер действия здесь и там — разный. Объект действия веры имеет опору в ней самой. Действие знания — это всегда перенос (метафора, накладка, трансцендирование, категоризация). Знание насаживает плавающие в небесном эфире культуры облака ценностей на алмазные шпили норм.
<…>
Что-то грустное для нас есть в том, что всякий смысл — переносный. Что-то ненадежное. Знание, несущее в своей всеобщности уникальную крупинку содержательности, неравнодушно к объяснению.
<…>
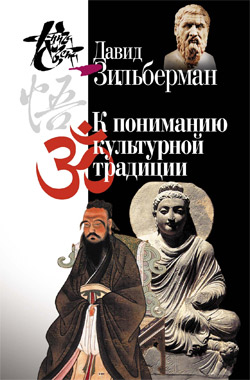 Впрочем, что мы хотим объяснить? Ведь человека всего можно изобразить. Его тело, чувства, умственность — они демонстрируемы. И разве они не созданы? То, что обещают химия, биофизика, электроника будущего (как уверяют нас писатели-фантасты) — дело очень давнее. Нельзя решительно утверждать, будто умение — древнее знание. Умение не так случайно, а потому сохраняется лучше (для него не нужно причины, станется и функции, которая всегда многолика). Знание же оставляет след лишь в умении его добывать. Разве психоанализ или аналитическая психология — не искусство, не умение добыть для человека даже его «Я»? Но в этом уже нет знания.
Впрочем, что мы хотим объяснить? Ведь человека всего можно изобразить. Его тело, чувства, умственность — они демонстрируемы. И разве они не созданы? То, что обещают химия, биофизика, электроника будущего (как уверяют нас писатели-фантасты) — дело очень давнее. Нельзя решительно утверждать, будто умение — древнее знание. Умение не так случайно, а потому сохраняется лучше (для него не нужно причины, станется и функции, которая всегда многолика). Знание же оставляет след лишь в умении его добывать. Разве психоанализ или аналитическая психология — не искусство, не умение добыть для человека даже его «Я»? Но в этом уже нет знания.
Неужели знание и смысл — неискоренимые реальности, представляющие собой метаформу «человека несделанного»? А как же тогда их культурная роль, их передача традицией?
Проверим идею человека на реальность, на зерно уникальности — что нам откроется?
Реальность — это то, что неустранимо никаким иным опытом. Но нам известны дерзновенные попытки избавиться от наваждения идеей человека. Американские индейцы бороро, ходящие нагими, уверяют вас и сами верят, что вовсе они и не люди, а — попугаи арара. Великий создатель адвайта-веданты Шанкара: показал, что человеческое тело — источник утомления, боли, страдания, — рождающееся, растущее и умирающее; человеческая душа — источник заботы, страха, вины, неспокойная, побуждающая нас к безрассудным поступкам; человеческий разум — источник мысли, носитель сознания и совести, признающий эти поступки своими и возлагающий на себя ответственность за действия бессознательного — все это существует, [будучи] не свободно от причин и не необходимо, ибо преходяще, а необходимое не преходит. Наконец, современная наука, с сухой строгостью и настойчивостью расколдовывающая мир от магических чар антропоморфной иллюзии. Эти три попытки одинаковы по своему существу. Их смысл — в переносе, в раскрытии метафоры, указывающей всему нереальному его предметность, всякой идее — ее случайность.
Но, быть может, мы взяли с самого начала неверный курс в своих поисках? Для чего идее [нужна] онтология? Достаточно и того, что идеей можно воспользоваться. Разве быть человеком — не значит как-то функционировать (в обществе)? Чтобы объяснить, каков человек, можно ведь просто показать, как он действует. Что же, покажем это на примере умственного процесса, в котором люди порождают онтологии, упорядочивая опыт при помощи идеи «бытия».
Этот умственный процесс состоит в последовательной обесценке того, что прежде считалось объектом или содержанием сознания, а теперь не годится, потому что его «бытийственность» противоречит новому опыту. Суждение о чем-либо признается противоречащим новому опыту, когда оказывается невозможным придерживаться этого суждения наряду с новым опытом, новым знанием (то есть сочетать оба в одном действии или ориентироваться на оба одновременно). Эта невозможность скорее переживается субъектом как психологический факт его существования, чем объективируется в чисто логическое состояние его ума. Это означает, что, с точки зрения психологического субъекта, прежний опыт должен быть искоренен. Искоренить его — значит подвергнуться новому опыту, практическому и интеллектуальному, который радикально изменит суждение о чем-либо.
Итак, порождение идей есть особый умственный процесс исправления ошибок. Но это не ко всяким ошибкам относится. Мы предположили, что некоторый математический прием позволит решить задачу. Однако оказалось, что он не работает. Ошибка признана, но не устранена, да и прием не опорочен. Исправление ошибки означает перемещение внимания на что-то иное, отворачивание от объекта или отказ от содержания сознания в пользу нового суждения или опыта, в которых мы теперь «уверены». Индеец бороро отказывается существовать как человек, чтобы быть попугаем, приобщаясь в этом бытии к неискоренимой реальности клановой традиции. Шанкара отказывает человеку в реальности, чтобы не принять себя ложно за субъект страдания и быть свободным. Ученый отказывает человеку в субстанции существования и велит ему быть объектом знания. Повсюду мы наблюдаем аксио-ноэтический перенос, который субъективно, психологически, состоит в отвлечении внимания от объекта, каким он прежде представлялся, и привязывании его к тому же объекту, но переоцененному, либо к другому объекту, заступившему место первого в содержании сознания. Предмету вторичной привязки придается более высокая ценность в сравнении с предыдущим. Такова механика переносного смысла: отыскание знака значению есть субъективная сторона онтологизации.
Ясно, что этот процесс не является просто аксиологическим, принимающим форму суждений вроде «X, о котором я думал хорошо, плох» или «X, который я считал существенным, несущественен». Он является именно аксио-ноэтическим: «X по причине а, б, в… следует отвергнуть и заменить на Y», причем X и Y могут быть понятиями, отношениями существования, физическими объектами и т.п. С точки зрения субъекта, исправление ошибки есть разрушение объекта прежнего суждения как не возбуждающего более интереса и незаслуживающего внимания. Как видим, здесь вновь появилась причинность, которая не бытийствует. Зато теперь ее функция установлена: она способствует нормативизации знания. Благодаря нормативности переносный смысл приобретает уникальную содержательность. Его аксиологический и ноэтический аспекты образуют функциональный синтез, и исправление ошибок уникально квалифицируется как критерий онтологических различий. Отворачиваясь от некоторого объекта, мы полагаем тем самым, что он наделен меньшей степенью «реальности» по сравнению с тем, который займет его место. Опыт показывает: чем менее реально нечто, тем легче искоренимо, чем более — тем труднее. Такова онтология идеи, которая, объективируясь в культуре, выстраивает ее в виде динамической иерархии нормативно-ценностных связей с переменной реальностью. В итоге культура оказывается реально изоморфной человеческому интересу. Но при этом ее содержание перестает быть «человеческим» содержанием в узком смысле слова.
Переходя от культуры к культуре и осмысливая их, то есть сменяя опыт одной опытом другой, мы не считаем одну из них менее «реальной», чем другую. Каждая культура есть доказанная в переносном смысле возможность бытия человека, и реальность каждой неискоренима в такой мере, в какой культурный опыт или состояние бытия не могут быть заменены для субъекта никаким иным опытом, им противоречащим. Реальность культуры — это состояние полного духовного тождества ее субъектов с нею — состояние, в котором превосходится раздельность субъекта и не-субъекта, человека и мира и остается чистое единство непосредственного знания. Разумеется, это требование — идеализация, зато переживание его — реально: иначе онтология идеи была бы невозможна.
Кант заметил, что любая онтология — лишь пропедевтическое знание, подготовительная ступень к метафизике. Метафизикой культуры является общественная и человеческая жизнь. То есть у нее две метафизики. Если иерархия культурных идей строится в преддверии «метафизики здоровья», то есть в ориентации на нормальность внутрикультурного существования — опыт такого существования неискореним. Он вполне реален и не подвержен аксио-ноэматическому пересмотру. Субъекты такой культурной традиции будут ее сохранять и не согласятся сменить свои ценности на самые прелестные, с точки зрения другой культуры, соблазны — материальные, духовные, познавательные. Это значит, что в такой культуре окончательно реализовалась одна из возможностей бытия человека. Если же иерархия культурных идей строится ради «метафизики болезни», то при всей кажущейся гуманистичности «клинического» подхода теряется смысл познания, и сама идея человека постепенно растворяется в сумерках больного существования. Ведь полагание такой метафизики означает, что чем более объективирует человек культуру, тем отчетливее проявляются ее социальная и антропологическая болезненность и невозможность для человека в ней быть.
Между двумя полюсами — реальности и нереальности — располагается обширная нейтральная область феноменологии культуры и соответствующая ей действительность социальных изменений. Это область складывания культур и общественных отношений, поле действия по-разному направленных традиций человека. Для объяснения происходящего здесь с антропологических позиций можно предположить четыре модели: историческую, структурную, причинную и функциональную. Но если учесть при анализе аксио-ноэтический критерий, моделей останется всего две: причинная и функциональная. Исторические объяснения, в той мере, в какой они являются научными, предполагают изучение меняющихся причин. Для интерпретации исторических событий нужно знать необходимые или достаточные условия их появления (то же относится и к социально-культурным инновациям любого типа). Структурное объяснение в конечном счете сведется к функциональному. Конечно, можно дать независимое описание конфигурации обычаев или отношений в некоторой целостной картине культуры. Но структурный анализ, претендующий на объяснение обычая или совокупности обычаев, предполагает некоторый исходный «принцип», усматривая в них либо словесные «ярлыки», используемые для классификации данных по эвристической схеме, либо феноменологически подмечаемые субъективные функциональные интенции деятелей, в которые теми подставляются причинные переменные. Точно так же объяснение, апеллирующее к структурным требованиям системы либо структурно обусловленным особенностям ее поведения, тоже каузально либо функционально. Как же выглядят эти две модели рационального антропологического объяснения применительно к действительности взаимоотношения культуры и личности?
Смысл человеческого порядка объективируется как нормативный порядок. Социальные системы характеризуются конфигурациями взаимообращенных ролей, унаследованных от прежних поколений, которые играют члены общества. В любом обществе эти роли удовлетворяют четырем функциональным требованиям: адаптации, приспособления, интеграции, воспроизводства. Для исполнения ролей характерно не заучивание (это есть и у животных), но обоснованность в правилах и нормах. Обычай для человека означает социально усвоенный образец поведения, широко, если не единодушно соблюдаемый всеми членами общества или некоторыми его конститутивными группами. В случае отсутствия обычая образцы поведения характеризуют индивидуальное действие.
Этот порядок расценивается человеком как познаваемый — до полной непосредственности. Осознание, обучение, мотивация, оценка — все познавательные психологические переменные объективируются в образцах культуры и конституируют необходимые и достаточные установки (то есть причины исправления ошибок) правильного исполнения обычаев и поддержания порядка в социальной системе.
Аксионоэтический способ (онтологическая характеристика) действия идей проявляется в том, что социальный порядок воспринимается людьми как моральный порядок. Нормы предписывают наличность поведения. Правила регулируют наличное поведение. Совместно они обеспечивают единообразие, а следовательно, предсказуемость форм поведения. Но если ожидание удовлетворяющих эффектов, включая обеспокоенность этим, составляет необходимое (хотя и недостаточное) условие сохранности традиции социальной системы, то разочарование в удовлетворении составляет необходимое, но также недостаточное условие разрывов преемственности, изменений в системе. Культурные нормы, возбраняющие удовлетворение известных порывов, образуют один из важных источников фрустраций. Стабильность иерархизированной социальной структуры — другой важный источник. Например, если структурная стратификация препятствует известным группам удовлетворять свои культурно одобряемые потребности, лишая их доступа к соответствующим ролям, это может составить источник социальных и культурных отклонений, инноваций. Но то же может составить источник косвенных замещений: за счет переноса смысла, отказа заинтересованных групп от реализации недоступных ценностей, что в конечном счете способствует укреплению социальной стабильности. Если мотивы нельзя удовлетворить прямо, замещается порыв, цель, акт или агент. Это меняет смысл мотива и направляет его на иные, культурно одобренные рельсы. Отыскиваются новые объекты в социальной и культурной системах, начинает виться нить новых традиций. При этом культурная система по преимуществу выполняет функцию замещения запретных мотивов и удовлетворения в ином. Выходит, аксио-ноэтическое действие идей — неонтологично, раз его причина случайна, а бытийствует по-настоящему организм культуры? Но замещение — не единственная функция смысла. Переоценка не обязана иметь защитный характер. Иногда происходит не замещение, а уклонение, которое характеризуется особыми причинными (но не функциональными) свойствами. Фрустрация потребностей (в том числе и познавательных) — необходимое, но не достаточное условие изменений. Находить функцию девиациям — вот еще одна задача человеческой идеи в процессе культурного творчества. По-видимому, традиция идеи человека оставляет след не в самих актах переноса, а в тех ценностях более высокого ранга (в сравнении с покинутыми), какие она творит в качестве объектов, конституирующих разные уровни (реальности) в культуре.
В этом плане вся культура есть видимость, поскольку все в ней может быть заменено новым опытом. В сфере этой видимости можно различить три типа существования, которые категориально вполне ее исчерпывают.
Первый тип — это «реально сущее», содержание опыта которого может быть ликвидировано лишь прекращением его переживания. Например, таков теистический религиозный опыт и опыт любви, в котором испытывающий верит в реальную сущность отношений между ним и Богом или другим лицом. Этот опыт предполагает субъектно-объектную ситуацию, но это полагание ассоциируется с высшим порядком смысла. В нем нет ценности, потому что он — несравненен, уникален («бесценен») и своей реальностью выступает как воплощение чистой нормативности, переполнившей сознание. Все различия, всякий иной опыт, конституированный этими различиями, естественно, меркнет. Такого опыта нельзя пожелать, потому что онтологически он должен быть всегда, хоть и бывает заполнен чем-то временным (по определению, ибо только такой опыт — «бесценен»). Таково состояние свободы в веданте, а также, по-иному, ницшевское amor fati. Этот опыт натурален.
Что же может быть «естественным» слепком с этого непередаваемого субъективного состояния — тем самым слепком, который составляет объективированную в культуре традицию идеи человека? По-видимому, это принцип органической целостности, моделирование которой сыграло, да и до сих пор продолжает играть в несколько измененном виде (в понятии «системы») столь важную роль в социальном знании. Организм, с его внутренней целью, натуральной уникальностью функциональных взаимосвязей — это объестествление высшего, нормативного смысла «реально сущего», доступного человеческому опыту и сознанию, которые, на чей-то взгляд, также суть видимость и потому могут пропадать, отвлекаться. Что же в этой естественности самое фундаментальное? Влечение? Любовь? Страх? Нет… По-видимому, утомление.
Утомление — единственное человеческое состояние, в котором организм и его разум не активизируются, не переключаются, а отключаются. Утомление — родовой признак органичности человека. «У бессмертных богов — усталость смертная», — сказал Гесиод, как бы отграничивая неотделимый от человеческого опыта уровень реальности, непосредственности самочувствия. В утомляемости человека — корень его органичности. «Томление ума» — источник его последующих усилий. Утомление естественно делает сознание бессознанием. Это самый интимный и неотделимый человеческий опыт, свободный от тени оценки, присущей страху, заботе, любви. Утомление не сублимировано психически. Это непосредственное самосознание организма. В Упанишадах утомление объявлено коренным источником творчества, ибо лишь его непреложность способна наделить творчество нормативной необходимостью. Утомленные люди и культуры не занимаются пустяками и мишурой преходящих ценностей — они серьезны и стремятся только к реально сущему. Утомление — основа сознания, потому что оно одно способно его устранить в его собственном аксио-ноэтическом действии.
«Реально сущим» может быть также сознание идеи нормативно-ценностного переноса. Она действует среди отдельных объектов — тех объектов, которые, в зависимости от способа их оценивания и ответа на оценки, по-разному сопричастны реальности опыта и в то же время сохраняют присущую каждому особую природу. Так, например, переживаются произведения искусства. Их переживание дает удовлетворение, символически воспроизводящее чувство целостности и проникновенности понимания, чувство ценности общения с ними. Но это не мешает перемещаться от одного к другому, не исключает их множественности и разности, что было немыслимо в предыдущем случае. Ценностная проекция структуры человеческого сознания как бы предусматривает возможность нормативизации множества оценок. Ее естественной проекцией оказывается общение людей, интерсубъектная символическая коммуникация. Сама сущность понимания подразумевает множественность ее возможностей. И те фундаментальные принципы, которые в представлениях понимающей социологии объективно соответствуют психологически переживаемым состояниям вины, страха, заботы и т.п., суть лишь квазионтологизации, утверждение которых есть лишь повод для налаживания общения. Примерно так же обстоит дело и с многообразием межкультурного опыта.
«Реально-сущим» оказывается и нормативно-идейный перенос, или нормирование знания. Примерами могут служить такие логические отношения, как закон противоречия или принцип непротиворечивости, обладающие необходимой, неотъемлемой функцией при организации пропозициональных истин. Эти концепции, по определению, нельзя опровергнуть или признать противоречащими какому-либо чувственно-ментальному опыту. В этом состоит необходимое антропологическое обоснование применимости математики и логики к социальному знанию.
Таковы три размерности «реально сущего», составляющие высший уровень реализуемости в феноменологии любой культуры. Их отрицание равносильно выходу из культуры, то есть представляет собой акт, качественно отличный от внутреннего переноса смысла.
Вторым уровнем феноменологии будет уровень «существования». Ему соответствует содержание такого опыта, которое устраняется реальностью предыдущего уровня, то есть «реально сущего».
Например, среди «отношений существования» формируется относительный опыт взаимодействия с другими лицами, в котором преобладают чисто конвенциональные либо чисто формальные моменты. Этот опыт должен уступить место более полному опыту взаимодействия людей не как «деятелей», не как «пучков конвенциональных ролей», а как личностей, субъектных центров, с признанием внутренней, а не только функциональной ценности каждого. Им подтверждается, что достижение более глубокого, жизненного уровня связей, вместо формально-конвенциональных, превращает систему социальных взаимодействий в подлинный организм, приближая понятие о каждом субъекте в ней к первому типу «реально сущего».
Среди «отдельных объектов», существование любого предполагает возможность рассматривать его как независимую реальность. Но эти объекты, с их непосредственностью, перестают восприниматься как подлинно реальные и автономные, если применить к ним метод идеальной типизации и разности по некоторым остаточным категориям. Объединенные категориальной взаимосвязью, они теперь будут пониматься лишь в отношении друг к другу. Так, все фундаментальные понятия экзистенциалистской философии и понимающей социологии (в том числе и категории действия М. Вебера) суть остаточные категории, в которых снято индивидуальное существование объектов и возведено во второй ценностный ранг «реально сущего».
Среди концептов «существующими» признаются те логические отношения, которые могут быть использованы в чисто формальной логической системе. Логические отношения, не обладающие свойством необходимости и функционирующие как чисто аналитические высказывания, могут быть заменены теми отношениями, которые обладают для умственного опыта достоинством необходимости (например, закон противоречия). По определению, формальные или «конвенциональные» отношения функционируют удовлетворительно лишь в замкнутых системах знания — логиках и математиках, с формализованными языками (см. теорему Гёделя). Это означает, что «существующее» знание реализуется лишь после [при]ведения его к третьему — идеационному типу «реально сущего». Третьим уровнем феноменологии будет уровень «кажимости», то есть субъективных действий, оценок и идеализаций, опровергаемых опытом двух предыдущих уровней. Его иллюзорность связана с реальной невозможностью некоторых внутрикультурных представлений, поскольку реализация осуществляется лишь за счет ратификации смысла традицией данной культуры, то есть метафорическим осмыслением по ее собственным критериям и уровневым масштабам. Идея, чуждая органичности культуры, ничем не отличается по своей реальности от «круглого квадрата». Она не представима в культурном естестве и может проникнуть в него лишь под покровом видимости, имитации какой-либо присущей в культуре идеи. Но, очевидно, такая «реальность» окажется заемной, что не преминет обнаружиться при непосредственном ценностном переживании. Однако для возникновения даже иллюзии всегда нужен субстрат, то есть какая-либо реалия на одном из культурных уровней, которая непременно и обнаружится при рассеянии кажимости инородной идеи. Как за явной функцией обнаруживается скрытая. Такая избирательность и живая чувствительность культуры, ее реалистический субъективизм — основной след длящейся традиции идеи человека, основной способ обнаружения его неуловимого облика. Ведь всякое содержание чувственно-ментального опыта, в котором сохраняется фундаментальное различие между субъектом культуры и ею как объектом, может быть подвергнуто сомнению и аннулировано за счет переоценки, ввиду его несовместимости с новыми формами опыта, испытанного человеком, обращающимся от этого содержания к другим объектам, более достойным его внимания. Как свидетельствует человеческий опыт, всякое суждение о феноменах культуры, всякий опыт, вера или идея, которые могут быть представлены умом как порождения внешних причинных условий, связаны с временными ограничениями и могут быть в принципе фальсифицированы будущим опытом. Опыт субъекта (то есть культуры), не достигшего реализации, может быть опровергнут качественно иным опытом.
Каждая культура приобрела такое свойство, такую повадку реализации, отразив в своем стремлении динамику человеческой идеи. Поэтому ответ на вопрос о человеке способна дать не одна культура, а совокупность возможных типов культурных традиций.
Источник: Зильберман Д.Б. К пониманию культурной традиции / Науч. ред. О.И. Генисаретский. М.: ННФ «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого»; Политическая энциклопедия, 2015. С. 322–333.




Комментарии