Дайана Брук
Оттаивая
О литераторах без литературы: русская проза и поэзия ХХ века в американских университетах
 1 898
1 898 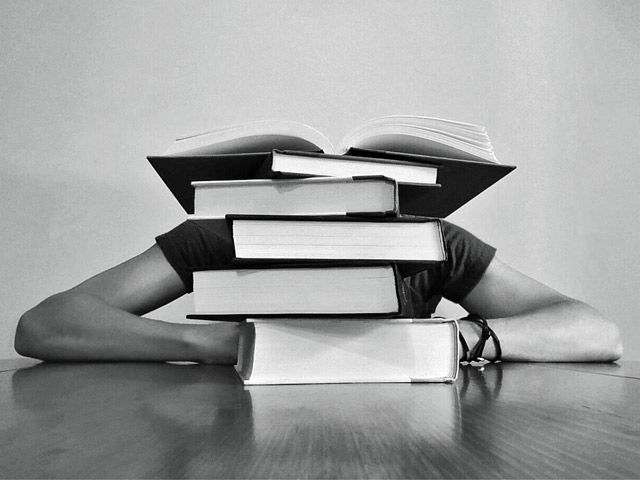
Почему в американских университетах так мало курсов по советской литературе?
Когда я оканчивала магистратуру по сравнительному литературоведению в Оксфорде, я то и дело сталкивалась с любопытным упущением: если большинство моих британских коллег были знакомы, нередко еще со школьной скамьи, с творчеством, по крайней мере, нескольких великих писателей советского канона, то мои столь же образованные американские друзья о них ничего не слышали. Чем больше я просматривала курсы американских университетов, тем больше мне в глаза бросалось отсутствие в них советской литературы — я имею в виду общеизвестную классику, написанную в период между революцией и смертью Сталина и обильно публиковавшуюся в годы хрущевской оттепели. Есть, конечно, и исключения — Стэнфордский, Пристонский, Йельский, Вашингтонский и еще несколько других университетов, известных своими факультетами русской литературы. И все же большинство вузов, особенно колледжи свободных искусств, сосредоточивается на русском романе XIX века, а потом сразу перескакивает к Набокову или даже к послеперестроечной литературе.
Это отсутствие показалось мне странным, особенно учитывая литературные пристрастия самóй читающей русской публики. Образованные русские на словах превозносят великих — все тех же Толстого и Чехова с Достоевским, но попросите их назвать любимого писателя, и большинство упомянут кого-нибудь из обитателей этого изолированного литературного острова. Назовут Маяковского, этого милого мачо от футуризма, чья громоподобная поэзия ввергала слушателей в обостренные состояния сознания; или Ахматову — поэта-акмеиста, что немногословно, но эмоционально исследовала великого уравнителя человечества — страдание. Назовут Пастернака, чей роман «Доктор Живаго» многие американцы ошибочно считают историей трагической любви между мужчиной и женщиной, когда на деле это история трагической любви между мужчиной и революцией. Хотя в России Пастернака больше любят за его стихи, особенно его сумасбродно экспериментальный сборник «Сестра моя — жизнь». Еще есть лирический настрой Платонова и сатира Солженицына. Есть Бунин, Мандельштам, Цветаева, Зощенко, Бабель, Берггольц, Замятин, Белый, Булгаков и целая плеяда других светил, чьи имена почти исчезли из университетских программ.
Что это — затяжной эффект Холодной войны или симптом тенденции нашей культуры изолировать себя от всего, чего мы боимся или не понимаем? Я вспоминаю испуганные взгляды людей тем летом, когда я, 19-летняя, решила прочитать «Майн Кампф». Они беспокоились, что это отрицательно скажется на моем созревшем, но еще податливом юном уме, — и эта забота меня раздражала, поскольку я давно считала нашим моральным долгом препарировать самые гнусные события истории, используя литературу как своего рода скальпель. Я подумала: не были ли страх и презрение к советскому угнетению причиной того, что эта литература до сих пор хранится за закрытыми дверями?
Увы, пообщавшись с более чем дюжиной профессоров именитых американских вузов, я обнаружила, что мою изысканную теорию разрушил куда более простой ответ: в американских университетах не преподают советскую литературу, потому что американские студенты не проявляют к ней большого интереса. Все преподаватели, с которыми я переписывалась, утверждали, что в 60-е университеты были переполнены курсами по советской литературе, но интерес начал угасать, как только Россия перестала быть Империей зла. По словам Присциллы Мейер из Уэслианского университета, с 1991 года набор на курсы по русистике упал на 40 процентов, особенно на факультете советологии. Как сказала Дарра Гольдштейн из Уильямс-колледжа, если студенты хотят изучать русский, то они, вернее всего, предпочтут «большие имена» вроде Толстого и Достоевского писателям, принадлежащим к, как им кажется, «далекому прошлому». Адам Уайнер же из Уэллсли посетовал, что «студенты упускают много замечательных книг, но как же может профессор вроде меня затащить их в аудиторию и заставить изучать то, в чем они видят литературный аналог птицы додо?»
С одной стороны, такая холодность со стороны студентов вполне логична. И хотя всех упомянутых выше авторов беспокоили великие вопросы души и человеческого существования, писатели вроде Толстого и Достоевского принадлежат к общемировой культурной традиции, и не нужно хорошо знать исторический контекст, чтобы понять или оценить их творчество, тогда как советские писатели полностью погружены в свою историческую обстановку. Это меня и влекло в таких авторах; мне хотелось вчитываться в книги, чтобы лучше понять эту увлекательную и сложную эпоху. Нынешних же студентов, похоже, интересует в литературе не столько исторический фокус, сколько связанные с ней удовольствия. Сибелан Форрестер из Суортмор-колледж наряду с другими отметила, что такую литературу проще «упаковать» тематически, нежели исторически, выбирая для курсов названия попривлекательней, вроде «Ангелов смерти» или «Литературы за решеткой». Открыв для себя советских писателей, студенты часто влюбляются в их творчество, но поймать их на этот крючок теперь сложно, как никогда.
Это открытие неизбежно наталкивается на непростой вопрос: зачем мы преподаем литературу? Чтобы пролить свет на историческую эпоху? Чтобы деконструировать технические основы ремесла? Чтобы затронуть глубокие экзистенциальные вопросы? Чтобы предаться тому самому набоковскому «эстетическому блаженству»? У всех этих подходов есть свои преимущества, и советская литература располагает к любому из них, но, похоже, сегодняшние студенты, особенно в колледжах свободных искусств, отдают решительное предпочтение последнему.
От изучения этих книг удерживает и то, что многие из них гораздо сложнее своих литературных предшественников. «Петербург» Белого, например, — это шедевр, который многие критики считают предтечей постмодернистского романа, но это литературный монстр, до конца понять который может лишь лингвистический и математический гений. Помимо технических моментов, эти книги трудны еще и потому, что не вписываются в четкий бинарный способ мышления, когда Советский Союз — это значит плохо, а демократия — хорошо. В действительности, больше всего очаровывает в этом жанре то, как даже известные диссидентские тексты амбивалентны по отношению к советскому режиму. К примеру, «Доктор Живаго» документирует трагедию и зверства Гражданской войны и все же в своей мрачной поэтичности почти благодарен ей, ведь, лишь перенося жестокость, мы можем по-настоящему оценить доброту, лишь сталкиваясь с уродством, мы по-настоящему оценим красоту и лишь через отчаянье по-настоящему оценим радость. В «Одном дне Ивана Денисовича» Солженицын бичует жестокую бессмысленность и ненужные страдания ГУЛАГа и при этом воспевает дисциплину и трудовую этику, которые тот порождает; поскольку человек по своей природе ленив и порочен, рассуждает он, быть может, есть польза в том, чтобы кто-то заставлял тебя наиболее продуктивно быть собой. А в «Котловане» Платонов осознает, что наивные идеалы революции — лишь мерцающая иллюзия, и в то же время видит, что эта фантазия приносит людям радость. Чтобы уловить в книгах эти нюансы, важно отказаться от идеи, что коммунизм — это однозначно плохо, а демократия — однозначно хорошо; эту бинарность большинство студентов неизбежно унаследовали после Холодной войны.
И есть последняя очевидная проблема — здесь как никогда силен языковой барьер. Большинство курсов по советской литературе, что я обнаружила, особенно посвященные поэзии, требует беглого владения русским языком, что неудивительно: эта литература, в особенности ранняя, — сплошь об экспериментах со стилем и структурой, она разваливала сущности слов и передвигала их, как частицы пазла, в ней смысл выражался металитературно, а язык становился осязаемой и визуальной формой искусства. Это делает ее во многом непереводимой — столь многое зависит от игры слов, жаргона и синтаксиса, неустранимых из родного языка.
Но появились новые улучшенные переводы, что обнадеживает профессоров. Форрестер полагает, что, если правильно выстроить «маркетинг» — упаковывать эту литературу в тематические курсы и выявлять исторический контекст отдельных произведений, — можно увеличить набор студентов. И если политические отношения Америки и России продолжат ухудшаться, вполне возможно, что мы увидим всплеск интереса, сравнимый с советским периодом. По крайней мере, это будет то добро, без которого не бывает худа.
Источник: The Paris Review




Комментарии