История — на сцене вместо книги. Беседа Кирилла Кобрина с Михаилом Калужским
Исторический профессионализм непрофессионалов? К постановке вопроса
 1 899
1 899 Новый выпуск (20 ноября 2015 года) совместного проекта Gefter.ru и информационного ресурса «Настоящее время». Цикл историка Кирилла Кобрина «История времен Владимира Путина».
Публикуем отредактированную расшифровку видеобеседы.
В Лондоне конца XVI — начала XVII века большинство людей не читали исторических «Хроник Англии, Шотландии и Ирландии» Рафаэля Холиншеда, напечатанных в трех томах в 1577 году. Тем не менее, многие из описанных там событий стали известными лондонской публике благодаря театру. Драматург и актер Уильям Шекспир, опираясь на Холиншеда (и некоторые другие хроники), сочинил несколько пьес, где так или иначе трактовались исторические события. Так была заложена эта характерная для европейской культуры Нового времени традиция — временной замены истории театром, где говорят об истории. О том, как эта традиция воплотилась в сегодняшней российской культуре и жизни, и пойдет речь в этой беседе.
Когда профессиональные историки не справляются со своей работой — или голос их по каким-то причинам плохо слышен в обществе, — память о прошлом может реализоваться в самых неожиданных сферах культуры. Довольно часто роль историографии начинает играть кино — или даже театр. Такое происходит сейчас в России, где мало кто интересуется новейшей историей. Для того чтобы исправить эту несправедливость, восстановить недостаток исторического знания в общественном организме, в дело несколько лет назад вступил жанр так называемого «документального театра». Один из известных деятелей этого направления — Михаил Калужский, журналист, драматург, руководитель театральной программы Сахаровского центра. Сейчас у Калужского новый проект, чисто исторический. Его тема — Чаинское восстание спецпереселенцев 1931 года. Это совместный проект — под эгидой Томского исторического музея.
Кирилл Кобрин: Михаил, сейчас сложилась довольно странная ситуация с историческим знанием. С одной стороны, книгоиздание на исторические темы процветает. Мы видим огромное количество работ, книг, которые условно можно назвать «историческими», на лотках, в магазинах, на книжных ярмарках, — хотя, конечно, большинство из них представляет собой специфическую продукцию вроде «Юмора вождя народов» или истории, как древние русы победили Александра Македонского. Но, тем не менее, мы видим, что по крайней мере интерес к прошлому есть, что существуют и нормальные издательства, которые выпускают нормальные книги об истории, что существует целая индустрия исторических программ на телевидении, радио, специальные сайты, образовательные порталы вроде «Арзамаса», «Постнауки» и других. Есть школы, университеты, научно-исследовательские институты, где так или иначе занимаются историей.
Но, с другой стороны, общество чудовищно невежественно в истории. Я не стал бы, конечно, преувеличивать это невежество: если поговорить со средним жителем Австрии, Франции или Соединенных Штатов Америки, уровень познаний о прошлом будет не столь высок. Но, тем не менее, склонность к очень странному конспирологическому представлению о прошлом и к очень перевернутому, вопреки здравому смыслу, знанию истории — характерная черта нашего времени.
Я хотел бы после такой долгой преамбулы обсудить вот что. Насколько я понимаю, театр (особого рода театр) берет на себя эту функцию — историко-просветительскую. Помимо эстетической функции, помимо политической функции, безусловно, но также и функцию просветительскую. В частности, вы связаны с проектом, который прямо имеет отношение к истории и, можно сказать, работает с историей. Давайте сразу начнем как бы с двух тем, а потом посмотрим, какая из них победит: тема театра и истории сегодняшней России — и тема вашего проекта.
Михаил Калужский: Мне уместнее говорить не о театре вообще, а о той специфической и очень популярной в последнее время сфере театрального искусства, какой стал документальный театр, которому в этом году как явлению исполнилось 90 лет. Я имею в виду первый спектакль Эрвина Пискатора «Несмотря на все это» (Trotz alledem!) , который был поставлен в Берлине в июле 1925 года. Прошло 90 лет, и документальный театр живет в разных формах и становится все более и более популярным.
Самое существенное то, что такой театр претендует на работу с источником. Источники могут быть разными, это могут быть исторические документы, это могут быть неисторические документы, это могут быть живые свидетельства, те интервью, которые мы берем у наших респондентов, прототипов наших героев.
Мне кажется принципиальным в более общем контексте уточнить, чтобы не впадать в ту же самую ересь псевдоисторического знания и псевдоисторического потребления, что такой театр, конечно, работает не только и не столько с историей, сколько с исторической памятью, с культурной памятью. Он и есть форма коммеморации. Но мы понимаем, что коммеморация — это совсем не то, что историческая наука. Я бы еще сказал, что документальный театр, касаясь исторической проблематики, работает не столько с зоной истории, то есть с тем, что мы помним, а с зоной того, что мы забыли. Он работает с амнезией. И это принципиально, потому что, как мне представляется, мы можем с этой амнезией работать только художественными средствами, только через аффект.
К.К.: Здесь сразу возникает несколько вопросов. Я даже выразил бы некоторое несогласие.
Да, безусловно, театр работает с такой памятью. Но в любом историческом исследовании есть источники — в противном случае, оно не является историческим исследованием. Без источников нет истории, как говаривали еще в конце XIX века. Но ведь без источников нет и документального театра этого рода, и это очень важно. Все-таки документальный театр, насколько я понимаю, работает с документами, иначе бы он не был документальным?
М.К.: Я бы задал ответный вопрос: а с чем работает устная история? Мы же прекрасно знаем: то, что мы называем oral history, — это скорее методика сбора свидетельств, и мы не претендуем на то, что те воспоминания, которыми респонденты делятся с учеными или, в моем случае, с драматургами, будут претендовать на то, что они могут стать источником исторического знания.
К.К.: Они, в частности, могут стать источником исторического знания, если их добавить еще к каким-то источникам. Речь идет о выборке и о принципах этой выборки.
Для историка важна наиболее репрезентативная выборка, как говорят социологи. А для театра — хотя я, конечно, ничего не понимаю в театре, но я могу представить, — наверное, важна выборка, наиболее эмоционально, наиболее экзистенциально окрашенная, более всего способная вызвать переживание драматического свойства; иначе театр не театр. Понятно, что и выборка другая, и работают историки с режиссерами документального театра по-разному.
Но, тем не менее, все-таки я бы обратил внимание на то, что, в отличие от псевдоистории, в отличие от всего, что заполонило сейчас книжные полки и стало чуть ли не мейнстримом представления о прошлом в России, в отличие от всех этих псевдоисториков, и настоящие историки, и документальный театр действительно работают с документами. По-настоящему работают — другое дело, что они выбирают их по-разному и по-разному их используют. Но я бы все-таки наметил здесь точку, как бы объединяющую эти две вещи.
М.К.: Да, именно так. Более того, я считаю, что (и это мы обсуждали с некоторыми из моих коллег, которые тоже занимаются в документальном театре прошлым, в первую очередь недавним прошлым) это отличный способ эмоциональной, суггестивной репрезентации совершенно нового материала — материала, который прежде не был представлен в общественном дискурсе. В этом смысле я действительно стараюсь поступать, может быть, как историк или как публицист, для которого принципиально предъявить обществу какие-то новые документы или новые свидетельства о том или ином событии, о том или ином периоде, о том или ином способе проживания истории, который прежде не был известен.
К.К.: Помимо всего этого еще важна вот такая штука. На самом деле тот проект, которым вы занимаетесь (мы сейчас к нему переходим), ведь выполняет еще одну, и я бы тут сказал, не свойственную для театра функцию. Дело в том, что в данном случае он выступает еще как замена «нормальной истории», или я не прав?
М.К.: Абсолютно. Но, с другой стороны…
К.К.: Тогда расскажите, о чем идет речь.
М.К.: Маленькое замечание: трудно сказать, что сегодня не свойственно театру. Сегодня театру свойственно все — вплоть до отсутствия актера на сцене. Я разговариваю с вами из Томска, где сейчас работаю над проектом, который носит рабочее название «Чаинское восстание». Сам проект, который был придуман местным Томским областным краеведческим музеем и поддержан Фондом Потанина, называется «Чаинское восстание (опыт документального театра в музее)», и главным событием, о котором пойдет речь в этом проекте, стало само восстание в Чаинском районе тогда Западно-Сибирского края. Это было летом 1931 года. Восстание подняли спецпереселенцы, то есть по советской агрессивной терминологии кулаки, их отправили, как в известной песне Высоцкого, из Сибири в Сибирь. Их выселили из южных, климатически и экономически более благоприятных районов Сибири, сейчас это Алтайский край и Новосибирская область, в болота и тайгу того региона, что сейчас стал Томской областью, в места, совершенно неприспособленные для жизни. Их отправляли туда семьями с маленькими детьми. Иногда родителей и детей разделяли, и дети приезжали позже, иногда эти дети оказывались в детских домах. Спецпереселенцы оказались в местах, в которых просто трудно жить, их еще очень плохо снабжали. Все это привело к тому, что в конце июля 1931 года они подняли восстание, которое в историографии называется Чаинским восстанием.
Это было значительное событие, восставших было больше тысячи человек; но в силу самых разных обстоятельств этот довольно важный эпизод истории был плохо описан, как историками, так и публицистами. Два дня назад я и мои томские коллеги ездили в тот район, где происходило восстание. Там мне было важно посмотреть на то, как он выглядит, что это за ландшафт, как устроена топография этого региона.
Но кроме того, как бы это ни было удивительно, живы очевидцы. Например, я разговаривал с 93-летним Павлом Петровичем Барминым, который, несмотря на свой преклонный возраст, находится в полном уме и ясной памяти. Ему было восемь лет, когда происходило восстание, он сам из семьи спецпереселенцев, и он кое-то помнит. Кроме того, мы с сотрудниками Томского краеведческого музея говорили с другими очень пожилыми людьми из семей спецпереселенцев, которые сами не могут помнить этого восстания, но у них сохранилась семейная память о том, что происходило.
И я понимаю, что, описывая это все, я уже говорю о том, с какого рода источниками придется работать и какого рода будет текст. Пока трудно сказать, как он будет воплощен сценически, у нас для этого есть несколько месяцев, премьера должна состояться ровно через год — в сентябре 2016 года, как раз будет 75 лет восстанию. Такие у нас разнородные источники.
К.К.: Не чувствуете ли вы какой-то тяжести, даже разочарования от того, что вы, театральный деятель, выполняете работу других людей, говоря по-простому. Ведь, с одной стороны, в России бесконечно говорят о нашем «прекрасном», «великом прошлом» или «интересном прошлом», «замечательном прошлом», «выдающемся прошлом» и так далее, говорят о том, что «история определяет все в России». Но, с другой стороны, при этом, за что ни возьмешься, ничего нет — нет исторического повествования, даже на самом примитивном описательном уровне, об огромном количестве событий в «низовой истории», в региональной истории, да и в истории государства тоже.
В результате получается, что масса людей других профессий, занятых другими вещами, вынуждены брать на себя, скажем так, бремя работы историков. У вас нет даже не недоумения, а раздражения: ну почему же, где же они, эти историки, где краеведы, где все, почему они этого не делают?
М.К.: Да, я не режиссер и не драматург по образованию. Я филолог, который занимался журналистикой и который пришел в документальный театр в поисках нового медиума для того, чтобы представить обществу тот самый пока неизведанный материал. Да, иногда мне дискомфортно, потому что у меня нет достаточного образования в этой профессии, но я не чувствую себя выполняющим чужую работу. Зато я знаю, чего мне не хватает. Я уже общался с томскими краеведами, историками, работал в архиве. Но мне, конечно, не хватает полноценного профессионального исторического подхода, который задал бы широкий контекст. Увы, таких книг не очень много, таких статей не очень много, что-то публиковалось в 1990-е, а сейчас не то чтобы совсем ничего, но очень мало публикуется. Мне не хватает глубоких исторических текстов о том, что происходило в Западной Сибири в начале 1930-х годов; и это тот дефицит, который я не смогу ничем восполнить.
Но мне мое место кажется логичным, потому что документальный театр, тем более работающий с исторической памятью, с историей, — это такая сфера, да простится мне эта банальность, которая междисциплинарна, и здесь могут оказаться самые разные люди. Этот театральный проект делает музей, что само по себе нестандартный ход. Мне кажется, это очень точный ход со стороны музея, потому что здесь мы имеем дело с историей — и не только в значении history, но и story. В Томском краеведческом музее люди прекрасно понимают, что музейный предмет в традиционном значении более или менее себя исчерпал и нужно рассказывать истории. Исторический нарратив не может существовать в виде экспонированных в витринах селькупских луков или браунингов большевиков. Здесь нужны какие-то другие формы. Поэтому мне представляется оправданным этот рискованный, но очень уместный эксперимент — сделать site-specific (не знаю, как сказать по-русски, но в театральном мире только так и говорят) спектакль, который бы существовал только в музейном пространстве.
Год назад Томский краеведческий музей сделал выставку и интернет-проект под названием «Сибиряки вольные и невольные». Этот проект работает с мифом о том, что все мы, сибиряки, потомки ссыльных, — что, конечно, не так. История про Чаинское восстание — своего рода сиквел этого проекта.
Мне кажется, что в этом пространстве, где работает выставка «Сибиряки вольные и невольные», вполне может жить такой спектакль.
К.К.: Я думаю, что мы закончим беседу таким предположением: то, что раньше было исключением или временной заменой, — я говорю о ситуации, когда театр вроде бы временно заменяет другие виды культурной деятельности, вроде историографии, — видимо, сейчас мы наблюдаем развитие новых/старых (если вспомнить еще Шекспира) способов в процессе создания представлений о прошлом, переживания прошлого. Это исключительно интересные процессы, и мы живем, как мне кажется, в этом смысле в исключительно интересное время. Спасибо.
М.К.: Спасибо. Это увлекательный процесс, и хорошо находиться если не внутри него, то по крайней мере рядом с ним.


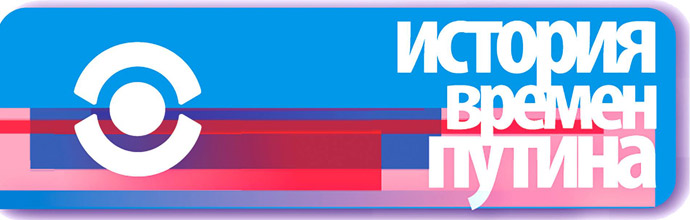


Комментарии