Дина Гусейнова
Война и империя в оптике транснациональной истории
История одного превращения: как прусский граф стал гражданином мира
 4 621
4 621 
© Schimmelpenninck. Gestaltung
Гарри Граф Кесслер (1868–1937)
От автора: Благодарю Татьяну Некрасову (исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) и Германский исторический институт в Москве за приглашение на семинар «Методы и тенденции европейской историографии», который предоставил мне возможность обсудить материалы этой статьи с новыми коллегами и студентами.
«Я увидел крестьянский дом, а в трех или четырех метрах от него траншею австрийцев, а в тридцати метрах, слева […] было укрытие русских, из которого русские входили и выходили. На соседнем поле между траншеями австрийцев и русских маленькая девочка пасла овец. Пока мы на них смотрели, одна из наших гранат ударила прямо рядом с укрытием, и мы увидели, как русские стали быстро выбегать оттуда» [1].
Так лаконично в своем военном дневнике граф Гарри Кесслер, офицер Прусской армии, описывает свои переживания на фронте. 18 февраля 1915 года он находится в Галиции, провинции Австро-Венгрии, по западной границе которой проходит линия восточного с точки зрения Германии фронта. Но 25 февраля он уже в Вене — по дороге в Берлин, куда он отправляется в надежде на усиление своих войск. В разговоре Кесслера со старым приятелем, поэтом Гуго фон Гофманнсталем, выясняется, что Австрия все еще считает себя великой державой: несмотря на потери на двух линиях фронта против российских и итальянских войск, Франц Иосиф и его подданные продолжают мечтать о великой Австрийской федерации, к которой после войны, помимо Венгрии, хотят присоединить российскую часть Польши и Галиции, создав третье отдельное королевство под эгидой Габсбургов.
По возвращении на фронт Кесслеру становится все яснее, что разговор о расширении территории — это мечтания поэтов уже прошлого века. Сама Австро-Венгрия — что ясно уже в 1915 году, когда еще жив Франц Иосиф, — вряд ли переживет этот конфликт. Кесслеру не нравится, что самый молодой из ее ведущих поэтов, Райнер Мария Рильке, тоже, кстати, его знакомый, бросает службу в отделе пропаганды в самый разгар событий на восточном фронте и становится пацифистом. Он покидает Австрию, становится, как многие в это время, человеком без подданства и пишет меланхолические элегии, в том числе, о замке Дуино на адриатическом побережье, который как раз обстреливает итальянская артиллерия. Сам Рильке при этом восторженно отзывается о письмах с фронта, которые наряду с десятком немецкоязычных друзей получает от Кесслера: ему они напоминают военную прозу Толстого, с которым его когда-то до войны, когда он работал над немецким переводом «Слова о полку Игореве», познакомила подруга Лу Саломе. Однако Кесслер в свободное от службы время предпочитает читать более агрессивные стихи Георга Гейма и аллегорическую микропрозу Франца Кафки. У Гейма в феврале 1916 года он читает как будто пророческие стихи 1912 года:
Во тьме столпившись, люди ждут рассвета,
Но бросить взгляд на небеса им страшно:
Там грозные проносятся кометы,
Там нависают каменные башни.
Лишь звездочеты, в небо вперив трубы,
Сидят на крышах, затаив дыханье,
Да колдуны на чердаках сквозь зубы
Своей звезде бормочут заклинанья.
И вот из тех домов, что опустели,
Болезни выползают вереницей —
Одни на окровавленных постелях,
Другие же на черных колесницах [2].
Самого Кесслера в экспедиции за линию фронта сопровождает молодой шведский этнограф Свен Хедин, который интересуется всем: от строительства деревянных церквей Галиции до жестов и наречий ее населения. Последним реставрацией этих мест интересовался сам эрцгерцог Франц Фердинанд, но за годы войны профессия этнографа стала набирать более широкие обороты.
К марту 1916 года Кесслер станет одним из многих европейцев, страдающих от невроза вследствие пережитого на фронте. В дневнике о его психическом состоянии говорит только обрывочный стиль, пробелы между тем, что написано, нежели написанное. 11 марта 1916 года, констатирует Кесслер в городе Ковель Волынской области, «были повешены те шесть молодых людей, которых мы недавно видели в тюрьме. Один так вцепился зубами в веревку, что пришлось принести вторую веревку. Укусил жандарма, который должен был его вешать, в руку». 16 марта, пишет Кесслер, его поезд прибыл в Берлин, с опозданием в полчаса.
На этом военные действия для него заканчиваются. Предстоит работа культурным атташе в германском посольстве в Берне. Там, в Швейцарии, Кесслер вновь встретится с многими из тех, кого незадолго до этого обвинял в пацифизме. С его помощью с фронта вернутся поэты и художники, которые, являясь поклонниками русской культуры и духа радикально нового, революционного искусства, активно займутся переводами стихов и сюжетов классической и новой русской литературы. У Кесслера появится новая кличка: «Красный граф». В своем издательстве «Кранахпрессе» — реликт предвоенной эпохи — на бумаге ручного отлива, которую он изготавливал совместно со скульптором Аристидом Майолем, он напечатает «Письма с фронта» с иллюстрациями молодого пацифиста Георга Гросса, которому покровительствует.

Harry Graf Kessler (ред.), Krieg und Zusammenbruch 1914/1918. Aus Feldpostbriefen (Weimar: Cranachpresse, 1921). Благодарю Сабину Карбон (Sabine Carbon, Harry-Graf-Kessler-Gesellschaft Berlin) за возможность репродукции этого издания [3]
Не будь исторической уверенности в том, что граф Гарри Кесслер (1868–1937) действительно существовал, его без сомнения следовало бы придумать. Одна мысль, что мог существовать человек, который в течение своей жизни регулярно встречался на завтраке с Андре Жидом, Аристидом Майолем и Эдвардом Мунком, обедал с премьер-министром Британии Артуром Бэлфором и Бернардом Шоу, а кутил в берлинских барах вместе с Есениным и Айседорой Дункан, успев при этом в один солнечный августовский день 1900 года закрыть глаза умершему Фридриху Ницше, — невероятна. Для Кесслера типичен цикл ассоциаций, при котором он открывает связь между различными сферами исторического опыта ключом собственных переживаний. В данном экскурсе триггером этого процесса становится сообщение о трагической гибели Айседоры Дункан:
«Париж. 15 сентября 1927 г. Четверг.
Несчастную Айседору Дункан вчера вечером в машине задушила ее собственная шаль, которая застряла в заднем колесе. Трагически-судьбоносная смерть: шаль, которая в танце была столь важной частью ее искусства, принесла ей смерть. Ее реквизит и раб отомстили ей. Редко бывает, чтобы художник был обвит подобным трагическим духом и погиб по воле собственной судьбы: ее маленькие дети тоже погибли в автомобильной катастрофе, ее муж Есенин покончил жизнь самоубийством, а теперь она сама убита руками собственного реквизита, будто из мести. Вечером, перед смертью ее детей, я был в ее ложе в русском балете; она пригласила меня на следующий день на завтрак в Нейи, но мне пришлось отказаться, потому что в зале был Герман Кейзерлинг, и я с ним уже договорился о встрече. Детки должны были танцевать передо мной после завтрака. У меня всегда было такое чувство, что и здесь судьба сыграла свою роль: дети не погибли бы, согласись я прийти на завтрак. Бедная Айседора: вначале я не ценил ее как танцовщицу, она казалась мне слишком игривой, дилетанткой, образованческой филистимлянкой… Позднее, когда она пригласила меня в Нейи и танцевала передо мной, и я выразил ей свое откровенное восхищение, она ответила мне на своем американско-французском (в котором было своеобразное родство с ее калифорнийским пониманием греческого искусства): “Да, когда вы меня видели, я не умела танцевать: но сейчас!..” … Бедная Айседора! Она освободилась от чего-то мелкобуржуазно-учительского, точно так же, как своими идеями о свободной любви и выборе отца для детей пыталась преодолеть в своем искусстве пуританско-американскую узость. И все же она была художницей, и ее буржуазная судьба, искусство и трагизм были неотделимы друг от друга, как от нее самой — ее собственная калифорнийская чопорность… Без нее невозможно представить себе танец как большое искусство, каким мы его сегодня знаем, и русский балет тоже. Она посеяла семена, которые сейчас проросли. Ее смерть могла бы послужить эскизом для “Танца смерти” Гольбейна.
Жак позавтракал со мной в Кафэ де ла Пэ, и после обеда я поехал обратно в Довиль» [4].
Приход на завтрак в кафе под названием «Мир» или отказ от него для Кесслера оказывается судьбоносным событием в том же смысле, как, по Клейсту, взмах крылом немецкой бабочки можно назвать причиной землетрясения в Китае. В контексте парижского кафе понятие «мира» в толстовском, социологическом значении этого слова обретает сугубо элитарную окраску. При этом навязывается вопрос: если Кесслер действительно был: а вдруг Аристид Майоль, Ницше и Айседора Дункан — всего лишь придуманные им персонажи? К счастью, граф освободил нас от необходимости придумывать себя: в его подробном дневнике запечатлены встречи и диалоги с современниками, взгляды на мир, подробности жизни и быта и т.д. — перед нами калейдоскоп времени с именным указателем в сорок тысяч персон. Группа исследователей при Марбахском литературном архиве — немецком эквиваленте РГАЛИ — опубликовала их в девяти томах [5]. Также существует несколько хорошо продаваемых биографий Кесслера, на немецком и английском [6]. Все эти публикации вновь пробудили интерес к графу, как казалось, выпавшему из немецкой исторической памяти.
Так кем же был граф — всего лишь «свидетелем своего времени», как писал его приятель, поэт W.H. Auden? Да, и свидетелем тоже. Для одних Кесслер был только дипломатом. Проучившись на юридическом факультете в Боннском, Лейпцигском и Берлинском университетах, провел несколько лет в Америке, Англии и, не дождавшись высокого дипломатического поста, некоторое время занимался организацией выставок в Германии [7]. Первая мировая война обернулась для него удачей: после того как он прослужил офицером улан-гвардейцев на восточном фронте, его в 1916 году назначили культурным атташе при немецком посольстве в Берне, где он пробыл до 1918 года. К концу войны Кесслеру поручили ответственное задание по выводу немецких войск из Польши (и созданию лояльной Германии польской республики), и он отправился со своим штабом в Варшаву. С первой задачей Кесслер справился, вторую решить не удалось, хотя у него остались наилучшие воспоминания о Пилсудском, которого Кесслер лично освободил из Магдебургской тюрьмы [8].
Для других Кесслер — покровитель искусств [9]. Именно он открыл немецкой публике Эдварда Мунка, спас Аристида Майоля от разорения в начале его карьеры, явился, наряду со своим приятелем, галеристом Паулем Кассирером, одним из главных инициаторов выставок импрессионистов в Германии. Он финансировал первые проекты братьев Херцфельде, один из которых, под псевдонимом Джон Хартфилд, сегодня наиболее известен своим коллажем, на котором изображен Гитлер с позвоночником из долларовых монет.
Для третьих, особенно к середине 1920-х годов, Кесслер был немецким политиком, одним из кандидатов в парламент от Немецкой демократической партии, от имени которой выступал тогда на массовых демонстрациях. Он был одним из основателей (и спонсоров) нового политического журнала Die Deutsche Nation [10]. Он также финансировал ряд других журналов, пацифистские Die weißen Blätter и ряд других политических инициатив, прежде всего — Немецкую лигу прав человека с ее культовой фигурой Людвигом Квидде, был президентом Немецкой молодежной ассоциации и членом нескольких политических кружков, которые возникли одновременно с Веймарской республикой [11]. Его усилия были направлены на реформу только что созданной Лиги наций [12]. Ему казалось, что Лига должна стать союзом не столько государств, сколько международных организаций, конфессий, промышленности, корпораций и прочих групп, которые представляют реальные интересы, а не играют в политику ради чистого влияния.
Вероятно, больше всего Кесслеру польстило бы определение его как художника, писателя и мыслителя, так как и в этих областях он оставил заметный след. Наиболее известный его вклад в искусство связан с сотрудничеством с австрийским писателем Гуго фон Гофманнсталем [13]. Либретто оперы Рихарда Штрауса «Кавалер роз» было написано ими совместно, хотя Гофманнсталь не считал Кесслера соавтором, а лишь указал в издании либретто на его участие (Кесслер был оскорблен этим, ибо считал, что драматургическая структура произведения была делом именно его рук). Кесслеру принадлежит и сценарий балета «Легенда об Иосифе», который в Париже танцевал Нижинский в канун Первой мировой войны. Но его главный шедевр — описание собственной жизни, начиная не предназначенными для публикации дневниковыми записями и заканчивая воспоминаниями о матери, о Пилсудском, о поездке в Америку и о своем поколении, кумиром которого был Ницше [14]. Кроме того, Кесслер был автором ряда эссе о современном искусстве и «автобиографической» биографии Вальтера Ратенау, с которым был знаком. Пожалуй, именно за эту биографию он добился главного признания от современников [15]. Наконец, в 1913 году он основал собственное издательство «Кранахпрессе», книги которого и по сей день считаются выдающимся достижением полиграфического искусства своего времени. В 1930-е годы Кесслер интересуется историей русского народовольчества, особенно Иваном Каляевым, и пишет набросок для одноименной пьесы. Источником становится историк Владимир Бурцев, который, как и Кесслер после прихода к власти национал-социалистов, живет в эмиграции в Париже. Но фрагмент остается незавершенным, Кесслер в 1937 году умирает во Франции, а сюжетом о Каляеве — «справедливом террористе» — прославится уже после Второй мировой войны другой писатель, Альбер Камю [16].
В целом жизнь Кесслера, как и всей эпохи до начала Второй мировой войны, была если не трагичной, то грустной. Из тех нескольких тысяч выдающихся личностей, с которыми граф был знаком лично, лишь немногие, как вспоминал Андре Жид, удосужились прийти на похороны графа на кладбище Пер Лашез в ноябре 1937 года. После того как Кесслеру не удалось попасть в парламент германской республики в 1924 году, он, разочаровавшись в политике, занялся писанием мемуаров — о себе, современниках и довоенном времени, которое ему, как и многим его сверстникам, представлялось ушедшей эпохой [17]. Вопрос «Что делать?» заменился вопросом «Как это было?».
Новый интерес к его творчеству у историков возник, в том числе, в связи с так называемым «транснациональным» поворотом в историографии. Для человека, который хочет понять историю конца XIX и первой половины XX века с точки зрения европейского общества, Кесслер может послужить своего рода Вергилием в путешествии по кругам этого смертоносного водоворота [18]. При этом читатель XXI века обладает еще и дополняющими воображение вспомогательными средствами. Например, на сайте http://www.europeana1914-1918.eu легко находится примерно та картинка, которую видел граф Кесслер через свой перископ.
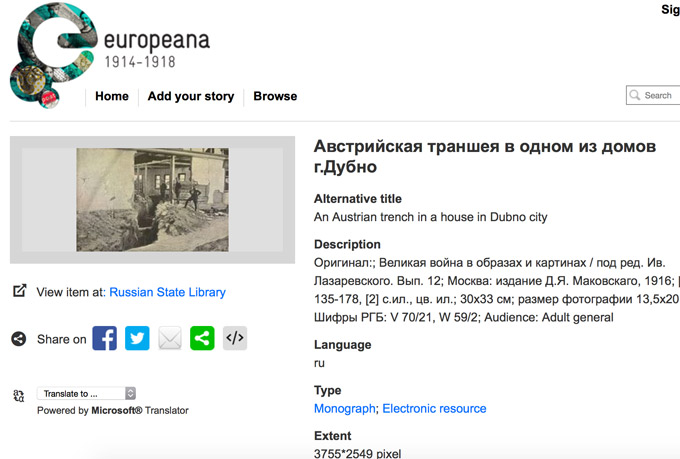
Картинка, взятая из сборника «Великая война в образах и картинах» (ред. Ив. Лазаревского. Вып. 12; М.: Издание Д.Я. Маковскаго, 1916), висит на сайте о войне, которую сегодня называют Первой мировой. Также в Интернете можно прочитать стихи Рильке и Георга Гейма в переводах современников того или иного времени. По аналогии с гипертекстом к истории войны, которым являются подобные интернет-ресурсы, в оптике транснациональной истории читатель представляется аналитиком если не беспристрастной, то, по крайней мере, непартийной точки зрения. Используя язык Кесслера, историк с транснациональной оптикой, которую помогают выработать интернет-ресурсы, международные архивы и контакты, интересуется не «нашими» и «вашими», а «войной и миром» как неким целым, которое представлял себе и Толстой: например, девочкой, которая пытается пасти овец под перекрестным огнем. Иначе говоря: в период, когда строительство траншей между империями приводит к их быстрому разложению, субъектом истории становится европейское общество как то целое, которое производит и бросает гранаты само в себя и при этом наблюдает за собой [19].
В процессе такой переработки истории, как и во время войны, центр аналитических действий переносится из метрополий империй в их периферии. Это относится не только к внутренним колониям Европы, но и к внешним — например, к Индии и Ближнему Востоку. С точки зрения этих периферий процессы разложения центра оказываются видны гораздо более четко [20]. При этом характерно, что посредниками массового разочарования в имперской власти оказываются такие представители элит империй, как Кесслер. Очарованные новым языком недовольных, они из пропагандистов империй и наций превращаются в финансистов сомнения. Государство предстает уже не как гарант стабильности, а как один из источников угрозы насилия без какой бы то ни было веры в светлое будущее [21]. Вместо государства и его элит на первый план выдвигается «другой военный опыт», как говорит Оксана Нагорная: опыт людей, которые, как военнопленные, оказываются случайными заложниками общеевропейского чрезвычайного положения [22].
Транснациональный поворот в историографии — не просто смена парадигм в духе Куна, а смена политической цели интерпретации. В этом смысле поворот к обществу как субъекту исторического процесса, который нельзя раздробить на нации, является последствием общественных процессов 1960-х годов. С точки зрения XXI века массовые демонстрации против американских войск во Вьетнаме и маленькие, но мужественные протесты против ввода советских войск в Чехословакию, демонстрации за права женщин и за признание афроамериканцев полноценными гражданами США представляются одним блоком в истории роста «гражданского общества», даже если многие из их представителей не пересекались друг с другом [23]. На этом фоне возникают такие новые бестселлеры историографии о Первой мировой войне, как книга под названием «Лунатики: Как Европа отправилась воевать». Впрочем, на самом деле транснациональная и глобальная эпоха историографии началась с марксистов 1930-х и 1940-х годов [24]. В этой струе ранее менее заметные процессы культурного трансфера и взаимосвязи выходят на первый план — например, история о том, как прусский граф способствовал переводу новой советской прозы на немецкий [25]. Возникают новые формы вопросов, новые герои и способы видения последствий конфликтов, которые выходят за рамки строительства героической памяти [26].
Критики транснационального подхода опасаются утраты привычных форм ориентации в прошлом: причин конфликтов, вопросов о коллективной или индивидуальной вине, чувств привязанности к определенному региону или культурной формации. С точки зрения традиционной историографии, Первая мировая война являлась конфликтом между европейскими империями с национальным лицом, которые пользовались поддержкой своих европейских и неевропейских подданных. С транснациональной точки зрения население Европы — и в особенности неевропейские подданные европейских династий — стало жертвой действий государств и их представителей. На всех стадиях войны гражданские конфликты и косвенные последствия, такие как ослабление организма и его подверженность болезням, выходят на первый план. Война также становится кризисом для становления новых политических сил, таких как социализм, пацифизм, женское движение. Вопрос о том, как ориентироваться в мире без имперской идеи, возвращает некоторых к другим моделям провидения, например универсальной или «большой» истории всего человечества, в которой действия людей и их интересов растворяются в упрощенных и безлюдных системах причинно-следственных связей [27].
При всех его достоинствах, как и к любым громко анонсированным поворотам, к транснациональному подходу стоит отнестись критически. Это поле исследований пока страдает от элитарности источников и интересов, к которой был склонен и взгляд таких людей, как граф Кесслер. Возможно, причина этого в том, что пока еще транснациональный поворот остается европоцентристским и написан в ключе достаточно узкой, в основном либеральной идеографии. Так, например, на портале geschichte.transnational из 240 проектов 111 посвящены истории Германии, 106 — США и 60 — Великобритании. Из 23 других стран много внимания уделено Австрии и Голландии [28]. Европе, будто Айседоре Дункан, пока еще угрожает ее собственный шарф.
Тем не менее, хотелось бы думать, что эта оптика подтолкнет читателей к новому, возможно, более гуманистическому образу мышления о политике. Читая на фронте сборник Кафки «Созерцание», граф Кесслер находит четкое описание того чувства трагической иронии, с которой он воспринимает дон-кихотовские мечтания друзей-австрийцев об империи:
«Быть бы индейцем, готов хоть сейчас, и на мчащейся лошади, наискось в воздухе, коротко вздрагивать над дрожащей землей, а потом отпустить шпоры, ибо нет шпор, а потом отбросить поводья, ибо нет поводьев, и едва видеть перед собой землю выкошенной догола степью, уже без холки, уже без головы лошади» (пер. Соломона Апта, 1913 [29]).
Транснациональный анализ войны максимально использует языковые, эмоциональные и институциональные ресурсы для того, чтобы преодолеть «методологический национализм» [30]. Современный историк остерегается оптики «особых путей» и ищет места действий, где пути пересекаются [31]. Вена, Берлин, Петербург и Москва: в эти города мы попадаем уже только проездом, чтобы сверить часы со знакомыми нам там персонажами. В центре внимания оказываются Галиция и Кавказ, Бенгалия и Алжир. Пусть поздно, но историки эпохи глобальных частных военных предприятий и социальных связей стали понимать, что изучение конфликтов с точки зрения национальной геополитики старых европейских держав напоминает желание удержать мысли на мчащейся «уже без холки, уже без головы лошади».
Июнь 2015
Эта статья является первой публикацией на русском языке по материалам монографии, которая будет опубликована в 2016 году (European Elites and Ideas of Empire, 1917–57. Cambridge University Press).
Примечания




Комментарии