Александр Марков
Реальная политика и правдоподобная политика
Обрушение политического реализма: новые предвестия
 2 776
2 776 
© Flickr / MIT-Libraries
Размышления над книгой Рэймонда Гойса «Философия и реальная политика» (Geuss R. Philosophy and Real Politics. Princeton: Princeton UP, 2008).
Книга Рэймонда Гойса в свое время ознаменовала поворот в понимании «реальной политики». Она стала видеться уже не как стратегическое планирование, а как удачное попадание, как правильное скрещение реального и воображаемого, как умение найти правильную точку удачи, двигаясь во множественных системах координат современной этики и политики одновременно. Можно называть проект Гойса «квантовой политологии», можно считать, что Гойс обладает особым талантом видеть политику не как совокупность данных, а как текст со своим началом, серединой и концом. Как при чтении романа мы движемся и в воображаемом пространстве действия, и в пространстве наших размышлений, и в пространстве этических решений, соотнося эти пространства друг с другом, так и Гойс требует, постоянно рассуждая об этическом измерении политики, видеть Канта или Арендт только как одно из пространств, наравне с пространствами республик и внешней политики, социального воображаемого и практического функционирования сообществ.
Хотя книга состоит из исторических примеров, но редко можно найти книгу, в которой социальное воображение, политическая жизнь или итоги деятельности политиков не превращались бы сразу в иллюстрацию готовых тезисов «реальной политики» или «прикладной этики», но жили бы своей жизнью. Гойс умеет отпустить примеры и иллюстрации на свободу, и чтение его книги учит нас, насколько это разумнее, чем ожидать результатов от приложенных в качестве иллюстраций примеров.
Понимание политики как прикладной этики стало слишком популярным, говорит Гойс в своей книге не раз. Более того, ссылки на Канта должны были, сетует он на коллег, смягчить потрясение от неоднозначности политики, от невозможности набросить ценностную сетку на все политические действия. Кажется, что этика, различающая роды политического действия, поможет нам отказаться от механического контроля над политическим действием. Слишком часто интеллектуалы, считая, что они осмысляют политику, просто механически контролируют ее, поэтому и запрос на этику возник давно.
Политика часто возникает неожиданно: мы пользуемся благами цивилизации, но когда вдруг они выходят из строя, люди чувствуют общую судьбу и создают общее политическое действие. Большинство людей в обыденной жизни слабы, более того, они часто не слишком усердно стремятся к своим целям, поэтому и этическую оценку собственных поступков не очень принимают всерьез. Политика тогда оказывается доказательством для собственного этического содержания: не доказательством математического плана, но подтверждением, что наши поступки уже слишком серьезны.
Когда мы думаем внеполитически, мы исходим из неопределенности наших моральных координат: разные события и повороты нашей жизни с равным правом могут стать точками отсчета. Но политика вносит в эту неопределенность новую необходимость — необходимость желания. То, что вне политики выглядит как сутолока интересов, в политике — как сбывшиеся или несбывшиеся желания, убедительные или неубедительные для других, действенные или встречающие сопротивление, имеющие объективную полезность или не имеющие ее.
В таком случае этические принципы политики, считает Гойс, занимают промежуточное место между «убеждениями» (belief) и «желаниями»: они не столь капризны, как желания, но они не имеют ценностной силы убеждений, так как всегда подвергают проверке сами ценностные установки человека. Они могли бы совпасть с ценностными установками, если бы существовал идеальный картезианский человек: но люди часто локализуют свои желания так, что для них становится не вполне очевидной реальность и их желаний, и их убеждений. Поэтому политика может просто разомкнуть эту локализацию, но это не значит, что политика сразу сделает убеждения этическими. Скорее, политика просто вновь столкнет мир убеждений и мир мотиваций, показывая взаимную ограниченность обоих миров.
Невозможно решить политические противоречия, просто манипулируя желаниями: сама природа чувств такова, что нельзя от них избавиться, просто делая их публичным достоянием. Политика не способна умерить желания, но способна создать новые. Навстречу политике идет современная цивилизация: в древности политика создала желание славы, теперь она создает желание справедливости или благополучия для всех. Мы при чтении Гойса сразу вспоминаем удачные примеры. Голодающий в Центральной Африке просит хоть какой-нибудь пищи, веган в Англии отказывается от всего, что уязвляет его чувственность и его новый веганский здравый смысл, но оба они участвуют в желании благополучия: здраво правильно распределять пищу и здраво вносить в питание умеренность. Такая умеренность, как при правильном распределении продуктов в Африке, так и при самоограничении, и будет политической ценностью.
Политика, а не только экономика решает, быть ли киборгам, ГМО и клонированию. Дело не только в запретах или разрешениях: лицензирование, в том числе под давлением общественного мнения или вопреки нему, можно провести без всякой политики. Политика вносит момент вероятности в казалось бы непроницаемое движение стеной общественного мнения: она показывает, что каждое решение не только имеет вероятные последствия, но и само может состояться как решение, а не как временная мера, в силу какой-то вероятности. Политика убеждает, что потребности необязательно сразу определяют мнения и убеждения, что всякая потребность оказывается еще и способом для человека разобраться с вероятностью различных своих и разновекторных действий.
Политика как управление изменениями тогда видится и как обучение «здравому смыслу», которым должны быть теперь наделены не только ситуативные решения, но и проекты. Тоталитаризм был образцом проектов, лишенных здравого смысла: хотя тоталитарным государствам и удалось подчинить себе всю структуру интересов, они не могли быть структурированы по нормам здравого смысла, и потому их существование сопровождалось постоянно растущими экономическими издержками и моральным ущербом. Также и колониальный империализм, хотя выглядел как борьба интересов различных империй, на самом деле представлял собой ситуацию, при которой политический класс становится принципиально необучаемым, потому что сама логика борьбы империй представляет собой желание «отыграться», а не учредить правила игры.
Многие политические реформы остаются «сырыми» вовсе не потому, замечает попутно Гойс, что у них был малый горизонт планирования. Просто эти реформы не учитывали, что групповые интересы — это не просто интересы некоторой части общества, имеющие экономическую основу. Напротив, групповой интерес часто не имеет экономического измерения, например, заявляется как «коллективная честь». Поэтому примирение групповых интересов вовсе не в том, чтобы создать экономическую систему, признанную в качестве лучше всего обслуживающей групповые интересы. Примирение может состояться только как прикладная этика, показывающая этическую мотивацию группы и конструирующая для самой группы необходимые следствия этой мотивации, что только и может заставить группу поменять свое решение.
Конечно, это заставляет нас отказаться от большинства теорий прикладной этики, в которых этика просто утверждает «благую политику» и разоблачает «дурную политику». Такие утверждения и разоблачения поневоле заставляют конструировать идеальную этику, которая позволит каждому участнику политики видеть все последствия своих поступков. До конца эти последствия не прозрачны, но этическая форма поступка вполне может стать видима. Например, мы заведомо отличаем поступок, направленный на удовлетворение минутной прихоти (Гойс говорит о поступке, который сразу облекается в слово, — он любит в своей книге вскрывать саморазоблачительность политического поведения, имея перед глазами в основном только американскую ораторскую культуру; но мы должны «перевести» Гойса на другой язык), и поступок, позволяющий создать долгосрочные стандарты поведения. Тогда мы постепенно можем научиться и отличать поступок, следующий индивидуальной системе ценностей, и поступок, подчиненный тому здравому смыслу, который и оказывается коллективным ценностным достоянием.
Новая этика не должна сводить рациональность человеческого поведения только к поиску удовольствий и избеганию боли. Всякий раз оказывается, что сами эти аффекты используются людьми корыстно: в политике человек думает о корыстном значении своей боли даже быстрее, чем схватывает саму боль. В отличие от искусства, в политике невозможно проделать работу по «очищению аффектов». Поэтому, говорит Гойс, не забывая отмахнуться от европейской философии, мы никак не можем согласиться с этикой вроде неокантианства, в которой этика основывается на предположении, что рациональный агент сам себя конструирует, просто потому, что сравнивает себя с другими рациональными агентами и подражает им. Замечу здесь, исходя из своего опыта теоретика искусства, а то Гойс это не вполне проясняет. В отличие от подражания в искусстве, где подражание в конце концов приводит к очищению аффектов, такая «рациональность» приведет только к прихотливому углублению аффектов. Если Кант мог еще избежать этой опасности, вводя понятие об «интуиции» как созерцании, то современная политика лишена кантовского интуитивного компаса, больше полагаясь на готовые координаты решений.
Этика Канта, исходящая из того, что ложь опаснее для интуиции, чем даже преступление, вполне применима к описанию политических систем, которые не обманывают себя: демократия действительно реализует власть народа, а тоталитаризм действительно делает тотальной свою мобилизацию. Ложными могут оказываться в этих системах частные внеполитические решения (не все, кто живет в демократической стране, — демократы, и не все, кто живет в тоталитарном государстве, мыслят, как вождь), но не сама политика. Так как мы не имеем политики, которая была бы основана на принципе «Возлюби ближнего, как самого себя», политик всегда задаст вопрос «Кто мой ближний?», то всякая политика оказывается формой, не сводящейся к интуиции. Кантовский проект республик держался на предположении, что республики ведут себя и в частнополитических решениях, следуя общей конституции республиканского строя, что понятие «строй» определяет и форму жизни республики, и содержание отношений республик. Но сейчас, уже в наши дни, а не в год выхода книги Гойса, мы видим, как Конституция оказывается не «строем», но скорее учредительным документом, и правильная работа Конституции строится на принципе ненанесения вреда, наподобие того, как этот принцип работает в международном праве, когда двусмысленности закона трактуются с точки зрения минимального вреда, который состоит в том, чтобы допустить минимальную эскалацию напряженности.
Исследовать нужно не только, когда люди ведут себя рационально, но и что они понимают под рациональным поведением. Поневоле мы иногда впадаем в тавтологию: рациональным оказывается то, что признано как рациональное для производства таких-то решений. Но понятие рационального поведения включает в себя не только рационализацию готовых ходов мысли или готовых действий, но и признание пользы как основания для рационального воспроизводства этой пользы. Политическая теория не станет до конца реалистической, прежде чем она перестанет просчитывать возможные долгосрочные результаты поведения и не станет исследовать, как данная польза достигается теми или иными стратегиями поведения.
Как нельзя сводить реальную политику к тактикам поведения, так же нельзя сводить этику к стратегиям поведения. Наоборот, реальная политика должна стать стратегической, как критика стратегий, некоторые из которых оказываются неполезными уже на уровне вероятности, а не на уровне окончательного действия. Тогда как этика должна стать тактической, перейдя от исследования «оправданных» тактик к исследованию «правдоподобных» тактик. Правдоподобие и оказывается этическим измерением политики.
Гойс подводит к этому, говоря о том, насколько вероятность в политике не исчисляется простым временным успехом, даже успехом революции. Но как раз революцию, или учреждение государства, или поддержание его во всей его стройности мы можем осмыслить не с позиций вероятности, которая навсегда уже похитила внимание политических агентов (и тем более следящих за ними политологов), но с позиций правдоподобия. Оно и есть этика, которая предупреждает, что не только у любого поступка есть последствия, но и у любого этоса есть завершенная форма. И поставленная нами даже в близкосрочной перспективе цель уже выдает нам эту форму, и нельзя списать недочеты текущей политики на отсутствие достаточного горизонта планирования. Разве что винить недостаток собственного воображения.
Реферат
Глава «Права»
Читатель может счесть, что реалистическая политика — слишком широкое понятие, в нее войдет любое понятие и любая идея, равно как и любая техника, способная явным образом улучшить жизнь человека. Но мы говорим о реализме прежде всего как о противоположности идеализма — построению правовой системы на идеализированной системе прав. Таким же идеализмом было выстраивать политическую систему на одном только понятии «доблести», которое сразу должно вызвать восхищение людей. Часто идеализированная теория следует за идеализацией истории — рассмотрении того, как действуют агенты истории, без учета социального контекста. Реализм, напротив, начинает с мотиваций, затем движется через политические и социальные институты, а отвлеченный набор прав оставляет в стороне. Разумеется, простого изучения институтов недостаточно, чтобы сделать теорию реалистической. Важно узнать, что именно в институтах превращает их в опознаваемую форму человеческой жизни.
Анализ прав нужно начинать с индивидуальных прав, которые кажутся нам естественными, будь то в форме законных прав или прав человека. Историки различают «объективную» и «субъективную» концепцию прав. В объективной концепции, если говорить грубо, право отождествляется с объективной правотой — что-то делать правильно или неправильно со всеобщей точки зрения. Социальное взаимодействие описывается как одобряемое или не одобряемое со всеобщей точки зрения. Но такой подход может распределять права и обязанности, но не может распределить ответственность в кризисных ситуациях, например, когда решается вопрос о религиозной жизни или о преодолении последствий катастрофы. Кроме того, и сама «правота» может быть разной: от правильного соблюдения этикета до внутренней правоты героя. «Правоту» можно выстраивать на совсем различных прагматических основаниях. Получается, что правота — это нечто среднее между юридическим требованием, этикетом, религиозной верой, протоколом поведения и даже добрым советом. Отношения между субъектами исчезают в сетке прав и обязанностей, которые все оказываются в той или иной степени основательными.
Совсем другое — субъективная концепция прав, исходящая из того, что права и обязанности — продолжение могущества и возможностей (powers) индивида. Индивид заявляет о своих правах, с целью самосохранения, и он же заявляет о своих обязанностях, с целью самореализации. Но здесь права оказываются скорее параметрами, характеристиками такой самореализации, безопасности или благополучия. Такая концепция позволяет не сводить вопросы права к вопросам безопасности или вопросам творческой самореализации, но плохо обосновывает, как действует право в удалении от каждого из этих полюсов, в демократической жизни. Современное законодательство представляет право прежде всего как полицейскую инструкцию: что должны сделать органы власти для реализации или охраны прав индивида, при этом всеобщий характер приписывается на самом деле этой инструкции.
Во многих современных философских теориях признается, что минимальные субъективные права не отчуждаются от человека, вне зависимости от того, как себя ведет государственный аппарат. Эти субъективные права считаются предшествующими кодификации прав и механизмам их реализации. Люди как бы наделены ими в силу самой своей субъективности в качестве людей; они даны им, как дано им тело. Но здесь сразу оказывается, что эта субъективность как-то конструируется, и, например, право выбора, право разумно действовать, право верить в Бога и право добиваться в своей жизни счастья — это совершенно разноплановые права, организованные совершенно разными и часто не вполне совместимыми конструкциями субъективности. Кроме того, возникает вопрос об исключительных случаях: как может реализовать свою субъективность человек со множественным расстройством личности или человек на грани самоубийства, притом что гражданские права ему всегда гарантированы вследствие его гражданской субъективности. Конечно, все мы знаем, что соблюдение всеобщих прав — со времен Просвещения необходимая составляющая нашего общества, но насколько она может стать необходимой частью нашего опыта, влияющей на принятие нами решений?
Р. Нозик считал, что можно основать политическую философию только на понятии индивидуального права. Он настаивал на том, что нерушимость индивидуального права — достаточная гарантия его соблюдения. Но Нозик не дает ответа на вопрос, когда и кем установлена эта нерушимость, а также как эта нерушимость становится аргументом в каждом случае. Ведь получается, что нормативный характер права выводится не из учреждения права, а из учреждения правом прав: перенос акцента с основоположений права на обеспечение индивидуальных прав делает все конструкции Нозика аргументативно шаткими.
Я настаиваю на другом: политическую философию нельзя основать на понятии индивидуального права, но можно — на исчислении всего спектра индивидуальных прав. Тогда уже важна не нерушимость права, а просто реализация прав как основание для правовой жизни, горизонт которой и совпадает с горизонтом Конституции. Просто ссылаться на то, что не существует обществ без права, неуместно, потому что вполне можно представить два общества, наборы субъективных прав в которых не будут иметь никаких точек пересечения. Тогда как индивидуальные права требуют все более широкой реализации по мере того, как в истории реализуется само понятие индивидуума. Субъективное право — изобретение сравнительно позднее, возникшее на переходе от Средних веков к Новому времени как продолжение опыта монашества, имевшего субъективность, но не имевшего имущества и связанных с ним «прав»; тогда как индивидуальное право требует только признания хотя бы самых простых и зыбких границ индивида и вполне может быть уже в полисной демократии, достаточно только предположить, что должности в полисе служат реализации индивидуальных качеств (хотя система жребиев в полисе от этого уводила). Поэтому индивидуальное право позволяет смотреть одновременно и вглубь истории, отличая право от гадания или жребия, так и в будущее, видя неизбежное расширение индивидуальных прав в техническую эпоху.
Очевидно, что древние греки не могли бы сказать «я имею право», но только «это правильно». Но у них это означало не отсутствие субъективного права из-за объективного характера правильности, но только то, что субъективное право должно было поддерживаться объективной «идиомой»: выступая как собственная принадлежность общей греческой речи, оно позволяло индивиду оставаться собой в любых перипетиях полиса.
Нозик не замечает, что, трактуя право, он создает виртуальный полис, в котором все наделены такими доблестями, которые не позволят нарушать чужие права, не позволят ни причинять несправедливость, ни претерпевать ее. Нозик поэтому считает реальные нарушения прав только следствием того, что полис не до конца осознан всеми гражданами, что граждане путают гражданство с получением привилегий. И таким образом, по Нозику, нужно искать точку политической непривилегированности. Но очевидно, что права служат не только отстаиванию независимости или нерушимости интересов, но и улучшению социальных взаимодействий. Современная философия скажет, что несостоятельно просто настаивать на реализации всех прав как на средстве против насилия, но можно рассмотреть внедрение права как единственное оправданное насилие. Тогда внедрение права сразу окажется коммуникативной ценностью, а не только наведением порядка в тотальном соблюдении прав, которого на самом деле еще нет, и нельзя принципиально найти исторический момент, когда оно «начинается», — можно только создать это тотальное соблюдение ситуативно.
Как только появилось субъективное понимание права, сам вопрос о начале тотального соблюдения прав потерял смысл. Эти права не создаются уже ситуативно, но оказываются единственной возможностью осмыслить свою субъективность как правовое явление, как явление субъекта в качестве обладающего правами. Право становится уже не моментом внешнего регулирования обязанностей, но моментом внутреннего регулирования обязательств самосознания. Мы тогда можем уже не сводить философию к истории, но можем мыслить философски, и будучи историческими существами.
Читать также
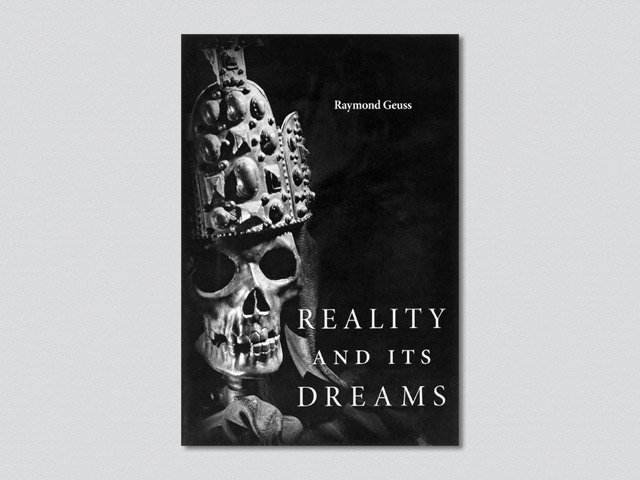




Комментарии