О музеефикации мучителей
В музее политических репрессий «Пермь-36», где я побывал еще до того, как с ним начались необратимые изменения, среди прочих чудес советской политической зоны на меня особенное впечатление произвел прогулочный дворик возле жилого барака лагерного отделения особого режима лагеря. Ну, он на многих производит сильное впечатление. Заключенным были положены прогулки, и эти прогулки происходят в бетонном квадрате со стороной примерно в полтора моих роста. Вверху он перекрыт колючей проволокой. В этом квадрате нет (очевидно, что и не было) ничего, что возникает в сознании при слове «дворик», — ни дерева, ни какой-нибудь лавочки, ни травы. Колючую проволоку снизу на фоне неба любят фотографировать посетители музея, я тоже сделал такую фотографию.

Очень выгодный ракурс. И кто-то годами наблюдал небо вот так. Там сверху проложен дощатый помост, на котором дежурил охранник. На фотографии на месте охранника неизвестный посетитель.
Годами кто-то (хотя нам точно, поименно известно, кто) — выходя в «прогулочный дворик», встречался глазами с этим человеком наверху. Что думал человек наверху о человеке внизу?..
…Учреждение ВС-389/36 в 1988 году было неожиданно даже для тех, кто в нем служил, ликвидировано. Брошенная «зона» через несколько лет была превращена в музей политических репрессий и центр документации. Лагерь, а теперь музей находится в двухстах километрах от Перми, да еще и в стороне от трассы. Несмотря на такое крайне неудобное для экскурсий положение, выставочный комплекс привлекал посетителей и постепенно превратился в одну из главных пермских достопримечательностей. Постепенно, однако, и так называемый «общественно-политический климат» менялся. Музей «Пермь-36» и его организаторы подвергались атакам людей, считающих недопустимым существование и деятельность музея, посвященного памяти политических заключенных. Кто-то из этих людей непосредственно участвовал в деятельности лагеря. И вот в прошлом году после двухлетней борьбы противники его создателей наконец победили: АНО «Пермь-36» объявило о самоликвидации, созданный общественной организацией музей перешел под полный контроль государства. Сообщают, что теперь музейный комплекс перепрофилируется в «музей о лагерной системе».
Можно представить себе, что нужно для этого сделать: оставить всю лагерную технику, т.е. вышки, сложную систему ограждения, камеры, и убрать информацию, касающуюся того, кто был в этот лагерь заключен и по какой причине. Но этих железа и досок мало для музея. На этой неизменной технической основе нужно представить какие-то общественные отношения, выстроенные поверх этой техники и с ее помощью. И вот интересно, как возможен музей, созданный на основе лагеря для политических заключенных и посвященный не тем давним заключенным, а их охранникам?
Исторический музей неизбежно представляет некие обобщенные человеческие типы. За предпочтение какой-либо частной истории — все личные истории чáстны — в качестве типичной всегда идет политическая борьба в музеях и по поводу музеев. Историю политзаключенного рассказать «через» музей политических репрессий принципиально проще, чем историю сотрудника лагеря, потому что образы самих политических заключенных индивидуализированы. Все это люди «с биографией» и до, и после заключения. Охранник и другой человек из персонала, напротив, «растворен» в пенитенциарной системе. Персонализироваться военный человек может, вообще-то, совершив, например, подвиг, но что за подвиги на такой службе…
…Итак, «прогулочный дворик» — и двое. Один непрерывно находится в каменном мешке, и вот — выпущен побыть под открытым небом. Другой охраняет. И вот они смотрят в глаза один другому, очень быстро. Допустим, кто-то сразу же отводит взгляд. Тот, кто «сверху», — это вероятнее всего простой солдат-срочник (или сверхсрочник, в данном случае неважно), должен же иметь какое-то представление о том, кто находится под его ногами. Ему многократно объяснили, что это преступник, да еще и рецидивист, убежденный заклятый враг, ни в какие разговоры и переговоры и переговоры не вступать, и т.д. Во взгляде человека внизу едва ли он читает что-либо благоприятное для себя, и это тем более усиливает если не ненависть, так неприязнь. Вот они опять и опять оказываются лицом к лицу, и тот сверху не может же не объяснять себе как-нибудь, с какой стати он должен в этом участвовать. Да можно ли, не выработав такого отношения, нести караульную службу? А в то же время трудно не заметить (можно, но для этого надо быть социальным идиотом, речь не о них), что долгое время находиться в таком тесном помещении с непрерывными обысками, угрозой сокращения питания, т.е. настоящего голода, и видеть небо исключительно через решетку и проволоку — это мучительное состояние. Человек «сверху» соучаствует в причинении мучений человеку «внизу».
Это простое отношение мучительства составляет основное общественное отношение в лагере. Поэтому созданный из лагеря музей — хоть музей «истории политических репрессий», хоть музей «о лагерной системе» — эксплицирует именно это отношение. Как его назвать?
Позднесоветская политическая зона — это уже не истребительный лагерь ГУЛАГа, хотя генетически и технически является его продолжением. Это отношение не предельного уничтожающего насилия (но только непрерывно угрожающего стать таким, в изоляторе отделения особого режима «Перми-36» был убит Василь Стус). Назовем его мучительством. Мучитель — не палач (о палаче как основном «носителе» карцерных практик ХХ века писал, например, Т. Адорно [1]), но потенциально мог бы им стать. Произойдет это или нет, зависит от обстоятельств, от их стечения, поскольку переход здесь незаметен. Кому-то в этом смысле повезет, кому-то не повезет.
Отношения мучителя и мучимого — это прежде всего отношения двух человеческих тел. Достаточно только обладать телом, чтобы переживать собственное прямое или косвенное участие в мучении другого. Соприкосновение воль, власть одного и безвольная самоотдача другого, столь важные для европейских теоретиков мучительства, начиная с де Сада, здесь не существенны.
Вовсе не обязательно мучитель осмысляет происходящее с ним — и поэтому верить тем, кто рассказывает после (в том «времени после» (В. Подорога), где опять же из-за стечения исторических обстоятельств приходится и об этом тоже зачем-либо рассказывать), что «не знали». Они знали все, поскольку они были там (и те, кто сейчас (со)участвует в причинении мучений, тоже всё знают).
Мучитель это может делать как бы равнодушно, отключая способность и желание рефлексировать; такое отношение обозначают пресловутой фигурой «банального зла». Может, оказавшись в ситуации, из которой не может произвольно выйти, защищать целостность своей личности, отстраняясь от происходящего, относиться к этой ситуации, насколько можно, с иронией, а к мучимым — с сочувствием, и помогать им по возможности [2]. Если такое отстранение не удалось, мучителю придется пережить кризис — но деваться «военному человеку» все равно некуда [3]. За годы существования музеефицированного учреждения ВС-389/36 самые разные люди с самой разной психоэмоциональной подготовкой участвовали в обеспечении функционирования объекта.
Но ведь не такие типы музей лагерной системы будет увековечивать. Что первый, «простой сотрудник системы», что второй, «иронический охранник», что третий, «сострадательный охранник», непривлекательны в качестве человеческих символов музеефицируемой системы. В каждом из них вскрывается некая неполнота: в первом и втором — непривлекательное, отталкивающее, отвратительное отключение «морального чувства», в третьем — нарастающий внутренний конфликт. Такой музей будет скорее критическим, чем апологетическим учреждением. Музей политических репрессий «Пермь-36» уже был критическим по отношению к «лагерной системе», следовательно, теперь требуется нечто иное — апологетика. Так вот, антропологический тип, который должен быть представлен в подобном музее в качестве типичного, совершенно другой.
Подобное концентрационное учреждение функционирует постольку, поскольку в нем действуют такие люди, которые органично включаются в предлагаемую лагерем систему отношений «мучитель – мучимый» (потенциально превращающихся, повторюсь, в отношения «палач – жертва»). «Банальности зла» как отношения нулевой этической различимости для эффективной работы мучителем недостаточно. Она требует большей степени личной вовлеченности, именно — небезразличия к результатам дела, т.е. к продолжающемуся мучению другого.
В первую очередь, тело эффективного работника такого учреждения должно быть приспособлено (им самим или «природой») для участия в мучительстве. Интерес к причинению страданий есть не у всех — или открывается не у всех. Тут должен произойти какой-то отбор. Во вторую очередь, мучительство становится профессией, возникает какой-то (не представимый лично для меня) профессиональный этос и особый жизненный мир мучителя.
Само по себе отношение мучительства отвратительно и бессмысленно, пока оно остается чистым взаимодействием тел. Так что, чтобы его предъявить другим, например нам, зрителям, наблюдателям, посетителям музея, нужно придумать ему эстетическую форму и через это придать какой-то смысл причинению страдания (мучению).
Со-участники этой простой связи оба обращаются к третьему — к современнику, к зрителю, к потомку, стремятся привлечь к себе внимание, но по-разному. Мучимый хотел бы вызвать сострадание. Оно реактивно; это реакция тела на чужую боль, на боль тела другого. Сострадание и стыд в ответ на то, что кто-то другой лишен воздуха, подвижности, пищи — и невозможно в это вмешаться.
Мучитель обращается к другому, но иначе. С одной стороны, ему не нужны непосредственные свидетели, поэтому первое безапелляционное требование к возможному наблюдателю — «не смотри!» [4]. Но в то же время предполагается и привлекается уже опосредованное внимание. Поэтому, с другой стороны, мучительство также нуждается в свидетеле, но — именно в свидетеле, имеющем доступ к мучительству только в той форме, которая придана ему мучителем. Мучитель вступает с потенциальным наблюдателем/свидетелем его мучительства в отношения сокрытия и демонстрации одновременно. Он охотно показывает, но не все, и оттягивает внимание преимущественно на себя.
Скажем, какой музей палачества могли бы построить палачи? Музей, где каким-то образом устранена из поля зрения посетителей сама рутинная занятость палачей: операции отсечения головы, подъема на дыбе за наручник, сковывающий руки жертвы за ее спиной [5], и вырывания ногтей. В этом музее было бы настолько дотошно, насколько это вообще возможно, представлено все остальное: быт палачей, их отношения на рабочем месте, литературное творчество, забавные истории, спортивные награды, воспоминания ветеранов. (Феноменологической банальностью будет говорить о таком музее как о музее социального не-видения, которому он обучает своих посетителей [6]).
Как насчет жертв? Отношения к ним? Оно предсказуемо двойственно.
С одной стороны, в таком музее жертвы должны быть максимально сведены к материалу, с которым имеет дело палач постольку, поскольку не может встретиться с ними глазами (или научился, или научен этого не делать), — это тела, по отношению к которым производятся некие операции. Поэтому в таких музеях должна быть представлена статистика, награды за успешный труд.
С другой стороны, поскольку этим материалом были все-таки люди, посетитель музея может вдруг заинтересоваться, «почему все это с ними сделали». Поэтому как можно более подробные статистические и сравнительные справки должны быть снабжены не столь подробным, но все же вполне содержательным приложением с объяснением, что, во-первых, эти люди сами заслужили быть употребленными таким образом, во-вторых, представленные в музее виды палачества выгодно отличаются от иных известных в истории видов палачества, и в-третьих, вклад палачей в прогресс человеческого общества настолько значителен, что обсуждать некоторые детали технологического процесса просто нелепо. Впрочем, если бы я создавал такой музей, я бы снабдил его и специальным небольшим помещением, где имеющие в этом потребность могли бы провести специальные поминальные ритуалы. Пусть будут… это неважно.
В «музее политических репрессий» посетителю предлагается встать на сторону человека «в прогулочном дворике»; ну, а в «музее лагерной системы» — на сторону человека «над прогулочным двориком». Поскольку эти две позиции противоположны, не существует объединяющей их позиции. Тут надо выбирать. Позиция «безразличия» давно уже захвачена «мучителем»: если на его требование «Проходи, здесь не на что смотреть» отвернуться и пройти, то это не «третья позиция».
Говорят о примирении. Невозможно «примирение» между мучителем и мучимым, поскольку такое примирение тоже позиционно. С позиции «мучителя» примирение с «мучимым»… если уж без него не обойтись… состоит в обоюдном признании того, что само их со-отношение неизбежно и обойтись без него невозможно. Условия можно, конечно, обсуждать и — да, гуманизировать. С позиции «мучимого», само это отношение должно быть показано во всей своей отвратительной простоте и устранено. То есть это и не примирение.
Ключевая особенность «музея лагерной системы», буде «Пермь-36» преобразуется в таковой, — и всех подобных музеев, — не в том, что они пересматривают историю и с ног на голову ставят, как часто представляется, «добро» и «зло» [7], а в том, что они неизбежно предлагают зрителю/посетителю встать на позицию «мучителя по призванию», а значит — принять отношения мучительства как нечто само собой разумеющееся, неизбежное, выносимое и вполне достойное со-участия. Когда они приняты и «мучитель» оказывается ближе «мучимого», обосновать их необходимость — легкая, чисто интеллектуальная задача.
Примечания


 5 008
5 008 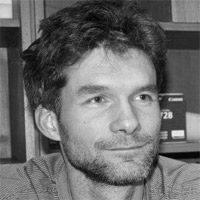

Комментарии