Мартин Джей, Стивен Миллер
На весах Иова: две западные рецензии на одну русскую тему
Непротивление русской литературы и опыт бесчеловечности: Шаламов как вызов для западной литературной критики
 3 445
3 445 
© Flickr / Claire Graham [CC 2.0]
От переводчика: При жизни Шаламова на Западе было издано более десяти сборников его рассказов на немецком, французском, итальянском, английском и даже на африкаанс, при одном на русском языке (1978), и то выпущенном польским эмигрантским издательством. Последовало множество откликов, о которых российский читатель, не владеющий европейскими языками, ничего не знает, поскольку ни одна прижизненная рецензия до сих пор не была переведена. Это рисует совершенно искаженную картину рецепции «Колымских рассказов» на Западе, который, собственно, и открыл их для себя через переводы, полностью игнорировавшиеся советским режимом как очередная «идеологическая диверсия». Инерция этого отношения по-прежнему чрезвычайно сильна и выдает глубокий провинциализм российского шаламоведения и российского культурного слоя в целом. Подборка призвана хоть в малой мере исправить положение дел, расширив горизонт почитателей творчества Шаламова в России за пределы, очерченные советской цензурой, которая и мертвой продолжает хватать живых.
Дмитрий Нич
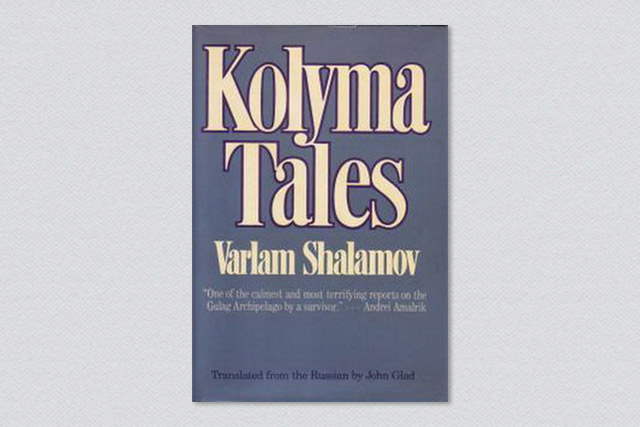
Стивен Миллер. Рецензия на сборник «Колымские рассказы», 1980
Одна из первых рецензий на сборник “Kolyma Tales” — первой книги Шаламова на английском. Опубликована в сентябрьском номере журнала “The American Spectator” в 1980 году. “The American Spectator” — журнал консервативного направления, выходящий в городе Арлингтон, штат Вирджиния. Электронная версия статьи опубликована на сайте книжного и журнального архива UNZ.
Осенью 1944 года группа американцев, в их числе вице-президент Генри Уоллес и Оуэн Латтимор из Управления военной информации [1], посетили советский Дальний Восток [2]. Рассказывая об этой поездке в декабрьском номере «Нэшнл джиогрэфик» за тот же год, Латтимор высоко оценил усилия советских властей по развитию края, сопоставимые, по его словам, с деятельностью «Компании Гудзонова залива и T.V.A. [3], вместе взятых». Советский комендант тоже произвел на него хорошее впечатление. «Он и его жена [4] — люди образованные и чуткие, интересующиеся искусством и музыкой, — писал Латтимор, — наделенные, кроме того, глубоким чувством гражданской ответственности». Эта на диво одаренная и эстетически, и чувством гражданского долга пара правила Колымой — необъятным ГУЛАГом, унесшим более трех миллионов человеческих жизней.
Смертоносной до такой степени Колыму сделали не только зимние холода, когда температура падает ниже минус пятидесяти, но и умышленно сокращенный правительством в 1937 году паек заключенных, а также ухудшение качества выдаваемой одежды. В своей насыщенной книге о Колыме Конквест писал, что в первые три года функционирования лагерей заключенные содержались хорошо и смертность была низкой. В 1937-м правительство решило сделать основной целью Колымы не золотодобычу, а умерщвление заключенных, особенно политических.
Варлам Шаламов, автор «Колымских рассказов», ходивших в самиздате на протяжении двадцати лет, — один из немногих, кто ее пережил. Он был арестован в 1937 году за то, что назвал Нобелевского лауреата Ивана Бунина классиком русской литературы (Бунин был антикоммунистом, эмигрировавшим на Запад). Шаламов провел в лагерях 22 года и уцелел только потому, что сумел устроиться фельдшером.
Рассказы Шаламова — важнейший исторический документ, поскольку повествуют о повседневной жизни в самых ужасных советских лагерях принудительного труда. Но одновременно это и значительное литературное произведение. Лучшие рассказы в сборнике тщательно выстроены вокруг какой-то доминирующей темы или метафоры. Более того, они написаны с изысканной сдержанностью, как будто Шаламов знал, что что-то сверх основанного на фактах породит мелодраму.
То, что Шаламов сумел взять себя под контроль при создании этих отточенных новелл — воодушевляющий знак, что хотя бы одному человеку удалось избежать полного поражения в противостоянии с Колымой. Но это не должно вводить нас в радужное заблуждение относительно его колымского опыта. Некоторые творцы литературы ГУЛАГа дают понять, что лагерный опыт раскрыл им глубины их сущности, которых без лагерей они бы не постигли. Шаламов утверждает обратное. «Если могли промерзнуть кости, — говорит рассказчик в “Плотниках”, — мог промерзнуть и отупеть мозг, могла промерзнуть и душа. На морозе нельзя было думать ни о чем. Все было просто. В холод и голод мозг снабжался питанием плохо, клетки мозга сохли — это был явный материальный процесс, и бог его знает, был ли этот процесс обратимым, как говорят в медицине, подобно отморожению, или разрушения были навечно». Шаламов, как представляется, утверждает, что опыт Колымы не может быть положительным: для большинства заключенных это опыт сведения их сущности, бывшей личности, к пустой оболочке. «Язык мой, — говорит рассказчик в “Сентенции” — приисковый грубый язык, был беден, как бедны были чувства, еще живущие около костей… Двумя десятками слов обходился я не первый год. Половина из этих слов была ругательствами».
Хотя у Шаламова нет никаких иллюзий по поводу такого опыта, как колымский, это вовсе не значит, что все заключенные в лагерях уничтожения ведут себя одинаково. Верующие, например, проявляют твердость, которая часто делает их первой мишенью. Другие истории сплетаются вокруг хитрости заключенных, уловок, которые они изобретают, чтобы остаться в живых, хотя, убежден Шаламов, выживание на Колыме — вопрос прежде всего удачи и случая. Иная новелла рассказывает о мужестве — мужестве покончить с этим жалким, презренным существованием, уйти в побег, который всегда кончается неудачей.
В целом, однако, Шаламов уделяет больше внимания предметам, чем людям. Это смещение оправдано тем, что сами заключенные в своих отчаянных попытках превозмочь лагерные невзгоды постоянно плетут интриги, чтобы каким-то образом заполучить эти предметы: лишний кусок хлеба, какие-нибудь дополнительные обноски — все, что поможет оставаться в живых. Наверное, лучший рассказ сборника, «По лендлизу», сосредоточен на определенном наборе предметов, полученных Советским Союзом от американцев во время войны: тушенка, белый хлеб, бочка солидола, который заключенные принимают за какой-то сорт американского масла и поспешно съедают. Главный герой рассказа — новый бульдозер с сияющим щитом, предназначенный для корчевки леса, но вначале использованный для совсем другой цели — перезахоронения огромного числа оставшихся непогребенными трупов (обычное явление на Дальнем Севере, где почва скована вечной мерзлотой). Предполагается, что бульдозер справится с этой работой лучше, чем могильщики-заключенные, но не справляется и бульдозер: «Север сопротивлялся всеми силами этой работе человека, не пуская мертвецов в свои недра».
Благодаря рассказам Шаламова трупы Колымы не исчезнут из нашего сознания. Мы можем осознать то, чего не сознавал Латтимор, вконец замороченный россказнями, как жестоко обращались с заключенными при царском режиме. Конквест отмечает, что в одном только лагере на одной только Колыме в 1938 году было казнено больше народу, чем за весь прошлый век во всей Российской империи. Лагеря принудительного труда, как правильно сказал Солженицын, — не русское изобретение, они — советское изобретение последних шестидесяти лет.
Конечно, в каком-то смысле Колыма ушла в прошлое. После 1956 года повседневная жизнь в лагерях стала более сносной и смертность резко упала. Но если шаламовская Колыма принадлежит прошлой, сталинской, эпохе, верно и то, что теперешний советский режим — во многих отношениях детище той эпохи. Гибель тысяч партийцев на Колыме и в других лагерях принудительного труда вымостила дорогу лидерам нынешнего режима. По словам Конквеста, эти лидеры — «не только наследники сталинского режима, но его соучастники». Более того, советская Конституция до сих пор позволяет правительству объявить преступником и сделать политическим заключенным любого, кого оно пожелает. И до сих пор официальной политикой является скудный рацион заключенных, не отвечающий среднестатистическим надобностям.
Таким образом, хотя прежней Колымы больше нет, ее демон отбрасывает на существующий режим зловещую тень. Сомнительно, что нынешние лидеры стали бы призывать этого демона, ведь они сами окажутся его жертвами. Но и структура режима, и идеология, обосновывающая его легитимность, делают повторение Колымы возможным.
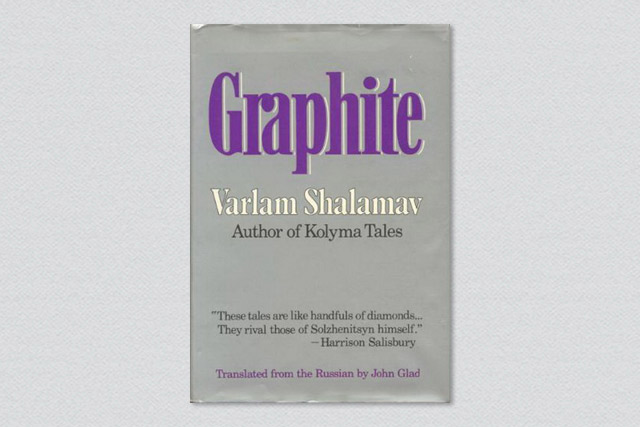
Мартин Джей. Рецензия на сборник «Графит», октябрь 1981
Джей подходит к колымской прозе Шаламова как к источнику информации. Для него это очерки чудовищного лагерного быта, лагерной антропологии, выражение распада, происходящего в авторе — жертве общего лагерного распада. С точки зрения свидетельства их ценность неоспорима, но с точки зрения нравственности и эстетики это крах. Не знаю, что здесь отнести к эстетической глухоте критика, а что — к неудачам переводчика Джона Глэда, поделившего, например, сборник на части, которые сами собой настраивают на социологический подход в ущерб эстетическому. Статья была напечатана в книжном обозрении газеты “The New York Times” от 25 октября 1981 года, при жизни Шаламова.
Семнадцать лет Колымы
В 1937 году успешно начинающий писатель Варлам Шаламов был осужден, поплатившись за свои идеологические грехи. Он провел 17 лет на Колыме, на Северо-Востоке Сибири, где советское правительство запустило гигантский механизм золотодобывающей промышленности. Он выжил не только для того, чтобы вновь обрести свободу, но и для того, чтобы поведать о пережитом в рассказах, нелегально доставленных из России и изданных в прошлом году под названием «Колымские рассказы». Новый сборник, «Графит», составлен из 24 очерков, разбитых на семь частей: «Жизнь», «Еда», «Работа», «Брак», «Воровство», «Побег», «Смерть». Эти заголовки ничего нам не говорят, пока мы не внесем уточнения. Чтобы стал ясен их истинный смысл, рядом с каждым из этих обычных видов человеческой деятельности нужно поставить слова: «Колыма», «лагерь принудительного труда», «60 градусов ниже нуля» или «золотой рудник».
«Жизнь» (на Колыме) означает растление, боль, унижение — пока есть предел унижения, а потом смерть. «Еда» (в лагере принудительного труда) означает вываривание кедровой хвои для получения витамина С, перетирание расшатанными от цинги зубами смерзшихся пищевых отходов, а потом голодная смерть. «Работа» означает скрюченные по форме рукоятки кайла пальцы, уже не способные держать ручку с пером, а потом смерть. «Смерть» (при 60 градусах ниже нуля) означает битком набитые братские могилы, в которых вечная мерзлота препятствует разложению; к голени каждого трупа привязана бирка с номером; разложение оказывается свойством жизни.
Шаламов показывает свой собственный распад. Он с полной определенностью говорит, что такие человеческие качества, как ранимость, нравственность, сострадание, превратились для него в полнейшие фикции. Однажды бригадир попросил его написать ходатайство к начальству, но при всем желании что-нибудь заработать он не может его написать: «Я не справился с работой, и не потому, что слишком велик был разрыв между волей и Колымой, не потому, что мозг мой устал, изнемог, а потому, что там, где хранились прилагательные восторженные, там не было ничего, кроме ненависти» [5]. В другом очерке его воображение рисует последние часы Осипа Мандельштама: «Вся его прошлая жизнь была литературой, книгой, сказкой, сном, и только настоящий день был подлинной жизнью» [6]. Каждая история — это история вырождения, деградации, и самый потрясающий образ этой деградации дан в «Прокаженных». Вторая мировая война разрушила лепрозории, и прокаженные нередко находили убежище в лагерях; на Колыме, где обморожения и ампутации — обычное дело, прокаженные незаметны.
В «Мертвых душах» Гоголь рассказывает о трюке, с помощью которого умный проходимец превращает в прибыль умерших крепостных. У Шаламова эти «мертвые души» живы. Они мертвы, однако тела их продолжают существовать в состоянии «людского приискового шлака».
В первом очерке книги, «Бизнесмен», некий Коля обменивает свою пайку на капсюль для динамитной шашки, потом выторговывает у товарищей их пайки за неоценимую возможность покалечиться вместе с ним. «Счастье Коли Ручкина началось с того дня, когда ему “отстрелило” руку»: его больше не погонят на работу в забой.
В «Почерке» Криста вызывают в контору следователя, где он ожидает услышать смертный приговор, но по дороге он находит несколько мерзлых корочек репы, сует их в рот, и настроение его поднимается.
В «Ягодах» одна из мертвых душ — сам Шаламов. О полученных побоях он говорит с безразличием: «Фадеев ударил меня сапогом в спину. Мне стало внезапно тепло, а совсем не больно. Если я умру — тем лучше».
По Шаламову, наиболее уязвимы для деградации интеллигенты и идеологические работники. Это «политические» — университетские профессора, журналисты, инженеры, секретари партийных организаций, писатели. Они всегда на авансцене, тогда как уголовники таятся в тени, лучше организованы и умеют за себя постоять. В «Золотой тайге» повествователь выбирает место в самом низу: «Внизу холодно, но наверх, где теплее, я подниматься не решаюсь, меня оттуда сбросят вниз… Если будет спор за место на нижних нарах — я уползу под нары, вниз». Возможность выжить в лагере есть только у закоренелых преступников, сплоченных, организованных, умеющих избегать работы, а самые беспомощные — это обессилившие на каторжных работах интеллигенты. Очевидно здесь имеющее убедительность притчи наблюдение о властных отношениях в советском государстве, но столь же возможно, что это внушающая тревогу картина вообще обычной действительности, которую Шаламов хочет закрепить в нашей памяти.
«Графит» ставит вопрос, способно ли воображение превозмочь такие ужасные обстоятельства? Как может человек на протяжении длительного времени подвергаться столь бесчеловечному обращению и затем написать об этом? Если человек низведен до рабочей функции, если он бесконечно отчужден от всего, что полагал для себя важным, если его убеждения разрушены до основ, если его моральные устои осмеяны, а чаяния сведены к куску хлеба, — что может быть опорой его творческого начала?
Наличие книги свидетельствует, что при всей деградации Шаламов выстоял. Даже Колыма не всесильна, даже для нее есть предел, за которым начинается «вопреки Колыме» — если, конечно, человеку выпадает удача выжить физически. «Я знаю, что у каждого человека здесь было свое самое последнее [выделено В. Шарламовым], самое важное — то, что помогало жить, цепляться за жизнь, которую так настойчиво и упорно у нас отнимали. …Моим спасительным последним были стихи» [7]. Он имеет в виду, что литература нерасторжимо сочетается с гневом. Литература превращается для него в способ выживания, она пропитана его ненавистью, а ненависть — последнее чувство лагерника перед наступлением полного равнодушия. Более того, литература стала его способом помнить, что когда-то он был человеком.
Но несмотря на все сказанное книга дает бесспорные свидетельства творческой деградации и нравственного упадка, и переводчик Джон Глэд оказал Шаламову сомнительную услугу, когда сравнил его в предисловии с Чеховым за «объективную и беспристрастную манеру повествования». Действительно, некоторые из текстов можно сравнить не только с Чеховым, но и с Николаем Лесковым, Анатолем Франсом, Тургеневым, Андреевым и Бодлером. Однако очерки Шаламова рыхлы, небезупречны с точки зрения формы. Учитывая пережитые им страдания, ожидать или требовать от него иного было бы чересчур. Из-под пера любого автора, который говорит нам, что его человечность непоправимо искалечена, скорее всего, будут выходить холодные, бесстрастно-кристаллические истории, чьи претензии на чувства читателя неоправданны.
Короткие, такие, как они есть, эти зарисовки — обрывки, фрагменты, каракули, наподобие тех, что нацарапаны грифелем карандаша на фанерных дощечках, по которым опознают лагерных мертвецов. Они блуждают в поисках какого-то иного объекта, чем смерть и растление. Взятые вместе, они не дают цельной картины. Некоторые герои всплывают снова и снова — или это только их имена одинаковы? Даже голос автора, говорящего от первого лица, не может обеспечить устойчивый центр. Как в XVIII веке мастера садоводства создавали садовые ландшафты, Шаламов созидает руины. Эти очерки так и остаются обрывками, поскольку они об обрывках — людей, общества, вожделений.
Примечания




Комментарии