«Перед бурей»: будущее Системы
Новый сезон «Гефтера»: критико-культурные диалоги
 4 206
4 206 От редакции: Дискуссия о концепции Глеба Павловского о политизации Системы РФ (Ирина Чечель, шеф-редактор — Глеб Павловский, главный редактор Gefter.ru)
— У меня накопилось несколько вопросов относительно твоих публичных выступлений последнего полугодия. Какие сектора стоит считать вероятными секторами изменений в России? Изменений политического отношения к действительности — возникновения того самого открытого конфликта, о котором ты теперь так часто говоришь. Например.
И еще один смежный вопрос. Мне представляется, что твоя нынешняя концепция «политизации» — это концепция единичного действия. На деле — концепция оппортунизма, исходящего из разрозненных точек, не связанных с объединяющей единой платформой — с институционализацией протеста. Это активность еретиков, одиночек, это активность ряда конкретных акторов, но никак не институциональные спайки, которые так или иначе противопоставляются системе, и точно не фронт, который формирует под себя институциональную среду. И об этом тоже нужно говорить, мнится мне, рассуждая о секторах, которые могут модулировать «систему РФ» и давать ей новую речь.
Мой вопрос очень емок.
Новое, где его искать?
Дело в том, что все отработанные модели воспроизводятся почти на автомате… От майских указов до «#Крымнаш», хоть тот и является моделью ничего другого, а именно того, что тебя интересует — моделью нового и открытого конфликта.
— Я думаю, что центральная иллюзия данной системы, может быть, одна из наиболее центральных — что все остается собой.
Во-первых, так не бывает. Таких обществ просто нет. Цивилизации прилагают большие усилия, чтобы оставаться собой. А мы имеем дело со страной-растяпой, где nation building не ведут и усилий к связности общественного, государственного и языкового пространства не прилагают.
Это значит, что просто мы не видим своего времени. А это само по себе основание встревожиться. Ты пребываешь в таком секторе этого пространства, где отключена от картины происходящего. Ты до нее не можешь дотянуться, доходят какие-то дальние отзвуки. СМИ поставляют подложные картины, которые ты смотришь и оплачиваешь через рекламу тех, кто их ставит.
Где эта стабильная Россия? Я не вижу стабильной страны. Я вижу, что люди разными способами, часто тяжелыми и опасными, зарабатывают что-то, нелегко живут и вступают ради этого между собой в разные сообщества. Которые находятся за пределами законов этого государства и которых оно не признает и не видит. Правда, есть сектор бюджетников, где все чуть более прозрачно. Но прозрачно лишь то, что власть раздает людям. Кроме всего, что украдут по дороге. Но совершенно непрозрачно, чем люди живут.
Марксист ХХ века сказал бы тебе, зачем вообще воспроизводить идеологический текст правящего режима? Он говорит о реальности, а сообщает о том, чего хочет правящий класс от страны. И это еще неплохой подход к ситуации. Поэтому, когда система завтра отключится, ее оформители начнут наперебой объяснять, почему отключение — это правильно и великолепно.
— А чего «хочет правящий класс» от страны?
— Так ведь и правящий класс тоже не состоялся. Ему не дали состояться. Правящий класс ведь не отдельная банда, что носится по ледяной пустыне России, это не ушкуйники. Правящий класс существует в каком-то размеченном государственном политическом и сословном пространстве.
Можно сказать: но Россия существует в мировой среде, и эта мировая среда прямо сейчас переформируется. В переформировании мира Россия участвует только как страдательный фактор. Она плодит хаос, неопределенность и беспорядок, рассчитывая, что останется безнаказанной. В эпоху беспорядка действительно легко остаться безнаказанной. Но это все нам припомнят, когда установится порядок.
В мире с невероятной быстротой идет смена технологических платформ. Масштабная, сопоставимая с модернизацией XX века. Но Россия точно вне этого. Как страна мы в этом не участвуем.
Какие-то уклады возникают при этом — и перед 1917 годом в империи были уклады высокой культуры или эффективного производства. Но я не вижу процесса, который свяжет все эти разбегающиеся тропки. Потому что связь — это политика. В моноэтничном социуме связь могут обеспечивать устойчивые этнические паттерны. Могут обеспечивать институты, good government. Но ничего этого нет. Так что обеспечивает связь?
Гефтер говорил: «Сталин умер вчера». Написано им тридцать лет назад и напечатано в августовском номере «Века ХХ и мира» 1987 года. И для Системы РФ Советский Союз распался вчера, и она все еще здесь. Она так и не отошла от этого места. Кое-как разобрали обломки, подкрасили, привели в порядок. Продали, что можно, проданное поделили. Но никакого стабильного режима здесь нет. Поэтому в отсутствие стабильного режима держатся за миф о Путине.
— Ты, увы, не ответил на вопрос, чего система хочет от страны…
— А Система не хочет ничего. По-моему, в ней этот вопрос слегка абсурден. Ее устраивает этот режим существования. Она знает о стране за пределами власти примерно столько же, как морской еж, сквозь которого проходит морская вода с козявками.
То есть страна просто не является предметом для ее властей. Страна для них равна сумме административных рецепторов, которые ничуть не охватывают реальной жизнедеятельности людей.
— С этим я, пожалуй, соглашусь. Но с таким же успехом можно сказать, что страна не является для нее предметом, но предметом для нее становится мир. И это на нынешнем этапе — секрет Полишинеля. Но когда ты говоришь, что Сталин умер вчера, то есть СССР не ушел сегодня, — то я сразу начинаю внутренне сомневаться в этом тезисе, и вот почему: система, созданная Холодной войной и послевоенным развитием, далеко не предполагала единство параметров развития всего мира, была предельно четко выражена конкуренция систем. А Путин постоянно играет на том, что существует внутренняя, я подчеркиваю, смычка между Россией и Западом: как бы ни повела себя Россия и как бы ни среагировал на это мир. У Кремля есть объяснительная модель, которой, кстати, не было в Советском Союзе — с апелляцией к единству настоящего и будущего при разности прошлого, при всех различиях позиций. И эта модель утверждается на постоянном исключении чувства вины — «политике без вины»… если только мы говорим о вине сколько-нибудь конкретной.
Система РФ, как и любой классический манипулятор, не признает за собой ни единой вины. А почему, спросишь ты? Почему Кремль лихорадочно навязывает очередную искусственную вину очередному «Большому Другому», при этом взывая к его совести? Потому что вопрос вины для него — способ обозначения не различий, а единства. Все виновны, и мы, и Запад, а следовательно, можно не дергаться и заниматься конкретными вопросами. Но чуть что ситуация переворачивается, и перед нами уже несколько подправленный тезис — слушайте, реальной вины не существует, но давайте поговорим о вине символической! Тут сразу оказывается, что претензии Кремля, его апелляции, его новоевропейский клич — не что другое, как требование: «делай, как я, потому что Россия — символ (того-то и того-то) и Запад — символ (того-то и того-то)». Обратим внимание: Кремль ведь не случайно постоянно говорит именно о моральных и культурных ценностях цивилизации? За всем этим в текущий момент стоит, пожалуй, только одно: создание идеологической ситуации, в которой символическая вина на порядки важнее реальной. Условно говоря, Крым мог быть для Путина крушением общерусской цивилизации не потому, что НАТО у ворот, а потому что он имеет для России символическое значение… И всякая реальная вина в этой системе координат — ничто в сравнении с виной символической. Кстати, в этом же идейном котле варятся кремлевские описания Европы, внутри которых Европа теряет значение символа христианской цивилизации… К чему это я веду? Только к тому, что путинские идейные новации обретают смысл только в одном случае: признания ВВП, что Россия и Европа развиваются по одним и тем же лекалам — лекалам морального соответствия недопустимости символической вины при допустимости (и для разных сторон) вины реальной. Тут Путин и ригористичен, и предельно строг. При всем при том единство мира для него, в отличие от советских лидеров, — безусловная данность. Но его вопрос — насколько «все», а не только Россия, моральны и насколько предложенная им мораль может содействовать тому или другому управленческому верховенству…
— В России «мораль» обращена не к человеку, а к следователю, реальному или будущему «прогрессивному». Эй, следователь, проследи, чтобы ценности кто-то не затронул! Это не обращено к человеку, очень важное отличие. Советская система обращалась к человеку, хотя одновременно обращаясь и в КГБ: будь культурным, честным, идейным и не бунтуй — не то посадим.
Часть пакета контролировалась, а часть ты интериоризировал. Ты сам внутренне считал, что должен быть таким, тебя этому учили, потому что «так хорошо». А наша Система — без «хорошо». У нее нет идеи блага, она не обращается с этим к человеку. Ей неинтересно, как ты живешь. Она интересуется, чтобы твое поведение проконтролировали другие.
— Я сейчас говорю именно о системе взаимодействия с внешним миром, когда оказывается, что Европа не соответствует собственным ценностям, вследствие чего должна испытывать муки совести.
— Что да, то да. Мучайтесь, сволочи!
— …И, испытывая муки совести, обращается к тем моделям, которые по достоинству оценены одной Россией, но каким-то образом реализуются нами вместо них… А могут ведь реализоваться вместе с ними! Что за момент! Путин — блюститель морали мира.
— Если бы я хотел быть язвительным, я б сказал, что Путин занимается делами мира, лишь бы не заниматься делами страны. На самом деле ситуация еще глубже. В России традиционно мир является одним из политических предметов. В России есть такой невидимый регион: «Мир». Занятие миром является предметом гордости. Ключевое не то, что Европа должна устыдиться, а что это мы, мы устыжаем Европу! Совершенно как церковные старушки в платочках. Шипят на молодок: ты куда, платок-то повяжи! Эй, погляди, в чем пришла, шлюха!.. Вот Москва Европу стыдит таким образом.
Особенность злой старушки в том, что она себя не видит. Ее совесть носит наружный, вынесенный характер. Но это один из видов деятельности системы. Система воспроизводится так, что, когда ей нечего предложить, она обижается и укоряет. Иван Грозный укорял Елизавету за некоролевское поведение. Какое ему дело, казалось, до того, как ведут себя при дворе королевы? Нет же, укоряя ее, он таким образом подчеркивал свой мировой статус.
Эти наши укоры — политика слабости. Компенсация риторикой отсутствия силы.
— Мне понадобится пояснение: отсутствие силы? Система все время говорит о подвиге.
— Так и старички рассказывают о своих любовных подвигах. Укоряют Меркель и смеются над Обамой. Но «влияют» на них через Путина, конечно. И сила не у тебя — сила в нем. Между прочим, в разговорах с Гефтером я узнал, что, оказывается, до войны нельзя было увидеть в Советском Союзе лозунг «Слава великому советскому народу». Это показалось бы чушью, а человек, который бы это предложил, показался бы идиотом даже сталинисту. Такие лозунги появились после войны, в конце 40-х годов — как элемент соблазнения. Сталин соблазнял причастностью к власти. До войны ему это не требовалось, тогда еще был послереволюционный единый субъект силы. В нем были «враги», которых надо выкорчевывать. Но ты принадлежал этому субъекту по факту. А после войны вернулись люди, которые чувствовали себя достаточно уверенно, чтобы заявить: мы сильны, мы народ! Они-то могли сказать: мы народ. И чтобы они не сказали Сталину в лицо «мы народ», им напели, что они великий советский народ, но среди них есть гнусные еврейские космополиты. На этом Сталин построил всю политику послевоенной дезинтеграции победителей. Очень сложная задача, и то, что он ее решил, даже удивительнее, чем успех террора 1930-х. Он разобщил послевоенное поколение.
— Да, но это старая политическая техника, обрисованная еще Достоевским. Индивидуализация через преступление.
— Я и говорю: появляется великий сильный народ. Но это ничуть не акт силы. Это акт отнятой силы. Ты великий советский народ, только вся сила — в товарище Сталине. Она не твоя! Это важный момент.
Ты не можешь сегодня оценить на деле, есть вообще эта сила или нет. Тебе ставят постановки — «Россия запросила право на пролет своих ракет над Ираком и Ираном».
— И постановок все больше. Чуть не критическая масса артистизма. Не понимаю, с чем это связано, потому что постсоветская система вроде бы всегда была артистичной. Но градус артистизма очень вырос за это лето. За последние полгода — фантастически.
— Особенно после Сирии, даже не Украины. Потому что Украина не была артистичной. Артистичным был Крым, безусловно. Короткий, яркий — вежливые люди, отглаженные рубашки, ни единого выстрела, внешне все артистично.
Потом в Донбассе начались очень некрасивые вещи. Зато Сирия, когда взлетали ракеты Каспийской флотилии и парили в голубом небе… То, что затем они падают на бедуинов, нас естественно не волнует: бедуины — какое нам до них дело? Их не жалко.
Я думаю, что артистизм предъявления силы… Демонстрации силы верней — потому что предъявление силы требует силы реально, а демонстрация — не требует. Можно провезти муляж ракеты по Красной площади. Это стало важным моментом. Он перерастает в то, что я описал в «Войне 14-го года» — Путина, который играет на глобусе, как на рояле, упиваясь собой. Играя так, можно доиграться. В какой-то момент — и всегда не с той стороны, откуда ждал, Эрдоган это показал — может прилететь «ответка».
— Да, кстати. Эстетика на вынос.
— Легкость отрыва. Крышу снесло, и она кувыркается высоко в синем небе. Это безысходная стратегия, но она годится в качестве временной. Пока все следят за кроликом, извлеченным из цилиндра, фокуснику надо быстро решить что-то реальное. Но я не вижу, чтобы реальное делалось. Я вижу все более жирных кроликов, извлекаемых из пустеющего цилиндра. С постоянной обидой — вы нас не цените. Я заглянул в пару мест его выступлений перед послами…
— Но ты подметил, что фактически вина за наши и их действия приписывается только одному действующему лицу, Западу? И это принципиально. Если раньше то, что ты описывал в книгах, было связано с экспромтом — с демонстрацией силы, которая формируется и питается то ли импровизациями, то ли опережением, — то сейчас подобная сила формируется манипуляциями с чужой виной. Не понимаю, как это возможно в политической действительности.
— В волшебном театре возможно всё. В чем дело? И я бы не стал говорить о реальной силе при виде агрессивно-оборонительной позиции. Еще Гефтер предупреждал, что в РФ может возникнуть «агрессивный изоляционизм». Он и это угадал, еще в 1994 году.
Позиция здесь — не позиция силы, а позиция исключения полноценной коммуникации за пределами прямых интересов. Либо на Западе вы разговариваете с нами о наших текущих интересах — тогда еще, возможно, мы захотим с вами говорить. Может быть, даже о ваших интересах согласимся. Но разговор не об интересах нам скучен. Так что мы будем вас троллить и пародировать. Важный элемент этого сознания — постоянная внутренняя отсылка к тому, что якобы я делаю то, что «они делают со мной».
— Они делают со мной, я делаю с ними, но все это какая-то не в меру затянувшаяся рукопашная — политика «дашь на дашь».
— И американская кампания оказалась нам подарком. Вдруг впервые с 1940-х Россия попала в центр американских президентских выборов. Это засчитали себе за победу, и чудовищно питает «эго». Также дает повод для обид — ах, нас уличают в том, чего мы не делали! А если мы и делали, вы не могли этого знать!
Это осознание все время приглашает блуждать в его образах, снах, фантомах. Очень опасно в них погружаться, выйти трудно. Бесконечно обсуждают тени, оттенки, ходы сюжетов этого сериала. Пробы прошлогодней мочи.
Но из чего вообще следует, что это значимо?
— Ты же не говоришь о системе? Ты говоришь об отклике на нее. В чем она срабатывает фактически, и как она сама себя строит.
— Я не уверен, срабатывает ли.
— Если возникает столь конспирологическая система взаимодействия с США — значит, «есть контакт».
— Это как в фильме «Хвост виляет собакой». Америке срочно понадобился «фактор Икс» в ходе избирательной кампании, в фильме это была Албания, а в 2016-м это Россия. Заметь, нас втащили: муляж России привлекли к американской кампании. Построить муляж — известная политтехнологическая игра. Они воспользовались тем самым пузырем всемогущества, который в мировых СМИ долго надувала Москва. А история с допингом достроила образ Доктора Зло, такого и режиссер Левинсон не придумал бы. Шпионы, переливающие мочу из пробирок!
Я не хочу обсуждать каждый зигзаг Системы. Я хочу понять, где предел зигзагов, где ограничения… Где борта?!
— Ты же это и делаешь, говоря, что наступит политизация? Тогда реальная политика, прошу прощения за скрытую цитату, докажет свою мощь. Что ни говори, но обозначаемое тобой как политизация — только неспособность и дальше централизованно гасить конфликты.
— Да, политизация — это неспособность скрыть конфликты, что правда. То, что мы сделали в десятилетие нулевых, конечно, было «конфликтодробилкой». Изгнание конфликтующих, всех, кто не хотел помириться за сценой и выносил спор на публику.
— Но сейчас проблема встает еще и так: посткрымская система, больше входящая в силу, — это система миражей, не предполагающая никаких жестких дифференциаций. И сословных, и любых.
— Да, она не предполагает жестких дифференциаций. Более того. Когда в ней возникает подозрение, что какие-то статусы, ею созданные, могут стать ей ограничением, она их отменяет. Статус Бельянинова и Иванова был не просто упразднен для них — их самих упразднили вместе со статусом «Старых верных друзей».
Это же был целый государственный институт! И его нет. Правда, низвержение Медведева подломило этот институт. Потому что человек, который, как в романе Оруэлла, будучи низвергнут, далее мирно работает премьером, — это человек, полюбивший Большого Брата. Теперь он может пить свое пиво. Но дальше уже все — где статус? Статуса нет. Если статуса нет у Медведева, почему он должен быть у Иванова? А раз его нет и у Медведева, и у Сергея Иванова, то, видимо, и института верных друзей больше нет.
Система сожрала все. К чему это ее привело? Она станет чуть более подвижной, ведь теперь можно есть своих. Раньше не могла, а теперь может, коль проголодается. Вот и губернаторы у нас уже сидят. Друзей у Системы больше нет. Это новое ее качество. Сдерживание внутри страны отменено.
Но это ход к итоговой пустоте, в которой она все-таки должна будет самоопределиться.
— Ты ведешь речь лично о Путине или о политической структуре в целом?
— Мне Путин в этом контексте не очень интересен. Все эти гадания, что происходит с человеком внутри системы — ясно, что-то нехорошее происходит. Но нехорошее происходило с очень разными людьми. И с царем Иваном Грозным, и с царем Александром Благословенным. Идет опустошение, исчезает гибкость, эмпатия, и растет опасность личных свойств человека для системы.
— И основной угрозой становится то, что система не видит угроз для себя?
— Да, угрозой Системы является ее хозяин. Совокупный хозяин — одновременно ее господин и угроза ей. Потому что Систему он рассматривает как личный ресурс. Она его инструмент, его личное средство передвижения.
— То есть если раньше тестировали население, как это говорилось, народ, условно, то сейчас система, как преткнувшийся слепец, все больше ощупывает сама себя — находится ли она в том же месте.
— Ну да. Но дальше можно представить разные варианты. Например, можно представить, что, когда у первого лица возникнет чувство якобы полностью отстроенной системы, он может потребовать от людей формальной лояльности по отношению к ней. И на этом все кончится.
— Не понимаю!
— Требовать мобилизовать каждого — сейчас это не нужно. Караются выходки в адрес системы, но в общем лояльности она не требует. А ведь можно потребовать. Или наоборот: власть может спровоцировать фиктивный «суд народа» над Системой. И далее, как Эрдоган делает, — вычистить лишних. Вот другая версия. Она более сложна, более сталинская по типу. Зато порождает и более сильные энергии. Это как бы эрзац революции.
— Сверху?
— Да. Вам, народ, Система не нравится? Она вас раздражает? И меня тоже она раздражает! Давайте, братва, ее встряхнем и прочистим с песочком. Но повторяю, вероятен другой вариант, более бюрократизированный, в стиле Николая I. Все должны будут присягнуть этой системе в этом ее виде. Что станет ее завершением. Путин ведь идет к завершению своего дела, увенчанию ее. Раз мы построили великую Россию, давайте-ка все теперь ей присягнем. Я не знаю, как это может выглядеть. Как-то может.
— Но это же присяга на верность, которая не связана с каким-то представлением о социальном или личном выборе. Потому что ты должен быть верен в любой ситуации, какая ни будет тебе предложена. Это предварительное согласие на многое, если не все.
— Это породит, естественно, другой тип связи. Когда твой сосед является, как и ты, агентом Системы, но при этом вы оба противопоставлены друг другу.
Разве здесь что-то небывалое? Мы в 2014 году наблюдали, как порча росла и ширилась взрывным образом. Когда в метро люди делали замечания говорящему по телефону что-то, что им не по душе: Эй, тебе что, Путин не нравится? Что это ты там говорил? Немыслимое дело за год до этого. Можно и эту энергию испытать. Но варианты не так сильно отличаются в функциональном отношении. Когда начинается суд народа над Системой, тоже возникает система перекрестного наблюдения. Кто таков, кем доводишься тому-то и так далее. Но самое интересное было бы рассмотреть некатастрофические ходы: есть ли они вообще у нашей Системы? Если не человечный выход, но хотя бы не кровожадный, не сверхрискованный. При сохранении в каком-то смысле самой себя.
— Но это же не будет пользоваться популярностью?
— Почему? Не факт. Сегодня трудно представить ситуацию, которая наиболее вероятна, — что эта Система будет демократически продолжена. Представь себе, что на демократических выборах она получит новый мандат! Вот интересный момент.
Есть ли у нее выход, не требующий переформатирования? Вот что интересно. Ведь это власть создает такой образ себя, что никто не видит для нее эволюционного выхода. Это же она загромождает мозги форсированными картинами своей мощи, всесилия и полноты.
— Такое ощущение, что она не может остаться наедине с собой — и все время существует в постановочном режиме. А чтобы остаться наедине с собой, надо хотя бы понять, что любая политика немыслима без трагизма. Куда делась у нас трагическая политика, в античном смысле? Протагонисты теперь все больше картонные — из папье-маше…
— Отчего ж — мы были «наедине с собой» в период управляемой демократии. Когда система табуировала поиск врага. Выйдет, допустим, Лимонов на демонстрацию, его побьют, но он же все равно не считался врагом. Он лишь нарушитель правил политической тишины и попадет в автозак. Если не знаменит, как Мохнаткин, — могут и закатать на несколько лет. Но Мохнаткин все равно при этом не считался ни врагом, ни «агентом Обамы». Это было интересное время. Может быть, впервые за столетие Россия прожила десятилетие без врага. Совершенно исключительный период. Притом, период невероятной уверенности в себе: Система была наедине с самой собой, и ей было хорошо. Хотя не всем одинаково, конечно. Что окончилось, как известно, в 2011 году.
— А не кажется ли тебе, что Медведев создал приводные ремни для выскочившей невесть откуда идеологии вражды? Как это могло случиться? Я об этом раньше не думала, пока ты сейчас не стал об этом говорить. Дмитрий Анатольевич стал повивальной бабкой делиберализации.
— Повивальной бабкой точно стал, но не он был создателем гадкой идеи врага. Да, все произошло в горниле декабря 2011 года. От «рокировки» — к «Болотной»: враг появляется. Еще в январе 2012-го его толком нет, а в феврале он уж тут как тут. «Внутренний враг» — вот на чем проводит избирательную кампанию Путин. Тогда еще слабенький враг, теоретический. Для его фальсификации достаточно Кургиняна и Дугина. После их уже будет недостаточно.
Сейчас Система в том режиме, в котором она существует сегодня, — это мотор эскалаций. Система форсажа. Система, щеголяющая непредсказуемостью. Система артистизма, жеста, экстремального действия. Она ведет себя, как очень-очень злой клоун. Надо изучать, какие из структур повседневности остались прежними и какие изменили режим. Но на выходе это другая Система, и ей будет трудно войти в берега.
Но заметь, тоже не впервые. Гефтер — автор странной для многих формулы, тогда никем из историков, кроме Олега Хлевнюка, не принятой: сталинская оттепель 1934–1936 гг. Где возникла возможность сталинистской нормализации. И именно потому, что началась спонтанная нормализация системы, в ответ на ее же энергиях Сталин запустил террор. Большого террора не было бы без полудемократической Конституции 1936 года. Чтобы остановить эту ползучую нормализацию, которую Сталин понял как десталинизацию, он запустил чудовищную машину террора.
Так же и с Медведевым. Медведевская «модернизация» и «креативный класс» — все это безумно недотягивало до должного уровня — до новой политики. Ведь всему страшились давать ход. Пусть будет креативный класс, только мы его никуда не пустим. Чтоб он у нас жил на «Красном Октябре» и в Институте «Стрелка». Раз не пошло далее — отсюда неизбежно пойдет путинский откат. Я думаю, что реакционная политика Путину и в голову бы не пришла без провала медведевской, сказал бы Гефтер, «протоальтернативы».
— Комментарий не к месту: можно эту «модернизацию» уравнять с депутинизацией?
— Отчасти она ею была, но не захотела ей стать. Конечно же, субъективно Медведев не хотел депутинизации. Как и люди 1935 года не желали десталинизации. Они любовались Сталиным и считали, что, опираясь на него, теперь, раз уж они победили, можно строить нормальную жизнь. Кто вправе нормализовать страну, если не победители? Вот что не подходило Сталину.
В 2011 году был миниатюрно сходный момент. Конечно, эти наши демонстрации, если вдуматься, в качестве пугала власти просто смешны. И уже с Рождества пошли на спад. Когда критик Артемий Троицкий выступал в театральном костюме, а Олег Кашин плохо пел — это все смешно, это не было никому угрозой. Но именно потому, что оно не дотянуло до альтернативы, Кремлю теперь надо было его укрупнить — реакцией.
Отсюда постановочный момент 2012 года, когда кто-то спросил: так что, Владимир Владимирович, будете закручивать гайки? И Путин сказал: пожалуй, кое-что придется прикрутить. Это новое, этой фальш-ноты у него раньше просто не было. Февраль или март 2012 года.
Так что Медведев, «тандем» и «рокировка» сыграли тяжкую непроясненную роль в фашизации Системы.
— Один член тандема сыграл в детонатора?
— «Тандем» развалил путинский консенсус. Это очень странно, но именно тандем его развалил. После тандема собрать все в прежнем виде не удавалось, а двинуться вперед побоялись. Пошли искать в обратную сторону, и активизировались те свойства Системы, которые тоже были в ней. И ее импровизационная подвижность, верткость пошла по людям. И замещение медийными образами политики — все в отдельности существовало.
— Кроме врага?
— Да. И наша верткая система нарисовала «врага» на себе самой. Нарисовала врага и стала за ним охотиться. Но и тут момент, когда в 2013 году враг начал было иссякать. Систему опять потянуло к нормальности. В 2013 году история с Навальным, его арестовали, уже дали срок, а после вдруг отменили и выпустили. Сбежалось 30 тысяч людей на Тверской в его поддержку. Но эта предолимпийская либерализация показала, что — нет, не получается, недостаточно. Зато украинский форсаж был достаточен. Так и не остановленная за сто лет революция, как Гефтер говорил, в России вернулась к нам с Украины. Ферментом нацификации.
— Что ж, no comments, спасибо!


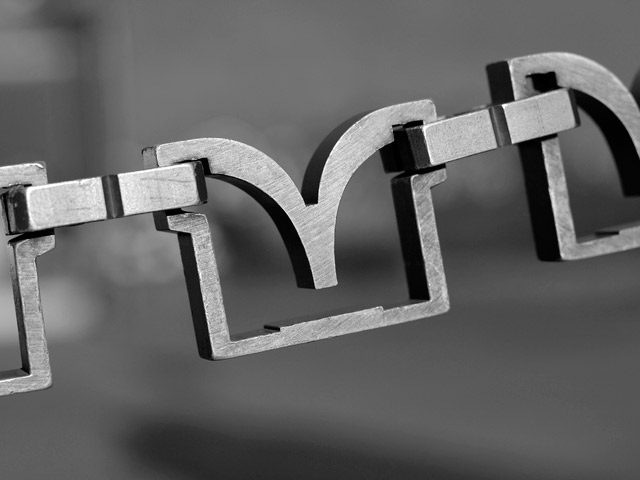


Комментарии