Александра Брэднер
Новые достижения экспериментальной эпистемологии
«Экспериментальная философия» против кабинетной. Эпистемология в меру «восприятия»?
 2 785
2 785 
© Оригинальное изображение: Dimitry Franck
Рецензия на книгу под ред. Джеймса Р. Биба «Новые достижения экспериментальной эпистемологии» (J.R. Beebe (ed.). Advances in Experimental Epistemology. Bloomsbury, 2014. 210 p.).
«Новые достижения экспериментальной эпистемологии» под редакцией Джеймса Биба — первая антология, целиком посвященная экспериментальной философии знания. Эта книга — обязательное чтение для исследователей, которых занимает роль практических рисков (stakes) и возможности ошибки при процедуре атрибуции знания — в частности, то, как учет рисков и ошибок эпистемического контекста может повлиять на выбор между семантическим контекстуализмом (Cohen 1999, DeRose 1992, 1995) и инвариантизмом, чувствительным к субъекту знания или даже исходящим из обусловленности знания интересом (subject-sensitive/interest-relative invariantism) (Stanley 2005, Hawthorne 2004). В частности, несомненный интерес для экспериментальных философов, находящихся в поиске новых материалов и задач, представляет очерк «Семантическая интеграция как метод исследования понятий» Дерека Пауэлла (Derek Powell) и др., а статья Джонатана Вайнберга (Jonathan Weinberg) «Потенциал экспериментальной философии и умозаключение “по сигналу”» обогащает продолжающуюся метафилософскую дискуссию о том, что экспериментальная философия может добавить к традиционной кабинетной философии.
В томе собран материал по вопросу о зависимости атрибуции знания от локальных деталей. В большинстве исследований респондентов просили отреагировать на серию гипотетических ситуаций — т.н. «виньеток» (vignettes), в которых задействовано от одного до трех «локальных факторов», таких как практические риски и/или вероятность ошибки. После того как участники исследования прочитывали каждую из «виньеток», их просили оценить по шкале Лайкерта степень своего согласия или несогласия с утверждением, атрибутирующим знание т.н. «протагонисту виньетки». Сравнивая ответы о протагонистах различных виньеток, можно установить, существует ли корреляция между, к примеру, изменениями практических рисков и желанием участников приписать знание тому или другому «протагонисту виньетки». Отметим, что исследование проводилось не в форме опроса, когда ответ участника рассматривается как голос, поданный за ту или иную философскую позицию. Нет, то был контролируемый эксперимент, требующий выявлять «регулярное эмпирическое отношение» при прочих равных между «двумя наблюдаемыми параметрами», в данном случае — между описанием исследователями практических рисков и произведенной участниками атрибуцией знания. Выяснилось, что участники с большей вероятностью будут атрибутировать знание «протагонисту» в тех сценариях, когда практические риски низки и практическая цена ошибки мала. Интуиция подсказывает, что в этих сценариях знание получить легче, так как требуется меньше доказательств (evidence). Такое предположение напугало бы эпистемических пуристов: они-то точно не считают, что соображения практического интереса должны значиться среди условий истинности фрагментов «знания»; для них одна лишь сила доказательства должна определять, знающий ли это субъект.
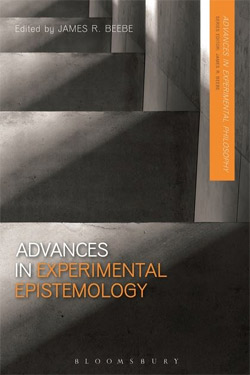 В статье «Экспериментальные свидетельства в пользу антиинтеллектуализма в отношении знания» Анхель Пинильос (Ángel Pinillos) и Шон Симпсон (Shawn Simpson) применяют замеры поиска доказательности (evidence-seeking probes) для исследования эпистемического уровня доказательства, необходимого, чтобы атрибутировать знание в ситуации меняющихся практических рисков. Их второй эксперимент включает два условия высоких рисков, при которых в случае ошибки протагониста самолет могут угнать террористы, и два условия низких рисков, при которых в случае ошибки протагониста располагающий к себе человек будет продолжать свое путешествие на самолете в салоне второго класса вместо того, чтобы перейти в первый. Полученные результаты противоречат результатам исследований «негативной первой волны» (Buckwalter 2010) и показывают, что практические интересы играют роль в повседневной уверенности в знании (folk knowledge ascription): рост рисков коррелирует с ростом требований к доказательствам, и участники требуют, чтобы протагонист перепроверил свою работу по крайней мере еще дважды в условиях высоких ставок, тогда как в условиях низких ставок требуемое число дополнительных проверок 1,6 (p. 21).
В статье «Экспериментальные свидетельства в пользу антиинтеллектуализма в отношении знания» Анхель Пинильос (Ángel Pinillos) и Шон Симпсон (Shawn Simpson) применяют замеры поиска доказательности (evidence-seeking probes) для исследования эпистемического уровня доказательства, необходимого, чтобы атрибутировать знание в ситуации меняющихся практических рисков. Их второй эксперимент включает два условия высоких рисков, при которых в случае ошибки протагониста самолет могут угнать террористы, и два условия низких рисков, при которых в случае ошибки протагониста располагающий к себе человек будет продолжать свое путешествие на самолете в салоне второго класса вместо того, чтобы перейти в первый. Полученные результаты противоречат результатам исследований «негативной первой волны» (Buckwalter 2010) и показывают, что практические интересы играют роль в повседневной уверенности в знании (folk knowledge ascription): рост рисков коррелирует с ростом требований к доказательствам, и участники требуют, чтобы протагонист перепроверил свою работу по крайней мере еще дважды в условиях высоких ставок, тогда как в условиях низких ставок требуемое число дополнительных проверок 1,6 (p. 21).
Критики отмечают, что участники опросов Пинильоса и Симпсона, имея в виду возможные последствия ошибки в оценке знания протагониста, в первую очередь думают о его ответственности, а не о том, что в данном случае означает само слово «знает» [1]. Как пишут Уесли Бакуолтер (Wesley Buckwalter) и Джонатан Шафер (Jonathan Schaffer) (2013), «любой согласится, что практические следствия ошибки важны, когда речь идет о том, как нужно действовать, рассуждая с нормативной точки зрения». В своем третьем исследовании Пинильос и Симпсон утверждают, что их предыдущие эксперименты все-таки касались понятия знания: даже если участники полагали, что отвечают на вопрос, что следует делать протагонисту Джесси, этот вопрос требует от участников подумать, сколько раз протагонист Джесси должен проверить список пассажиров самолета: в какой момент можно уже сказать, что Джесси уже обладает знанием. Фактически, когда участники утверждают, что Джесси должен изучить пассажирскую ведомость еще 1,75 раза, чтобы убедиться в своей правоте, их ответ на вопрос эксперимента состоит в том, что Джесси нужно изучить пассажирскую ведомость еще 1,87 раза, чтобы в глазах обычного человека выглядеть знающим (p. 27). В силу того, что средние показатели ответов участников на нормативный наводящий вопрос и на наводящий вопрос о знании протагониста (the normative prompt and the knowledge prompt) коррелируют во всех четырех условиях, Пинильос и Симсон убеждены, что у нас есть все основания полагать, что субъекты придерживаются «принципа знания как основания действия» (Reason-Knowledge Principle — RKP), формулируемого примерно так: можно считать суждение p основанием для действия, если вы знаете, что такое p. Джесси нужно еще примерно дважды проверить список пассажиров, чтобы поступить правильно, потому что ему нужно еще примерно дважды проверить список пассажиров, дабы знать. Конечно, данные этого третьего исследования могут быть использованы в качестве ответа критикам, однако авторам будет трудно доказать, что эти данные подтвердят «потому что» в предыдущем предложении.
В «Тайне рисков и ошибки в интуициях приписывающего» Бакуолтер также выражает обеспокоенность тем, что исследования Пинильоса и Симпсона мало что сообщают нам об использовании понятия «знание», так как участники не проводят различия между словами «знает», «полагает» (believes), «предполагает» (guesses) и «надеется» (p. 160–162). Практические риски играют важную роль в атрибуции знания субъекту, но его роль остается неизменной при приписывании ему и других ментальных состояний [2]. Далее Бакуолтер ставит под сомнение влияние практических рисков на обыденную оценку предложений знания, сформулированных от третьего лица, варьируя речевые акты протагониста и делая более заметной (making salient) возможность ошибки. На всех уровнях рисков, когда акцентируется возможность ошибки, участник склонен сообщать, что утвердительное высказывание протагониста «я знаю» ложно, а его отрицательное высказывание «я не знаю» истинно (p. 156). Но форма речевого акта имеет куда более отчетливое воздействие на приписывание протагонисту знания, чем практические риски или вероятность ошибки, что Бакуолтер приписывает «принятию» (accommodation) (p. 152, 156): «Истинными признавались скорее предложения знания, содержавшие утверждение, независимо от того, каковы были практические риски кейса или вероятность ошибки, нежели предложения знания, включавшие отрицание» (p. 154) [3].
Пинильос и Симпсон отвечают Бакуолтеру в типичной манере экспериментальных философов — X-phi — еще одним исследованием. Они просят участников одновременно отвечать на вопросы с использованием слов «надеется» и «знает». Когда участников просили ответить на подобные вопросы последовательно, в том-то или том-то порядке, возникало статистически важное различие. Средний показатель ответов со словом «знает» располагался в верхней трети шкалы, тогда как средний показатель ответов с «надеется» — между средней и верхней частями шкалы (p. 34). Протагонисту требовалось меньше доказательств для того, чтобы «надеяться», что он не сделал опечаток, нежели чем для того, чтобы «знать», что он не сделал опечаток в условиях как низких, так и высоких практических рисков; но эффект практических рисков сохранял свое действие в условиях, когда использовалось слово «знать». Это свидетельствовало о том, что чуть только участники видят расположенные рядом термины «надеется» и «знает», они проводят между ними различие. Когда им дают понятия контрастной группы, они предполагают, что исследователь пытается задать два разных вопроса, и соответственно действуют так, чтобы его к себе расположить [4].
В продолжение темы Нэт Хэнсен (Nat Hansen) анализирует серию мастерских экспериментов, проведенных Марком Феланом (Mark Phelan) (2014), обнаружившим, что эффекты практического интереса появляются в интра-индивидном планировании (within-subject designs), в которых каждому участнику предъявляется каждое из имеющихся условий, но исчезают в интер-индивидных планах (between-subject designs), в которых каждому участнику предъявляется лишь одно из имеющихся условий. Философы, читающие эпистемологические тексты, переживают контексты сообща, подобно тому как это и происходит в интра-индивидных планах. Так, данные Фелана подкрепляют вероятность того, что философы «ошибочно предлагают теории, призванные объяснить то, что оказывается всего лишь артефактом их конкретного планирования, а не фактом, касающимся суждений, формулируемых в обычных обстоятельствах» (p. 78–79).
Критики могут возразить, что эффекты практических рисков подлинные, а не искусственные. Просто когда контексты оцениваются по отдельности, практические риски не так различимы (not salient), так как не являются привлекающей внимание чертой контекста. Но Фелан не принимает такой ответ, так как он смог, рассматривая контексты по отдельности, выявить фактор, равный по значимости практическим рискам, — эффект надежности. Возражение Хэнсона состоит в том, что практические риски и надежность проявляются не в зависимости от степени заметности (salient): оценить риск в единичном контексте сложнее, чем оценить надежность источника информации в единичном контексте, потому что в интра-индивидном плане, где участники схватывают всего одну виньетку, не существует шкалы оценки рисков. Напротив, «надежность источника информации имеет четкую верхнюю и нижнюю границу: источник может быть надежным на все сто процентов или не вызывать никакого доверия» (p. 83–84). Хэнсену удается обосновать необходимость равноправной альтернативы, но для того чтобы доказать свою точку зрения, ему приходится обратиться к тому факту, что в большинстве виньеток, считающихся виньетками с высокими рисками, протагонисту грозит либо его собственная смерть, либо смерть члена его семьи. Даже ухватив всего лишь одну виньетку, участники понимают, что риски очень высоки, а это, по крайней мере, задает верхнюю планку шкалы.
Джошуа Александер (Joshua Alexander), Чэд Гоннерман (Chad Gonnerman) и Джон Уотерман (John Waterman) проверяют идею Дженифер Нагель (Jennifer Nagel) (2010) о том, что в том случае, когда акцентируется возможность ошибки, участники эксперимента оказываются эгоцентристами. Их требование — чтобы протагонист виньетки среагировал на возможность ошибки: «Приковывая внимание к детали, мы уверены, что он, подобно нам, обеспокоен и соответственно не способен действовать» (p. 100). Психология участника эксперимента уязвима перед лицом контекстуальной детали (например, шанса ошибиться), но его понятие о «знании» не дает ее разглядеть. В своем втором исследовании авторы вводят вариативность в отношении того, кто осведомлен о наличии дисквалификатора (defeater) — протагонист и участник или же только участник, а также в отношении эпистемической энергии далеко не участника — протагониста: «рассматривает» ли протагонист всерьез возможность своей неправоты или же это для него всего лишь «нейтральная» возможность. Во всех четырех ситуациях участники отказываются занимать определенную позицию относительно того, «знает» ли что-то протагонист, но при этом их показатели относительно его позиции одинаковы «по эту сторону баррикад» (p. 104–105). Участники тестируют протагониста по одному и тому же эпистемическому стандарту независимо от того, осознает ли он возможность ошибки, что, по всей видимости, согласуется с идеей Нагель.
Чтобы убедительно показать, что участники, читающие кейсы рассказчика, являются эпистемическими эгоистами, отказывающимися приписывать знание протагонисту на основании своей осведомленности о возможности ошибки, авторам понадобилось продемонстрировать, что участники были способны различать позицию рассказчика и позицию субъекта в этом интер-индивидном экспериментальном плане. Иными словами, виньетки рассказчика, возможно, должны были изначально быть более эксплицитными: «В качестве внешнего наблюдателя вы знаете, что белый стол при красном освещении выглядел бы совершенно так же, как и при обычном. Но с позиции Джона возможности ошибки не существует. Вероятность того, что стол может казаться красным, но в действительности быть белым, для Джона вне обсуждения». Участникам задавался следующий вопрос: «В какой степени вы согласны или не согласны, что Джон со своей позиции знает, что стол красный?» Это может поднять показатели оценки знания протагониста в тех случаях, когда имеется рассказчик виньетки как некоторого курьеза. Инвариантисты заподозрили бы, что за этими коррективами стоит нечестная игра против инвариантизма, но отказ от них нечестен уже в отношении ему несоответствующего — его альтернатив.
В «Победителях и проигравших в лотереях обыденной эпистемологии» Джон Тарри (John Turri) и Ори Фридман (Ori Friedman) проводят пять экспериментов с целью выяснить, почему некоторые формы обоснования более убедительны, чем другие. Согласно догадке эпистемолога, свидетельское показание (testimony), по всей вероятности, побьет по показателям статистическое мышление: в «скептическом суждении о лотерее», даже если весьма велик шанс, что билет проигрышный, владелец билета верит, что он проигрышный, и билет на деле проигрышный, люди скажут, что владелец билета не может знать, что билет проигрышный. Однако в «нескептическом суждении о лотерее», если радиокомментатор сообщает, что билет проигрышный, владелец билета верит, что он проигрышный и билет на самом деле проигрышный, люди скажут, что владелец билета знает, что тот проигрышный. По всей видимости, свидетельское показание провоцирует (triggers) приписывание знания протагонисту при доверчивости (нескептическом характере) суждений о лотерее. Но даже огромные шансы того, что билет проигрышный, не создают приписывания знания при скепсисе в отношении лотереи.
В первых двух экспериментах авторы обнаружили, что нефилософы фактически разделяют и скептическое, и нескептическое суждение о лотерее. Более того, хотя эпистемологи доказывают, что наличие шанса ошибиться должно препятствовать приписыванию знания в кейсе «Шансы и новости», включающем как статистическую, так и свидетельскую формы обоснования, 66 процентов участников сообщают, что протагонист «знает», что билет проигрышный, притом что 90 процентов сообщают, что есть шанс ошибиться (p. 52). Статистическое мышление приводит к соображениям о возможности ошибки, но привлечение свидетельского показания перекрывает эти соображения и тотчас инициирует приписывание «знания». Чувство связи с другим человеком, сопутствующее свидетельскому показанию, возможно, является более сильным двигателем атрибуции знания — большим, чем наличие или отсутствие шанса ошибиться (а оно сопровождает наличие/ отсутствие статистического мышления).
В четвертом эксперименте авторам удалось поднять показатели приписывания знания в статистических условиях за счет отказа от виньеток о «лотерее» в пользу виньеток о «вероятности» того, что «серийный номер долларовой банкноты обнаружит совпадение» с номером телефона Обамы / Брэда Питта. Авторы выдвигают гипотезу, что «шаблонная формулировка» кейсов лотереи объясняет разницу в показателях (p. 59, 66). Но более пристальный взгляд на виньетки с Обамой и Брэдом Питтом уже выявил, что во многих случаях роста показателей в статистическую историю привносились человеческие свидетельства — в форме вечерних новостей или Стэна. Только в кейсах «Шансы государства» versus «Мафия» статистика била свидетельские показания, и это может объясняться общей подозрительностью участников по отношению к мафии.
Дэвид Сэкрис (David Sackris) и Биб предлагают три опроса в подтверждение тезиса Криспина Сартвела (Crispin Sartwell) о том, что в действительности множество людей готовы атрибутировать знание в отсутствии (подлинного (authentic)) обоснования. На основании второго исследования авторы получили возможность проанализировать, каким образом две переменные воздействуют на атрибуцию знания: 1) как знание было получено (например, a priori или a posteriori) и 2) момент, когда протагонист получал знание (например, во время переживания обмана чувств (delusion) или после него). Но они ограничиваются заключением, что во всех пяти кейсах обоснованных истинных убеждений «демон/сон» 54,4 процента участников были готовы приписать знание протагонистам. Наивысший средний показатель был 4,85 — между 4 «отношусь нейтрально» (neither agree nor disagree) и 5 «в какой-то мере согласен» (slightly agree) по шкале Лайкерта (p. 187).
Учитывая результаты исследований Тарри и Фридмана, трудно определить, выглядит ли свидетельство демона для участников как недостаток подлинного обоснования (как надеются авторы) уже потому, что свидетель — демон, либо как подлинное обоснование (что было бы тревожным сигналом) только потому, что это свидетельское показание [5]. Но еще важнее, что из-за отсутствия ряда контрольных условий исследования не продемонстрировали, что атрибуция знания нечувствительна к присутствию или отсутствию (подлинного) обоснования в контекстах, в которых протагонисты имеют истинные убеждения. Чтобы разрешить это затруднение, авторам пришлось бы придумать эксперимент, в котором протагонист, как минимум, имеет обоснованное истинное убеждение в одной виньетке и лишь истинное убеждение в другой. Тогда бы они могли добавить виньетки с демонами, снами и противостоящими свидетельствами (countervailing evidence). Однако предлагаемое исследование — это лишь первый смелый шаг. Если приписывание знания на самом деле нечувствительно к наличию или отсутствию обоснования, то будущие исследования в этой области могли бы обогатить социально-политическую сферу объяснительными моделями с большим потенциалом.
Дерек Пауэлл, Зэкэри Хорн (Zachary Horne) и Пинильос обращаются к проблемным вопросам, касающимся инструментов исследования, и предлагают новый способ идентификации понятий, связанных с понятием знания. Во время обработки лингвистической информации в долговременную память кодируются глубинные значения, а не оригинальные формы, что означает, что люди лучше извлекают из памяти семантическую информацию, чем дословные высказывания. Когда участникам эксперимента предлагают некоторый список слов, например «стекло», «панель», «штора», они позднее вспоминают слово «окно», хотя его не было в списке; «слова из списка семантически активируют слово “окно”… они служат причиной того, что люди формируют или извлекают из памяти хранящиеся там ментальные репрезентации, ассоциирующиеся с этим словом» (p. 126).
Используя модель обработки лингвистической информации, разработанную Дедре Джентнер (Dedre Gentner), Пауэлл и др. выявили, что, когда участники эксперимента видели в тексте критический (critical) глагол «думал» в сочетании с понятиями истины, обоснования и убеждения, они потом чаще ошибочно вспоминали понятие знания в качестве целевого (target concept) (например, использовали слово «знал»), чем они это делали в контрольной ситуации, когда они видели в тексте критический глагол «думал» в связке только со словом «убеждение» (p. 132). Во втором исследовании участники были более склонны ошибочно вспоминать глагол «знал» в ситуации истинного обоснованного убеждения по модели Геттиера, нежели чем в ситуации ложного убеждения (p. 133). Авторы считают, что их исследования подкрепили тезис о том, что обычные люди (folk) придерживаются традиционного понятия знания как подтвержденного истинного убеждения (justified true belief — JTB). Но создается впечатление, что полученные ими результаты в большей степени подкрепляют тезис Сэкриса и Биба о том, что в приписывании знания истина имеет более существенное значение, чем обоснование, все равно подлинное или неподлинное.
В своей ранней работе Джесси Принц, проводя различие между экспериментальной и эмпирической философией, отметил, что помимо опроса существуют и другие методы, которые экспериментальная философия могла бы использовать для исследования корреляций между обыденными понятиями и/или терминами (Prinz 2008, 203). C тех пор экспериментальные философы провели серию исследований, не основанных на опросах; среди них — исследования времени реагирования с перцептивно-моторными задачами (Arico et al. 2011, Guglielmo and Malle 2010) и исследования, в которых анализу подвергаются вербальные протоколы как реакции на зрительные стимулы (Chin-Parker and Bradner 2010). Проведенное Пауэллом и др. изучение ошибочного припоминания прекрасно вписывается в этот новый плюралистический методологический ландшафт.
Экспериментальная философия выдвигает два имплицитных притязания: a) что эмпирическое отношение, установленное между двумя наблюдаемыми величинами, дает нам некоторое представление о том, как философские понятия (например, знания и практических рисков) понимаются и используются на обыденном уровне (odinarily) в социальном взаимодействии — некоторое представление об обыденной социолингвистической действительности, и б) что то, как понятия понимаются и используются на обыденном уровне в социальном взаимодействии, должно налагать ограничения на наши философские теории (например, на теорию знания). Большинство экспериментальных философов желают исследовать, излагать и использовать практики обыденного языка в качестве данных (evidence), влияющих на выбор философской теории. В заключительном эссе Вайнберг (Weinberg) отвечает на «злободневный вопрос о том, как экспериментальная философия могла бы внести более существенный вклад в традиционные, мейнстримовые проекты философии, обращаясь к первостепенным вопросам в таких ее разделах, как этика, метафизика либо эпистемология» (p. 194) [6]. Вопрос не в том, считается ли экспериментальная философия философией. Как замечает Вайнберг, «на данный момент вопрос о том, является ли экспериментальная философия философией, решен» (p. 193). Скорее, вопрос в том, как мы могли бы использовать науку для прояснения «природы самого знания» (p. 194).
Вайнберг поясняет, что исследования экспериментальной философии могут: а) собрать вероятностные свидетельства регулярных корреляций; б) исключить шум (искажающие факторы, вмешивающиеся в работу наших когнитивных функций, занятых отслеживанием истины). Когда нет основания prima facie подозревать наличие искажающего фактора, Вайнберг рекомендует следовать Риду и доверять приговорам наших когнитивных способностей, если у нас нет положительного основания для подозрительности (p. 195). Например, участники могут регулярно демонстрировать высокую степень согласия с тем, что протагонист виньетки «знает», только в тех случаях, когда практические риски ситуации низки. Но дальнейший ход эксперимента может показать, что чувствительность увязки знания с рисками была всего лишь артефактом искажающего эффекта размещения текста виньетки на странице или, положим, шрифта, которым тот или другой текст был напечатан. Если риски в одних случаях оказывают влияние на атрибуцию знания, а в других — нет, зафиксированная чувствительность может быть всего лишь «остатком локального шума» и не быть «контекстуально прочной» (contextually robust) (p. 197).
Неясно, каким образом Вайнберг сможет распознать влияющие факторы в качестве «искажающих», предварительно не определив, какие корреляции верны, а какие — нет. Он признает, что при некоторых обстоятельствах чувствительность утрачивается, даже когда мы имеем дело с контекстуально прочной корреляцией. Но вслед за этим он заверяет, что в таких случаях нам нет необходимости беспокоиться, если и другие релевантные факторы оказываются утраченными (p. 198). Если, например, приписывание знания становится нечувствительным к истинности или ложности убеждений агента, мы понимаем, что это анекдотические (wacky) обстоятельства. А значит, нам не следует беспокоиться и в тех случаях, когда приписывание знания становится нечувствительными к практическим рискам. Такой ход мысли Вайнберга обязан бы основываться на предположении, что знание фактивно (factive), но это уже заранее решает вопрос о смысле знания (prejudges the science) [7].
Представители экспериментальной эпистемологии продолжают заявлять о том, что их наука исследует природу самого знания — в его самодостаточности. В соответствии с видением Вайнберга, экспериментальная философия в силах помочь нам отделить «отслеживающие истину (truth-tracking) двигатели философского суждения» от «не отслеживающих истину», вроде того или другого шрифта (p. 196). Но что же с наукой? А то, что науке неестественно придерживаться таких онтологических установок (Fine 1996).
Литература
Arico A., Fiala B., Goldberg R., and Nichols S. (2011) The Folk Psychology of Consciousness // Mind and Language. No. 26. P. 327–352.
Beebe J., and Buckwalter W. (2010) The Epistemic Side-Effect Effect // Mind and Language. Vol. 25. No. 4. P. 474–498.
Buckwalter W. (2010) Knowledge Isn’t Closed on Saturday: A Study in Ordinary Language // Review of Philosophy and Psychology. Vol. 1. No. 3. P. 395–406.
Buckwalter W. and Schaffer J. (2013) Knowledge, Stakes, and Mistakes // Noûs.
Chin-Parker S. and Bradner A. (2010) Background Shifts Affect Explanatory Style: How a Pragmatic Theory of Explanation Accounts for Background Effects in the Generation of Explanations // Cognitive Processing. Vol. 11. No. 3. P. 227–249.
Cohen S. (1999) Contextualism, Skepticism, and The Structure of Reasons // Philosophical Perspectives. No. 13. Epistemology. P. 57–89.
DeRose K. (1992) Contextualism and Knowledge Attributions // Philosophy and Phenomenological Research. Vol. 52. No. 4. P. 913–929.
DeRose K. (1995) Solving the Skeptical Problem // The Philosophical Review. Vol. 104. No. 1. P. 1–52.
DeRose K. (2011) Contextualism, Contrastivism, and X-phi Surveys // Philosophical Studies. Vol. 156. No. 1. P. 81–110.
Fine A. (1996). The Shaky Game. University of Chicago Press.
Gentner D. (1981) Integrating Verb Meanings into Context // Discourse Processes. Vol. 4. No. 4. P. 345–371.
Guglielmo S. and Malle B. (2010) The Timing of Blame and Intentionality: Testing the Moral Bias Hypothesis // Personality and Social Psychology Bulletin. No. 36. P. 1635–1647.
Hazlett A. (2010) The Myth of Factive Verbs // Philosophy and Phenomenological Research. No. 80. P. 497–522.
Hazlett A. (2012) Factive Presupposition and the Truth Condition on Knowledge // Acta Analytica. No. 27. P. 461–478.
Hawthorne J. (2004) Knowledge and Lotteries. Oxford University Press.
Knobe J. (2003) Intentional Action and Side Effects in Ordinary Language // Analysis. No. 63. P. 190–193.
Knobe J. (2010) Person as Scientist, Person as Moralist // J. Knobe and S. Nichols (eds.). (2014) Experimental Philosophy. Vol. 2. Oxford University Press. P. 195–228.
Nagel J. (2010) Knowledge Ascriptions and the Psychological Consequences of Thinking about Error // The Philosophical Quarterly. No. 60. P. 286–306.
Phelan M. (2014) Evidence that Stakes Don’t Matter for Evidence // Philosophical Psychology. No. 4. P. 1–25.
Pinillos Б. (2012) Knowledge, Experiments and Practical Interests // J. Brown and M. Gerken (eds.). New Essays on Knowledge Ascriptions. Oxford University Press.
Prinz J. (2008) Empirical Philosophy and Experimental Philosophy // J. Knobe and S. Nichols (eds.). Experimental Philosophy. Oxford University Press. P. 189–208.
Sartwell C. (1992) Why Knowledge Is Merely True Belief // Journal of Philosophy. No. 89. P. 167–180.
Stanley J. (2005) Knowledge and Practical Interests. Oxford University Press.
Примечания
↑1. Было бы интересно провести дополнительное исследование, в котором риски были бы высоки, но имели бы благоприятный исход для протагониста — возможно, Джесси выиграл бы лотерею. Если бы мы выяснили, что в условиях высоких позитивных рисков участники исследования были бы менее склонны приписывать знание протагонисту (или они требовали бы меньше доказательств), чем в условиях высоких негативных рисков, мы были бы вправе утверждать, что участники первоначального эксперимента требовали от Джесси соответствия более высоким эпистемическим стандартам в условиях высоких рисков (Knobe 2003, Beebe and Buckwalter 2010), что было бы примером побочного эффекта, то есть это произошло из-за того, что высокие риски были негативными, а не из-за того, что понятие знания чувствительно к рискам.
↑2. Бакуолтер располагает убедительными данными, но кроме того его возражение обладает еще и интуитивной привлекательностью, ведь в курсе эпистемологии отводится около 30 минут на объяснение студентам различия между этими терминами, и многие все равно уходят с лекции в недоумении.
↑3. Бакуолтер замечает, что несмотря на этот главный эффект «участники оценивали все суждения без исключения как истинные» (p. 156), что указывало на проблематичность положения. В последнем вопросе к участникам он повторяет утверждение/отрицание протагониста виньетки в отношении своего знания («Ханна сказала: “Я знаю / не знаю…”») и затем спрашивает: «Сказанное ей истинно или ложно?» Участники могли ответить «истинно», потому что они интерпретировали вопрос как вопрос на проверку понимания прочитанного, а именно, как вопрос: «Соответствует ли то, что я, Бакуолтер, сейчас произнес, тому, что говорит Ханна в виньетке?» Но вместо этого Бакуолтер надеется, что участники отвечают на вопрос о знании, то есть на вопрос: «Истинно или ложно то, что Ханна говорит в виньетке о часах работы банка?»
↑4. Здесь существует одна опасность: чем больше исследователи модифицируют экспериментальные планы для того, чтобы участники сосредоточились на конкретном философском смысле слова «знать» (а не на том, что протагонисту следует делать и т.п.), тем больше у них шанс получить обратно это конкретное понятие уже в результатах эксперимента. Вместо того чтобы выяснить, как участники используют «знание» в обыденном словоупотреблении, мы будем обучать их, как его использовать. Решение Пинильоса и Симпсона включить в вопрос слова «надеется» и «знает» одновременно вполне может породить такую ситуацию. Когда участникам предлагают контрастный класс, тем самым для них выделяют тот аспект знания, на котором они должны сфокусироваться.
↑5. Проблематичным здесь выглядит и предзаданность (prejudging) значения слова «подлинный».
↑6. Вайнберг предлагает также и руководство по распознаванию ситуаций, когда чувствительность к какому-то фактору имеет философски значимый эффект. Он предлагает способы выявления «философски реальных», но «философски сомнительных» (spurious) эффектов (p. 198–204).
↑7. Данные Хэзлета (Hazlett) (2010, 2012) показывают, что участники готовы приписывать знание даже без всякого учета статуса истины, поэтому присутствующая в этом примере Вайнберга презумпция, что «знает» — фактивный глагол, выглядит как явное философское убеждение. Он отмахивается от этой проблемы (p. 205, прим. 11), но задача непредвзято отделить контекстуально прочные, «ориентированные на отслеживание истины» корреляции от корреляций как результатов «искажений» может оказаться более сложной, чем ему представляется.
Источник: Notre Dame Philosophical Reviews




Комментарии