От редакции: Благодарим «Издательство Ивана Лимбаха» за предоставленную возможность публикации отрывка из книги немецкого философа Курта Флаша «Почему я не христианин» (перевод Ирины Алексеевой).
Религиозная истина сегодня
Мне в первую очередь интересен не Августин и не IV век, а вот какой актуальный вопрос: как мог бы сегодня христианин избежать этой августинианской комбинации из народно-воспитательного спиритуализма и бесцеремонной, поскольку привязанной к «истине», властной политики? Если бы это удалось ему по определенным причинам, то есть не только из-за добродушия или по причине временного полицейского бессилия, то это имело бы для него концептуальные преимущества: он не оказался бы в состоянии конфликта с предпосылками демократического, плюралистического общества; он мог бы, как в 390 году Августин, отвергнуть церковную политику насилия как антихристианскую. Ибо именно в те годы, когда Августин ближе всего был к платоникам, он требовал мягкого распространения своей истинной религии. Правда, существует связь между концепцией истины и тенденцией к нетерпимости, но ведь Церкви в одиночку пришлось в социальном плане и по факту воплощать универсальную разумную истину Платона. На разумное никто не имеет права посягнуть.
Это ставит сегодня христианина перед следующей альтернативой: либо он отказывается от абсолютного понятия истины в приложение к своей религии, либо он ищет новую, менее жесткую концепцию «истины». Трудно будет ему отказаться от привычки обозначать свою религию как единственно истинную. Если он не этнолог и не историк, он не знает ни одной вросшей в древность культовой религии из тех, которые Августин упрекал в том, что они не выдвигают никаких правил веры, никакие убеждения не контролируют и никак идеологически не ограничивают доступ к своим культам. Возможно, современник-христианин ответит, что в своей вере он уверен, в большей степени уверен, чем в постоянно меняющемся знании, и он предал бы свою уверенность в вере, если бы не рассматривал свою религию как истинную. Если «истина» одна для всех, тогда необходимо попытаться провозгласить ее для всех и преобразовать ее в условия жизни, народные привычки, законы и правила воспитания; ислам XXI века доказывает это с достойной восхищения неотступностью. Толерантность и пощада к заблуждающимся — знак исчезающей веры. Почти до наших дней христианские Церкви требовали экспансионизма. Они занимались миссионерством и везде, где обладали властью, вводили репрессивную исключительность. Тот, кто хочет уйти от этой политики, должен либо отказаться от концепции «истинной религии», либо пересмотреть понятие истины.
Легко сказать — новая концепция истины! Я тут кратко набросал в нескольких параграфах, в каком направлении я веду поиски.
§1. Я начинаю свои размышления со старого определения истины как согласованности предмета и интеллекта [1].
Тот, кто на первое место ставит связь сотворенной вещи с интеллектом ее создателя, уже блуждает во владениях философского богословия; он уже решил для себя проблему истины; философскую работу здесь начать невозможно. Скорее, она там, где мы начнем с чувственного опыта. Этот опыт — своего рода восприятие истинного, принятие его; однако в классическом определении истины он не учитывается; цитируемая формула ограничивает «истину» — платонически — связью с интеллектом. И ни в коей мере «вещи» не даны во внешнем мире просто так, наготове, словно нам стоит только взглянуть на них, чтобы совпасть с ними. Для целей духовного познания и Аристотель, и его средневековые комментаторы требовали особых интеллектуальных операций человеческого духа, потому что только они, по их мнению, могли бы выработать всеобщий характер «вещи». Для них «вещь» и «нечто чувственное» — это не одно и то же. О скромном отпечатке реальности уже тогда не было и речи. Они понимали формулу истины не в духе наивного реализма. Познание «делает» именно интеллект, и этот интеллект мы будем представлять себе не как падшего ангела и не как видимое живое существо. Он индивидуален, но ни один эмпирический индивидуум не есть предмет внешнего мира. Как говорящее существо, он, если находится здесь, всегда — при «вещах» и при других существах, от которых он научился своему языку и которым он говорит о мире. Обобщая, он спонтанно организует свое познание. Он его конструирует, а не ведет себя лишь рецептивно. Но в реальном мире он встречается только тогда, когда находит с другими общий язык по поводу «вещей». Его приближение к вещи есть как личная, так и общественная работа при случайных условиях. Он является историческим. Поверх или вне истории у людей нет «вещей».
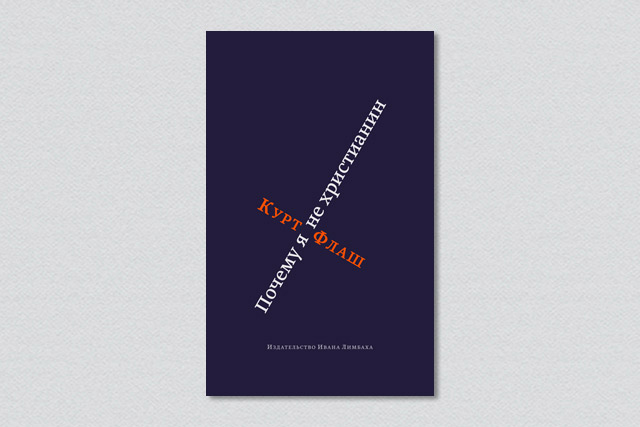
Рассуждения по поводу «истины» не должны по этой причине забираться в слишком возвышенные сферы, такие как божественный интеллект или, скажем, «истина бытия». Я бы не хотел начинать их также с самого «дна», то есть не хотел бы не делать вид, что мы вообще ничего знать не можем.
Существуют разнообразные возможности обмана, и один пожилой частнопрактикующий философ, оглядываясь на прожитую жизнь, так подытожил свой опыт:
«Ибо то, что никто никого не понимает, что каждый, говоря одни и те же слова, думает свое, что один и тот же разговор и одна и та же книга у разных людей вызывает различные мыслительные последствия, — я понял слишком отчетливо…»
Этот автор чуть ли не тоном болтовни высказывает индивидуальный опыт; он избегает вербального радикализма, но вряд ли оставляет нам хоть один шанс на истину. Однако сохраняется надежда найти нечто истинное не на совершенно утраченных позициях, если мы откажемся от претензии на полное понимание и не станем понимать истину как нечто совершенно потустороннее. Порой в практических буднях мы ориентируемся неплохо, хотя и не безупречно. Многое из чужой душевной жизни и из исторических событий остается для нас скрытым, но, пересекая улицу, я, как правило, знаю, стоит ли бояться интенсивного движения или можно гулять беззаботно. Я знаю, какое наказание ждет того, кто заранее об этом не позаботится. Именно в таком повседневном опыте коренятся теоретические моменты. Нет причин начинать разговор о христианской религии с конвенциональных стенаний по поводу границ человеческого мышления.
Скепсис по-прежнему весьма показан. Прежде всего в случае, если формула истины воспринимается слишком метафизично. Тот, кто обосновывает познаваемость мира тем, что творения поставлены в положение между двумя интеллектами, мышлением создателя и мышлением человека, воспаряет слишком высоко. Его соображения предполагают, что существование Бога уже осознано в соответствии с истиной. К истине у него нет вопросов. Ему кажется, что он знает: Бог есть истина.
§2. Поиски истины не обходятся без понятия «я». Иногда «я» выражает бесцеремонное желание самоутвердиться. Но каждый европеец, называющий некую фразу истинной или ложной, должен в обязательном порядке употребить слово «я» или некую форму глагола, специфичную для первого лица единственного числа. Кто-то говорит: «Я думаю, что…» — и это «я», которое вполне может сопровождать все его фразы без исключения, означает невинное, неизбежное «я». Это «я» что-то говорит, причем говорит другому, причем оно знает, что другой — тоже «я». Если некое лицо говорит что-то, что должно быть истинным либо ложным, то оно вступает на игровое поле, где действуют языковые и мыслительные правила, в которых участвуют исторические априорные понятия. И это «я» заранее знает, что проиграет, если не озаботится знанием правил, согласно которым другое лицо утверждает или отрицает свои тезисы. Оно знает также, что на этот счет добьется лишь предположений. Слишком высокого градуса внимания к самому себе это «я» никак не может позволить, ни перед самим собой, когда душа беседует сама с собой, ни перед другими. Оно знает, что представляет собой такое же «я», как все прочие; оно не может и не хочет (как правило) произносить фразы, касающиеся глубинного нутра партнера по разговору, если эти фразы не выполняют условий согласования с условиями других. Такие манипуляции встречаются, но в принципе их можно предвидеть заранее.
§3. Стремящееся к познанию «я» склонно к взаимности. Оно культивирует эту склонность. Но знает, что другие познающие и действующие «я» отражают и действуют в определенных исторических условиях; можно замкнуть это познание на себя самого. Оно понимает человеческие мысли и действия, чужие и собственные, как исторически предопределенные. Нуждающееся в истине, зависимое от взаимности «я» может изучить эти предопределенности у себя и у других и тем самым, возможно, улучшить критерии относительно того, что «истинно» и «ложно». Оно не может объявить их окончательными, ибо они исторически вариабельны. По этой причине они не непостижимы. Историческая наука, жизненный опыт и конкретные обстоятельства уменьшают возможность заблуждений, которых они не помогут избежать, но смогут сгладить. «Я» знает, что оно есть место познания, знает об истине и заблуждении, но не использует насилие. Ибо, если ему это необходимо, оно учитывает собственные критерии и масштабы других «я», желая сделать свои представления удобными для них. Это препятствует возникновению пресловутого релятивизма.
§4. Заново обдумать понятие «истина» нужно и можно не только с позиций его связи с религией. Названные ранее концепции истины — во-первых, в качестве средства, корреспондирующего с идеями, или, во-вторых, в качестве проявления подтвержденности эмпирическими данными — можно критиковать также вне религиозной философии. Против учения об идеях (в конвенциональном понимании) можно возразить, что для чистых идей нашего интеллекта недостаточно, такие идеи — это конструкции, ориентированные на математику и этику. Примененная в отношении христианства или ислама концепция истины подсказывает нам, что религия должна быть неизменной, раз она истинна. Устранение этой предпосылки делает использование религиозных истин более гибким.
По поводу второй группы концепций — кандидатов на трактовку истины, а именно — по поводу ссылки на эмпирические данные: мы добираемся до фактов, намереваясь с их помощью контролировать истину, совсем не вне нашего мышления. «Экстраментальный» масштаб приближения к вещи реализуется только в нашем мышлении. Итак, у нас есть повод сомневаться и в той и в другой концепции истины.
Следует отказаться от наивно-реалистического представления о том, что процесс человеческого познания посредством образа познания переносит познанный предмет в душу познающего, а истина для людей есть приравнивание познающего к познанному путем воздействия предмета, даже если вынесение оценки является внутренней деятельностью [2]. Эта модель познания исключает язык и мир в его истории, индивидуальность и социум и поэтому по праву называется «наивной». Она придает изолированно представленному предмету причинную приподнятость, которая ему не присуща даже при чувственном восприятии. Ибо ее нужно создать; необходимо ее захотеть в ходе осуществления жизненных интересов, даже если это интересы, направленные на отказ и освобождение от чего-либо.
§5. Старинная философия не могла уловить специфику человеческого познания еще и по другой причине, односторонне размышляя о христианской религии на пути к концепции истины. Дело в том, что по поводу человеческого разума она утверждала, будто он является разумом только в том случае, если познает истинное. Интеллект, который знает нечто лживое — не знает ничего; это — не интеллект. Этой модели мышления человеческий разум известен был как познание истинного. В этом средневековые философы могли опираться на Аристотеля и Августина. Они определяли интеллект как нечто постигающее сущность вещей и делали вывод, что интеллект, который заблуждается, — это не интеллект. Познание как конструкция, как опыт и заблуждение, как совместный проект, вариативный и привязанный ко времени, в этом учении о познании не фигурировало. Хотя оно и предполагало, что в человеческом мышлении истина требует спонтанных операций, но когда они при научном обсуждении христианских истин придерживались того определения интеллекта, который признавал только истинное, то они мыслили истину как что-то навсегда данное, как нечто неизменное и надежное. Развиваться истина могла только в одном, подчиненном догматике смысле. Ее христианство не имело истории, в крайнем случае — историю ее общественного продвижения в качестве бесплатного приложения к неподвижно истинному.
§6. Предположим, что «я» А хочет сообщить «я» В ряд фраз, в эмпирической правильности и проверяемости которых оно убеждено. Однако становится ясно, что А не может предъявить эмпирические предметы в их естестве, сами по себе, вне его представлений о них. Оно не может отобразить «предмет» «как он есть сам по себе» и сравнить свои представления с «самой вещью», ибо и об этой вещи оно знает что-то лишь в той мере, в какой она присутствует в его представлениях. В «разговоре с самим собой» А находится в том же положении: оно не может сравнить свои представления с самим «фактом», а всегда только свое первое представление о вещи со вторым или третьим. Из этого радикальный скептицизм не следует. Ибо «я» А знает от «я» В, что оно само, как и «я» В, устанавливает масштабы удобства, на основе чего разрабатываются и оцениваются представления о «факте». Следуя этим критериям, «я» А может задать вопрос и обсудить его с «я» В. Ему нет необходимости прослеживать вопрос вплоть до последнего источника истины. Достаточно, если он достигнет понимания ad hoc [3] или признает его недостижимым. Тот, кто сочтет необходимым, может дальше исследовать причины различия в критериях истины у А, В и С, пока не найдет те устраивающие его причины, которыми готов удовлетвориться.
§7. Разговоры об истине религии оказались бы в новых условиях, если бы участники в описанном смысле отказались от абсолютной истины, не становясь при этом фидеистическими скептиками. Скепсис остается относительно представлений «я» А и «я» В. Никто никого не понимает.
Встает вопрос об особенностях религиозных фраз. Меня одолевает соблазн заново определить их «истину», поэтому я говорю, что ряд религиозных высказываний должен считаться истинным тогда, когда он каждому что-то говорит. Тогда я связываю их истинность с каждым отдельным человеком, которому, насколько я знаю, религиозная речь, например, год назад ничего не говорила, тогда как сегодня что-то говорит, а завтра, возможно, опять ничего не скажет. Такая концепция истины религиозных фраз потребовала бы, чтобы «я» связывало их со всей своей личностью, а не второстепенным образом. Предметные области следовало бы ограничить; такая концепция не годится для математики и естественных наук, и для некоторых вопросов историко-критического исследования тоже не подходит. Решение остается за отдельным наблюдателем, хотя произвола концепция не допускает. Ибо «я», которое для себя самого, как и для других, хочет соблюдать правдоподобие, подготавливает утверждения истинные и ложные, с оглядкой на критерии истины у других, хотя у него нет абсолютных масштабов правдоподобия, есть только те, которые здесь и сейчас для него самого и для других кажутся ему достаточными. Тем самым плюрализм соблюден. Мы тоже живем во времени как познающие. Фраза о противоречии, в математике и узкоспециальных беседах неизбежная, не исключает, что много говорящее мне сегодня нечто через год сделается незначительным, а то, что говорит кое-что мне, другому может не говорить ничего. А если и говорит ему что-то, то не то же самое, что мне. Потому что никто, говоря те же слова, не думает то же, что другой. Мои фразы — за исключением тех, что сформулированы с повседневно-практической целью либо относящиеся к области специальных знаний, — не претендуют на достижение единственной в своем роде, надвременной и не ограниченной пространством великой истины. Это вариации истины, которые могут сосуществовать, даже если они противоречат повседневным взглядам и узкоспециальной логике. Достаточно, чтобы они служили взаимопониманию, даже если у другого «я» они вызывают возражения.
Фраза «они мне что-то говорят» в недостаточной мере описывает своеобразие поэтических и религиозных фраз. Ибо даже если финансовая служба высылает мне уведомление о начислении налога, она мне что-то говорит. Ведь и фразы, поэтические и религиозные, вполне могут просвистеть мимо ушей слушающего. За «истинные» их принимает только тот человек, который усвоил их и применяет к себе самому. Если этот человек признает их влияние на свою жизнь. Если они влияют на его решения в ходе практической жизни. Их истину определяют их «плоды».
§8. Это не распространяется на разграничение между теоретической и этико-практической истиной. Если учитывать угрозу религиозных войн, то на поверхности лежит предложение, чтобы религии отказались от концепции теоретической истины и признавали истинность своих положений только в этико-практической плоскости. Тогда религиозный мир был бы обеспечен; мы находили бы религиозную истину, толкуя каждую религию до тех пор, пока не выработается нечто моральное. Для такой перестройки немецкая христианская душа подходит, пожалуй, более всего, потому что морализировать она любит, если только ее опять не охватит оргазм лирической трагедийности. Сокращение религии до признания наших нравственных обязанностей божественными заповедями позволило бы нам обходиться без конфликтов и дискуссий. Это исключило бы догматизм и фундаментализм. Мир стал бы более мирным, если бы каждый, кто борется за ислам или за христианство — словом или оружием, — пожелал бы защитить честь своего Бога любовью к ближнему.
Сокращение истины религиозных положений до поведенческой этики соответствует пророческому и христианскому импульсам. Идея возникла в качестве реакции христиан на де-факто господствовавшее превращение их религии в ритуальную службу и поповство. Она налагает на христианское сознание обязанность отказаться от литургических — в том числе, и не в последнюю очередь, евхаристических — сантиментов. Полностью отказались бы последователи этой идеи от коленопреклонения христианина для молитвы, пока работают телекамеры. Религии имеют тенденцию окаменевать в ритуалах, да еще и праздновать эту метаморфозу публично. Они заменяют движения души и воли движениями ног. В дебатах об обрезании осенью 2012 года один высокий представитель иудейства огорошил всех заявлением, что, мол, обрезание создает иудея. В отличие от этого антирелигиозного сокращения почтенной религии до короткого взмаха ножа, похвальным представляется мне сокращение до послушания и любви к ближнему, предложенное Спинозой. И все же религия, этика и искусство — это не одно и то же. Религия многофигурнее, пестрее, забавнее. Она порождает поэтическое разнообразие и привязку к истории. Если бы она состояла только в том, чтобы следовать нашим этическим принципам как Господним заповедям, тогда истаяло бы немало облаков велеречивой риторики, но оставалась бы также и иссушенная территория: исчезли бы легенды и обычаи. Религия окаменевает, если понимается принципиально как ритуал или — сугубо моралистически. Ее истории многофигурны и богаты по содержанию. Если они даже вымышленные — они заставляют хранить в памяти лица и ситуации, а также пейзажи, привязанные к ситуациям, лицам, а зачастую — и к региону; их истина не растворяется в этических указаниях. Религиозные рассказы показывают другой взгляд на мир. В благочестивых оборотах речи говорится о том, что сделал Господь, и в меньшей степени — о том, что делаем мы, или даже — что мы еще должны сделать, а потом в большинстве случаев не делаем. Этический призыв ставит отдельного человека, его совесть и его чувство долга во главу угла; в религиозных историях речь идет о масштабных вещах, например о выходе целого народа из Египта, который де-факто, по-видимому, никогда не происходил, никто этого и не ожидал. Более адекватной была бы квазипоэтическая концепция истины, которая руководит нами при знакомстве с древней поэзией или когда мы смотрим драму или фильм и которая не дает нам заподозрить автора сочинения во лжи. Она включает практические последствия; она делает сознание истины в отдельных группах совместимым с мирным сосуществованием.
§9. Критического взгляда заслуживает языковое употребление: выражение «претензия на истину» закралось в наш обиход и употребляется, как будто не всякая претензия нуждается в оправдании. Не все претензии оправданны, не все оправданные претензии осуществляются. Торжественные слова скрепляют претензию на истинность собственных утверждений и скрывают информацию о том, кто и по какому праву выдвигает эту претензию, словно она исходит от самой истины.
Я подхожу к результату: рассмотрение понятия истины в качестве относительного — это не просто решение для отвода глаз и не поспешное нововведение. Так происходит в повседневной жизни: при прослушивании новостей, во время рассказов о своей жизни, при чтении романов. Когда читаешь вслух Гомера, никто поначалу не спрашивает, где «действительно» находилась Троя. Самая достоверная Троя предстает перед нами в «Илиаде», этого достаточно. Историко-географическим вопросом задаются только специалисты. Для ученых это может быть полезная деятельность; для них определенно важно, когда Рауль Шротт [4] пропагандирует новую и, скорее всего, ложную гипотезу об исторической Трое. Читателя поэмы это не волнует. Где бы ни находился город Троя, ему об этом говорит «Илиада».
Лучшим доказательством независимости истины в поэзии являются сказки и басни. Ни один читатель не собирается проверять их с точки зрения «реалистической достоверности», хотя зоологическая реальность демонстрирует нам и лис, и медведей. Но людям достаточно знать о них то, что говорится в сказке. Сказку можно переформировать, расширить или сократить, но опровергнуть ее нельзя. Самое плохое, что может с ней произойти, — это то, что она перестанет что-либо говорить мне или даже целому поколению. Сказки слишком умны, чтобы утверждать, что они не выдуманы. Они ставят себя вне альтернативы «данного в реальности» и вольно изобретенного. Тот, кто их слушает или читает, оказывается в их мире и испытывает себя, проверяя, говорят ли они ему что-нибудь. Проверка может дать отрицательный результат или же оказаться середина на половину, сказка от этого не пострадает. Тот, кто ее рассказывает, не покажется от этого ни несерьезным, ни нечестным.
Смогли бы люди, серьезно относящиеся к религии, должным образом отнестись к такой вот куцей теории истинности их религии? А вдруг их возмущает уже само сравнение со сказками и стихами?
Вряд ли. Редуцированное понятие истины не означает, что все тексты — это сказки. Решение суда, математическая статья и божественное Откровение — все это в равной степени «тексты», но у них разное содержание, и все дело именно в этом различии. Если я считаю их текстами, которые мне что-то говорят, то их содержание при этом я не идентифицирую. Сказка о Красной Шапочке для меня нечто другое, нежели «Войцек» Бюхнера [5]. Я требую от себя величайшего внимания к ее содержанию, но я отыскиваю ее не по объективно заданному квазиисторико-фактическому ядру реальности. Мне не приходит в голову искать человека, который все это «засвидетельствует». Это предпосылка для восприятия сказки, «Войцека», но и живописного полотна или объяснения в любви. Во всех этих текстах контролировать нечего. Человеку, которому Красная Шапочка ничего не говорит, трудно помочь тем, что в книге под названием «А ведь сказка права» есть доказательство, что раньше в германских лесах водились волки.
Разве каждый мусульманин и каждый христианин не воспринимают сообщения о божественном Откровении так или аналогичным образом? Прежде всего он не думает о том, что все это нужно проверить. Зачастую ему это запрещено. Консервативные религиозные мыслители порицают его за склонность к «герменевтике подозрения». Верующий, кроме того, предчувствует, что, как правило, он этого просто не может. В желании проверить ему чудится запашок недоверия к истинности вершащего Откровение Бога. Контроль его заботить не должен: он концентрируется на содержании Корана или Библии и слышит в них голос Господа; он не ставит свое одобрение в зависимость от того, подтверждается ли повествование с объективно-исторической точки зрения. Его недоверие, если таковое возникает, направлено не против Бога, а против текстовой традиции. Как правило, он совершенно не знает, как должно выглядеть успешное подтверждение или опровержение содержания текста. Августин требовал, чтобы верующий, не размышляя, поверил в рассказ, после чего следом за Платоном он постигнет существенные смыслы. Последующая работа разума заключалась в платонизирующей спекуляции, а не в научно-историческом фундировании фактической базы, как сказали бы сегодня. Если именно верующий выражает сомнение в том, «действительно» ли произошло все то, во что он верит или должен верить, к нему на всех парах мчатся богословы, обещая развеять все его сомнения. Они мнят себя учеными, не то что простые верующие, хотя часто употребляют слово «вера», подразумевая богословие. Но если они не меняют концепцию истины, то сдержать данное слово они не могут.
Если каждому доступен свободный выбор, чтобы отыскать свою истину в документах религий Откровения, тогда ни один верующий не вступает в конфликт с наукой. Он ведь не утверждает, что критически проверил все, во что верит. И только если он претендует на критическую проверку всего дела, тогда ему приходится вступить в противоречие с другими интерпретациями. Возможно, его позиция противоречит также и официальным интерпретациям его Церкви. Если он не требует перепроверки, конфликта не будет. Ему никогда не придется писать книгу, почему он не христианин. Он сможет выбирать либо отказаться от выбора. Так ведут себя созерцатели художественных полотен. Правда, иногда они вступают в спор с почитателями других художников. Но если они не хотят прослыть скандальными искусствоведами, то это для них — побочная тема. Удовлетворение они получают в созерцании картин и в размышлениях о них, а не в том, чтобы порочить художников-конкурентов.
Тогда, наверное, можно порекомендовать верующим в Откровение это «небольшое» изменение в их концепции истины? Они избежали бы религиозных войн. Милые и кроткие верующие овечки возлежали бы у ног религиозных львов. Но можно сказать заранее, что до этого не дойдет. Монотеистические религии нуждаются одновременно в универсалистской и в фактографически-объективистской концепции истины: если их Бог должен быть единственным, ему придется стать единственным для всех. И то, что они провозглашают как Слово Божье, должно распространяться на всех. Поскольку то, что они говорят, истинно, это должно и обязано быть истинным для всех. У них перед глазами объективистская, реалистическая схема: на вопрос о проверке они отвечают, что свои сообщения проверили. Они утверждают, что располагают абсолютно полным списком свидетелей. Они претендуют на авторитет, чтобы утвердить свои сообщения как истинные или постановить, что они принципиально не подлежат проверке и служат для испытания религиозного послушания. И то и другое — ложь, и это легко доказать: Солнце не вращается вокруг Земли. А то, когда в Палестине была произведена римлянами перепись народа, можно проверить исторически. Но религии Откровения утверждают, что их сообщения — это не человеческие тексты, а истинное Слово Божье. Разве не могло случиться так, что иудеи никогда в большом количестве не были в вавилонской ссылке? Возможно, их было всего десять процентов от общего числа? А может быть, когда они вторглись в Ханаан, они пришли вовсе не из Египта, а просто из соседней египетской провинции? Верующие сами готовят себе поражение, утверждая, что все проверили. И беспомощно опускают руки, признавшись, что все это проверить невозможно.
Вряд ли что-либо менее проверяемо, чем утверждение, что девственница родила ребенка. Когда Йозеф Ратцингер в своем «Введении в христианство» (я цитирую по первому изданию 1968 года [6]) говорил об этом, он прежде всего признал, что эта идея «не избежала соприкосновения» (с. 227) с языческими представлениями, однако после этого половинчатого признания существования религиозной истории он заявил, опираясь на свое ветхозаветное богословие: «Рождение Христа девственницей означает, что человек Иисус обязан своим появлением на свет не человечеству, а полностью, то есть и телесно, является творением Господа» (с. 228). Ратцингер завершает свое объяснение девственного рождения, настаивая на том, что это был исторический факт. Внимательно проследите за каждым словом, которое он при этом говорит. Он пишет:
«Собственно говоря, ни в каком отдельном упоминании не нуждается то обстоятельство, что все эти высказывания (о смысле девственного рождения. — К. Ф.) имеют значение только при том условии, что действительно произошло событие, смысл которого они силятся вытащить на свет. Эти высказывания суть толкование некоего события; если убрать событие, то они превращаются в пустую болтовню, которая в таком случае не только несерьезна, но ее следовало бы обозначить как нечестную» (с. 228).
Вот что стоит в конце фрагмента, посвященного девственному рождению. Автор в завершение пассажа настаивает на том, что оно было реальным событием. Тот, кто оставляет вопрос открытым, высказывается несерьезно и даже нечестно. Но если это так, то следовало бы, еще до упоминания о смысле процесса, обеспечить его фактический характер. Как ему это осуществить, не знаю; возможно, автор мог ограничиться указанием на то, что в девственное рождение до 100 года действительно верили. Тогда мы по меньшей мере знали бы, что вера в него была реальным «событием». Но Ратцингер не обременяет себя каким бы то ни было доказательством. Он, «собственно говоря», о фактическом характере не хотел бы высказываться; он учитывает его как нечто само собой разумеющееся. Но с какой стати этот фактический характер, «собственно говоря, ни в каком отдельном упоминании не нуждается», если без фактографичности все высказывания о событии не имеют никакого значения и только факт делает слова о нем серьезными и честными? Наш автор не прилагает для доказательства «реальности» произошедшего ни малейших усилий; он требует только, чтобы фактический характер был провозглашен. Он невольно отметает возражения заранее; их, «собственно говоря», вообще быть не должно.
Изысканная манера Ратцингера выражаться обнаруживает следующее: представители религий Откровения не хотят вносить поправки в свое универсалистское, реалистическое и объективистское мышление относительно истины. Они именно в нем и нуждаются. Даже если несут его перед собой как пустое притязание. К нему привязан их авторитет. Августин однажды сказал, что сам не поверил бы Евангелию, если бы христианская Церковь ему все не подтвердила. Церкви хотят нести всем единую божественную истину. Для этого им нужна фактическая основа повествования, ведь таким образом они останутся неизбежными участниками подтверждения неконтролируемого иначе сообщения. Вот так и получается, что время от времени кому-нибудь приходится писать, почему он не христианин.
Примечания
↑1. См.: Фома Аквинский. Quaestiones disputatae de veritate, Questio 1 art. 10, Opera Omnia, том 22, Рим 1970, с. 31: Veritas consistit in adaequatione rei et intellectus. — Прим. автора.
↑2. См.: Фома Аквинский. Quaestiones disputatae de veritate, Quaestio 1 art. 2, Opera Omnia, том 22, Рим 1970, с. 9b: Res ergo naturalis, inter duos intellectus constituta, secundum adequationem ad utrumque vera dicitur. — Прим. автора.
↑3. По этому конкретному случаю (лат.).
↑4. Рауль Шротт — австрийский писатель, поэт, переводчик, исследователь литературы, член Академии литературы Германии. В 2008 г. закончил немецкоязычный перевод «Илиады» Гомера.
↑5. «Войцек» — неоконченная пьеса немецкого драматурга Георга Бюхнера. Впервые пьеса была опубликована в 1879 г. в значительно переработанном виде Карлом Эмилем Францозом (Franzos).
↑6. Ratzinger J. Einführung in das Christeutum («Введение в христианство»; русский перевод: Брюссель, 1988). Далее ссылки на это издание даются в тексте. — Прим. ред.
Источник: Флаш К. Почему я не христианин. М.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016. С. 153–175.
Читать также



 6 129
6 129 


Комментарии