Андрей Тесля
Между своими
Формы и ритуалы дворянского общения в столицах. Российская империя на дистанции с Европой
 3 325
3 325 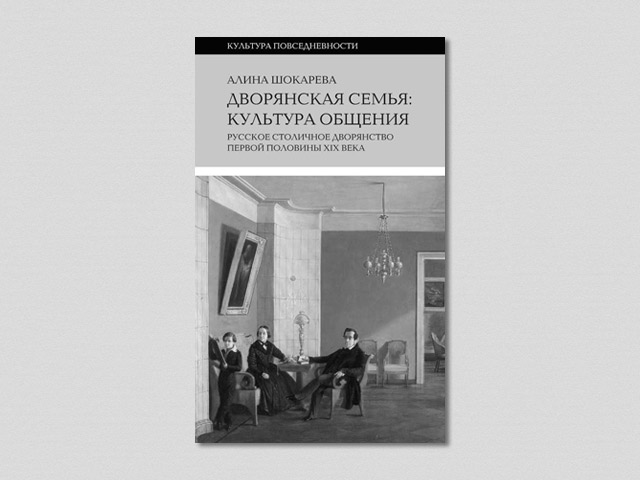
Шокарева А. Дворянская семья: культура общения. Русское столичное дворянство первой половины XIX века. – М.: Новое литературное обозрение, 2017. – (серия: «Культура повседневности»)
С точки зрения истории русской культуры, «дворянским» в ней является по преимуществу XIX век, хотя вся вторая его половина — время громких сетований на «упадок дворянства», утрату им своих позиций, приход сначала «разночинца», а затем «интеллигента» в качестве центральной фигуры общественного внимания и влияния. А в первой половине столетия влияние дворянства убывает хоть и менее заметно, но чувствительно: чиновник вытесняет дворянина, и хоть он сам и является дворянином или выслуживает дворянство, поднимаясь по лестнице чинов, но как раз с точки зрения дворянской культуры «чиновник» — понятие скорее противоположное «дворянину». Можно, служа, оставаться дворянином, исполняя чиновничьи обязанности, а можно стать в первую очередь чиновником.
На этом моменте следует сразу же остановиться подробнее. «Дворянин» (в данном случае мы говорим не о «дворянине» как о юридическом статусе, но о культурном, т.е. в той мере, в какой данное лицо воспринимается и воспринимает себя как носителя дворянской культуры), разумеется, весьма часто служит в каком-нибудь министерском департаменте, отделении Сената или казенной палате, но он себя через нее не определяет.
Определяем мы себя через тех, кого рассматриваем и кто рассматривает нас в качестве «своих». В этом смысле для дворянина базовым является принадлежность к «дворянскому обществу», а все прочие характеристики — как, например, если не обязанность, то крайняя желательность для дворянина служить, по статской или, предпочтительнее, по военной линии, — вытекают из представлений его круга. Причем представления могут существенно расходиться с реалиями. Так, в случае с той же службой на всем протяжении первой половины XIX века одобряемым, считаемым похвальным, соответствующим дворянскому статусу выбором была служба военная — если позволяли родственные связи и средства, то в гвардии, если нет, то в армии, хотя на практике уже в 1830-е многие признавали, что служба статская и выгоднее, и иногда даже перспективнее военной. Не говоря уже о том, что вообще не служить было теоретически возможно, но на практике встречалось крайне редко независимо от материальных обстоятельств (для большинства дворян служба — в данном случае жалование и иные доходы, от нее получаемые, — была необходимым дополнением к доходам от имения). В глазах дворянского общества человек, нигде и никогда не служивший, оказывался неклассифицируем, выпадал из существующей сетки понятий — к нему даже сложно было понять, как обращаться, поскольку форма обращения зависела от чина по табели о рангах. И не только к нему, но и к его супруге, если он, ведя столь странный образ жизни, тем не менее сумел найти себе жену: статус женщины определялся по мужу, отсюда «надворные», «статские» и «действительные статские советницы», «генеральши» и «полковницы» классической русской литературы. Так что, даже решительно не имея желания к военной службе, для дворянина было типично отслужить несколько лет с тем, чтобы, получив первый чин, немедленно выйти в отставку и поселиться у себя в имении. Чин был потребен и для того, чтобы в дальнейшем служить «по выборам», у себя в уезде и губернии — даже если неполных двадцати лет юнкер или корнет и не задумывался об этой перспективе, то на этом настаивали бы его родные, понудив его повременить с отставкой.
И здесь мы как раз выходим на ключевую тему книги Алины Шокаревой: «дворянская семья» в первой половине XIX века оказывается феноменом хотя по преимуществу и частной, но далеко не только и не столько интимной сферы. Семейные связи и отношения определяют функционирование многих областей реальности того времени, весьма далеких от нее внешне, начиная с самого заметного — устройства высшей власти. В монархическом государстве «Фамилия» с заглавной буквы означает правящее семейство: значима не только фигура государя, но и все семейство имеет свою роль, свои права, возможности и обязанности в управлении. Напомню лишь анекдот, хрестоматийный в силу его характерности: когда в 1828 году скончалась вдовствующая императрица Мария Федоровна, то один подвыпивший офицер всхлипывал и восклицал с пьяными слезами:
— Кто же теперь у нас будет вдовствующей императрицей?
Вопрос был далеко не праздный, поскольку в ведении Марии Федоровны находились благотворительные заведения империи, после ее смерти перешедшие в управление IV отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии и сначала неофициально, а с 1854 года и официально именовавшиеся «Ведомством учреждений императрицы Марии Федоровны». Патронаж же во всем, не касавшемся непосредственно хозяйственной части, перешел к Александре Федоровне, ее невестке.
Родство налагало вполне конкретные обязательства. Так, в популярном романе А.К. Шеллера-Михайлова «Лес рубят — щепки летят», вышедшем, правда, позднее, в самом начале 1870-х, но описывающем как раз времена перед Крымской войной, главный отрицательный персонаж весьма не расположен оказать помощь семье своего умершего брата. Но в итоге, тем не менее, он оказывает ее, опасаясь крайне нежелательной для него реакции окружающих и начальства, если станет известно, что он ничего не сделал для вдовы брата и ее детей. Отрицательность же персонажа вновь подчеркивается тем, что в этом случае он ограничивается лишь минимально приемлемым.
Прямые обязанности, впрочем, были в том случае, когда и родство было прямое — «счесться родством» можно было почти всегда, учитывая разветвленность и многодетность большинства дворянских семей. Однако важно отметить, что роль играла не сама возможность — в крайнем случае, за достаточное основание для включения в круг можно было принять самое отдаленное родство, свойство, соседство или сослуживство — а желание «счесться». «Считаться родством» начинали с теми, кого желали или были согласны принять в свой круг, — о родстве, и это необходимо напомнить, как вспоминали, так и забывали.
Описывая различие дворянских обществ двух столиц, Алина Шокарева приводит выразительную цитату из воспоминаний Е.П. Яньковой (в записи ее внука Д.Д. Благово, архим. Пимена):
«Кто позначительнее и побогаче — все в Петербурге, а кто доживает свой век в Москве, или устарел, или обеднел, так и сидят у себя тихоненько и живут бедненько, не по-барски, как бывало, а по-мещански, про самих себя. […] Имена-то хорошие, может, и есть, да людей нет: не по имени живут» (цит. по: с. 31).
В этом предельно насыщенном отрывке выстроена целая понятийная сетка. Жить по-мещански значит «жить про себя», вне общества, тогда как «барская» жизнь — это «жизнь с другими», открытость дома и в свою очередь включенность в общество (в смысле «хорошего общества»). Соответственно, раскрывается понятие «имени» и жизни в соответствии с ним: есть носители соответствующих имен, но они не «люди», т.е. не включены в соответствующую их «имени» сеть отношений, не ведут себя в соответствии с тем, что требует от них «статус» их «имени». О том же с другого ракурса писал В.А. Вонлярлярский, отмечавший, «что в Петербурге каждый живет, как хочет и как может, — вращается в своем кругу, в своем ограниченном обществе. Молодые люди (потенциальные женихи) могли быть приняты всюду, в то время как их родственники не посещают всех великосветских домов. В Москве же обязательно нужно принимать всех, со всеми общаться, всем отплачивать визитами, не то кто-нибудь будет обижен, про вас наговорят невесть что и ваша репутация может сильно пострадать» (с. 34). В этом смысле «дворянский мир» из столиц вполне существовал только в Москве — образуя единую систему, скрепляемую старыми большими барами, местами их общения, начиная с хрестоматийного «Англицкого клоба», и далее расходящимися кругами, тогда как Петербург, с одной стороны, оказывался связан скорее придворной оптикой — т.е. взглядом из центра, не столько через систему взаимного признания, сколько признания извне, от государя, а с другой — местом во властной, все более бюрократизирующейся иерархии. Москва и Петербург оказывались взаимосвязаны таким образом, что связи выстраивались и укреплялись в Москве. Там можно было реализовать положение, занятое в административной или придворной сфере, например найти невесту, — и напротив, обретя или укрепив связи в Москве, напомнив о своем сыне всем родственникам и знакомым, обеспечить ему зачисление на хорошую должность в Петербурге или из Петербурга, определить благосклонное внимание начальства или побудить его, наоборот, быть не очень внимательным к шалостям чада.
Подробно и с богатой фактурой описывая формы и ритуалы повседневного дворянского общения в столицах, Шокарева замечательно выводит на передний план их значение, с одной стороны, как инструмента определения «своих» и отсечения «чужаков» — сложность дворянской культуры, ее дистиллированность возрастает по мере того, как само дворянство постепенно утрачивает свои позиции. «Благородной сдержанности», умению вести непринужденный разговор, быть не скучным и не обременительным для другого, выдерживать приличия в семье даже в том случае, когда ее члены испытывают друг к другу чувства, весьма отличные от тех, которые им надлежит питать согласно представлениям о семье, — всему этому невозможно научиться в зрелом возрасте, практически невозможно приобрести, придя со стороны. Именно поэтому в первую очередь подчеркиваются детали вроде бы незначительные: особенность выговора, умение сесть на стул или поместить свое тело в кресло, но вместе с тем и другие характеристики, как, например, умение не увлекаться в общении с другими тем, что увлекает тебя, и плавность переходов от одного предмета к другому, пока он не успел наскучить. Все это помогает сглаживать различия, нормы и приличия позволяют уживаться вместе совершенно разным людям — и в этом второе выделяемое значение описываемых форм и ритуалов, смягчающих отношения между людьми. Приличия позволяют конфликтам не выходить на поверхность — т.е., собственно, не становиться конфликтами: неприязнь между родственниками, пока не доходила до крайности, оставалась сдерживаемой привычными и тщательно поддерживаемыми этикетными нормами. Так, крайняя степень раздражения могла выражаться, напротив, в подчеркнутой вежливости, которая, в свою очередь, оберегала границу личного пространства (и других от того, что находится в последнем).
Понятно, что все это истинно лишь относительно. Так, исследовательница отмечает:
«При больших доходах всякое отступление от великосветских манер принималось за невинную шалость и милую особенность. Зато соблюдение правил и радушие у крезов превозносились как невиданные добродетели» (с. 96).
Понятие «чести» существует лишь между равными — и в том случае, когда сообщество контролирует доступ в свой состав новых лиц. В этом отношении русское дворянство представляет собой любопытный феномен, не только весьма кратковременный (с конца XVIII века, от Манифеста 1762 года и Жалованной грамоты 1785 года), но и во многом сформировавшийся через стремление быть признанными внешним взглядом — западноевропейским дворянством. Тому, что значит быть дворянином, учились как у домашних наставников, так и по книгам и в путешествиях. Включенность в европейский мир побуждала саму высшую власть ограничивать себя до известного предела: чтобы не быть уравненной с деспотиями, она нуждалась в окружении другими, теми, среди кого, отчасти лукавя (но это лукавство как раз и предполагает признание правил игры, утверждение нормативности ситуации), могла считать себя лишь «первой среди равных», именовать себя «казанской помещицей», «московским дворянином».




Комментарии