Постмодернизм в России 1990–2010-х годов: «прозрачность текстов» и стратегии критики
«Структуры репрезентации насилия» и творческий прогресс в России: подвластное и неподвластное поэту
 5 015
5 015 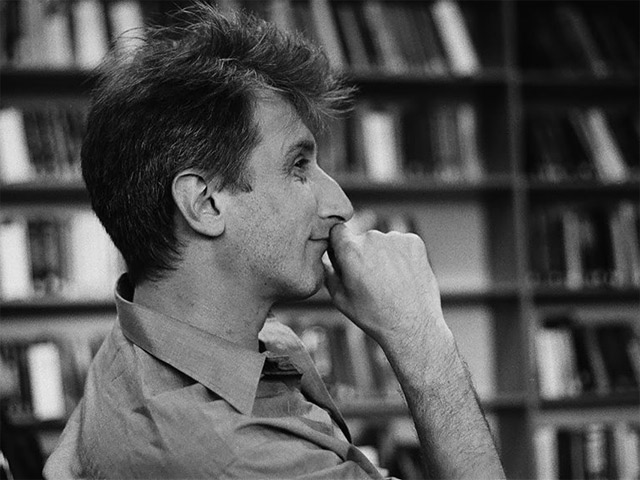
© Фото: Андрей Черкасов
Профессор славистики Пенсильванского университета Кевин Платт беседует с поэтом, критиком и переводчиком Александром Скиданом.
— Я сижу в Wexler Studio в кампусе Университета Пенсильвании с Александром Скиданом — поэтом и литератором, который приехал к нам из Санкт-Петербурга для чтения своих произведений. Сегодня 15 октября (2016 года), и мы будем говорить о текстах, которые вскоре будут опубликованы в Jacket2 — онлайн-журнале, который базируется в Университете Пенсильвании. Оба эти текста — «Киноглаз» и Pierrot le fou («Безумный Пьеро») — имеют очевидную связь с кино, так что для начала, Александр, поговорим о том, почему ты выбрал именно эти два фильма, что в этих фильмах привлекло твое внимание?
— Сначала нужно обозначить более широкий контекст, чтобы было понятнее. В конце 1990-х годов я написал целый киноцикл, он вошел в книгу «В повторном чтении» (1998), там есть тексты и о других фильмах, в частности о «Последнем танго в Париже» Бертолуччи и «Фотоувеличении» Антониони. И писал я их, потому что почувствовал, что приблизительно в середине 1990-х исчерпал тот стиль, которым писал раньше. Точкой осознания этого кризиса стала большая поэма «Пирсинг нижней губы», которую я написал в 1995 году. Это такая ироническая смесь исповедального и предельно саморефлексивного и пародийного протопостмодернистского письма в духе «Бесплодной земли» Элиота (The Waste Land), которая еще в 1980-е годы довольно сильно повлияла на меня именно как модель полифонического высказывания. И вот в середине 1990-х я понял, что этот путь исчерпан, по крайней мере мною, что дальше двигаться нельзя, и я стал искать какие-то более объективные формы.
И в поисках этой объективной инстанции, не субъективной, не лирической, я и пришел к кино, отчасти я для себя это тогда объяснял подражанием переходу Рильке от его ранних книг к «Новым стихотворениям», когда он взял за основу дескриптивный метод. Он описывал скульптуры, произведения искусства, архитектуру, тем самым убирая инстанцию «Я», субъекта высказывания на задний план, вынося его за скобки. Я ориентировался на нечто подобное в том смысле, что мне нужно было ухватить нечто вещественно, физически ощутимое, то, что позволяет занять позицию стороннего, невовлеченного наблюдателя и тем самым избежать «прямой» лирической исповедальности. Так я пришел к кино.
Но что интересно, все эти стихотворения написаны по памяти, я не пересматривал специально фильмы перед тем как начать писать, то есть это тоже фантазматическая работа воспоминания, реконструкция, там есть неточности в том, что касается нарратива, фильмической ткани; мне было важно поработать с собственным воображением, с собственной памятью, но через дистанцию. И фильм, великий фильм, каким является и «Агирре, гнев божий»…
— Это все великие фильмы европейского канона.
— Да, это канонические фильмы, и они позволяли мне попробовать этот новый объективный, как будто бы нейтральный, псевдонейтральный, дистанцированный тип письма.
— Все-таки герои в этих произведениях — хотя, конечно, там есть и лиризм, и лирическая личность, есть «ты», — несколько отличаются от типичного лирического героя; это, вероятно, инстанция, более похожая на идентичность критика, критический, а не лирический голос, не правда ли?
— Да, я согласен, здесь интересна энергия заблуждения, как говорил вслед за Толстым Шкловский, когда ты ставишь перед собой одну задачу, преследуешь одну цель, но в процессе работы приходишь к чему-то другому, — вот так же и я пришел к чему-то другому. Первоначально я полагал, что должен занять объективную, нейтральную позицию и просто описать этот фильм.
— То, что ты помнишь в этом фильме.
— Это был своего рода эксперимент над собой, попытка совершить феноменологическую редукцию.
— Это напоминает мне рассказ о Борхесе — о том, что он не мог найти свой авторский голос до тех пор, пока не стал писать те произведения, о которых он хотел бы писать как критик, с точки зрения критического наблюдателя.
— Да, это любопытная параллель, отчасти здесь произошло то же самое. Где-то подспудно (а я к тому времени уже напечатал книгу эссе «Критическая масса») мне было интересно попробовать соединить критический модус с лирическим, при этом лирический модус был поставлен под знак критического письма; критическое эссе здесь как бы входит в симбиоз с поэтическим высказыванием, и это, мне кажется, было чем-то новым для русской поэзии.
— Ты часто писал и продолжаешь писать критические эссе про кино, но если это симбиоз критического подхода с лирическим или поэтическим, все-таки есть отличия того, что ты можешь сделать в стихотворении, от того, что ты делаешь в эссе, или для тебя нет разницы? Как эти две вещи, эти два модуса для тебя сочетаются?
— Вообще-то одна из первых моих критических публикаций была именно о кино в одном из первых номеров журнала «Сеанс», по-моему, это был 1990 или 1991 год, мне заказали написать о фильме Бертолуччи по роману Пола Боулза The Sheltering Sky, который я позднее, десять лет спустя, перевел, и это было эссе, но в очень лирической форме, потому что фильм меня потряс, и когда я о нем писал, то пытался не скрывать точек самоидентификации с ситуацией персонажей, писать как бы изнутри их опыта, что было тоже в общем-то поэтической позицией.
Здесь же, в этом поэтическом цикле, я поступал vice versa, зеркально наоборот: я пытался соединить объективную позицию аналитика с поэтическим вживанием в ситуацию, и мне кажется, что получилось нечто своеобразное. Но, возвращаясь к твоему вопросу, все-таки сегодня я бы сказал, что это два разных типа письма, два разных состояния, два разных модуса. В 1990-е я считал немножко по-другому, был, что ли, большим авангардистом. Сейчас я считаю, что все-таки критик, в отличие от поэта, должен думать о читателе, в том числе о читателе, который, возможно, не смотрел этот фильм или не читал эту книгу, и критик обязан сделать все, чтобы читатель, прочитав его эссе, смог хотя бы отчасти реконструировать общую картину того, о чем идет речь. Это, скажем так, элементарное уважение к читателю.
— Базовая ответственность перед читателем критического эссе.
— В 1990-е я писал по-другому, я считал по-другому, да и время было другое. Тогда задача — и многие ее сознательно формулировали таким образом, в том числе мой старший друг, у которого я очень многому научился, Аркадий Драгомощенко, — состояла в том, чтобы поставить под вопрос канонические формы и жанровые границы. Аркадий, например, впрямую говорил о поэтическом письме как о военной машине в смысле Делёза и Гваттари и видел себя партизаном, который свою военную машину запускает в место нахождения регулярных государственных военных частей с целью их уничтожения; и в принципе в 1990-е было очень много сделано в плане разрушения границ между поэзией и прозой, критическим эссе и поэтическим высказыванием. Сейчас, с одной стороны, в силу усталости и автоматизации этого приема, а отчасти в силу того, что я ставлю перед собой более политически сформулированные задачи и они связаны отчасти со стратегией коммуникации с читателем, с более широкой массой читателей, чем это было в 1990-е, я ушел от этой немножко экстремистской партизанской парадигмы в более прозрачное письмо — по крайней мере, в том, что касается критического эссе: поэзия все-таки предполагает определенную слепоту и определенный терроризм в отношении читателя. Если перебрасывать мостик с темы насилия в фильмах Годара…
— Я как раз хотел задать следующий вопрос: есть ли связь между насилием в кинематографе и насилием того разрушительного проекта в литературе, о котором ты говорил?
— В сердцевине этих фильмов речь идет о насилии. У Годара, может быть, в несколько пародийной, «снятой» форме, но у Бертолуччи напрямую, у Антониони завуалированно, но там тоже в центре убийство.
— У Херцога фильм о насилии в чистом виде.
— Да, колонизация, покорение индейских племен, индейской территории.
— У Годара тоже, все-таки надо сказать, что это время Алжирской войны, это реакция. В стихотворении ты говоришь, что еще нет красных бригад, но все-таки тема революционного терроризма присутствует в этом фильме очевидным образом.
— Согласен, почти во всех фильмах Годара 1960-х годов эта тема присутствует, начиная с «Маленького солдата», который был запрещен цензурой во Франции и вышел на экраны даже позже, чем «На последнем дыхании». Уже в этом первом фильме речь идет о преследовании OAS героя, маленького солдата, там и пытки, и насилие присутствуют в чистом виде, и там есть страшный монолог главного героя о полной дезориентации и отчаянии, о том, что он не может встать ни на одну из сторон.
А в «Безумном Пьеро» насилие представлено уже в постмодернистском ключе, мне кажется, тут есть очень сильный акцент на самоиронии; поскольку предыдущие фильмы Годара более открыто касаются этой темы, здесь он позволяет себе отстраниться. Деконструкция жанров идет рука об руку с самоиронией, он как будто бы насмехается над собственной ангажированностью и ангажированностью своего поколения, по сути бессильной. И мне это представляется одной из сингулярных черт именно «Безумного Пьеро» в отличие от других фильмов Годара.
— Это чистым образом рифмуется с проектом, который ты описал, — с вашим с Аркадием Драгомощенко проектом о разрушении жанровых форм в 90-е годы насильственным образом: это, мне кажется, то же самое, это насилие 60-х годов, которое превращается в оружие против жанра. Но это приводит к другим вопросам — вопросам о том, как с тех пор, как ты написал эти стихи и думал о синтезе между критическим и поэтическим письмом, твои взгляды на критическое письмо и на само это разделение изменились. Другие части этой формулы тоже имеют совершенно другое значение в нашем современном мире. В нашем мире насилие — и государственное, и террористическое — приобрело совершенно другое значение, чем в 90-е годы, намного менее доступное для иронии: очень трудно иронизировать насчет насилия в нашем мире. Это раз.
И два. Несмотря на неопределенную политическую позицию Годара в этом фильме, тем не менее, я хочу связать Годара с традициями левой культурной критики той эпохи; и это проявляется в данном фильме. Здесь есть, мне кажется, отношение к Ги Дебору; есть отношение к Фуко. Это все-таки французская левая традиция, которая выплывает в этом раннем постмодернистском труде, но и это тоже имеет в современном мире другое значение: постмодернизм, постмодернистская эстетика теперь чаще всего связывается с правыми государственными и политическими позициями, по крайней мере в общем культурном и в критическом дискурсе.
Как ты смотришь сейчас на эти тексты и как эти стилистические и идеологические позиции изменились с тех пор в твоем литературном труде, в творчестве?
— Действительно, 11 сентября 2001 года оказалось водоразделом, после которого любая романтизация вооруженного насилия стала, как минимум, проблематичной. Однако Годар, по крайней мере в «Безумном Пьеро», не напрямую рефлексирует по поводу насилия. Прежде всего, мне кажется, он исследует то, как насилие преподносится в кинематографе и в средствах массовой информации, как оно производится массмедиа и эксплуатируется государственной машиной подавления, потому-то его фильм и не утратил своего значения.
Точно так же, на мой взгляд, и в этих поэтических текстах я очерчиваю скорее структуры репрезентации насилия, а не то, как оно используется в реальной политической борьбе, потому что это отдельный разговор.
Если же говорить о вооруженном сопротивлении глобальному капитализму — сопротивлении, которое продолжается в отдельных странах, на отдельных территориях, то оно сегодня стигматизировано гораздо больше, чем в 1960-е годы. У сегодняшних борцов-подпольщиков гораздо меньше сторонников среди культурных левых и левых активистов, и это тоже симптом того, насколько ситуация в мире изменилась. Во времена подъема национально-освободительных движений было по-другому, вооруженная борьба за независимость не приравнивалась к терроризму. Вообще в террористической вооруженной борьбе, как она зародилась в России в 1860-е годы, начиная с первых русских нигилистов-бомбистов, о которых стал думать Ницше…
— Начиная с Каракозова.
— Да, индивидуальный и тем более массовый террор говорит об отчаянии, для меня это и тогда, и сейчас — в первую очередь жест отчаяния, когда группе революционно настроенных людей в отсутствие широкой социальной поддержки не остается ничего другого, кроме как принести себя в жертву. И принести в жертву представителя власти.
— Или просто посторонних людей.
— Так возникает порочный круг насилия, из которого нет выхода. Здесь революционер оказывается заложником, по-гегелевски говоря, логики порочного круга или дурной бесконечности насилия, которая в конечном итоге дает государству и его репрессивным аппаратам индульгенцию на новый виток насилия, ограничений и запретительных мер, что и произошло после 11 сентября. Невиданный прежде размах репрессивных мер и мер по контролю за публичным пространством, за частной жизнью, не говоря уже о вторжении в Ирак и развязывании войны, — все это явилось реакцией на террористические акты, на террористическую борьбу.
Мы сталкиваемся с парадоксом и с очень жестокой иронией истории. Об этом, конечно, нужно думать, и думать очень взвешенно, потому что здесь на кону человеческие жизни и сам ход нашей истории. Поэтому, в отличие от 1990-х, я и здесь стараюсь занимать более саморефлексивную и взвешенную позицию.
— Строго говоря, здесь тоже заниматься экспериментами, которые ведут неизвестно в какую сторону, может быть рискованным делом, хотя иногда это наиболее рискованное дело может привезти к наиболее успешным и интересным результатам.
Я бы хотел все-таки вернуться к вопросу о левой политике и постмодернистской эстетике. 90-е годы — это эпоха постмодернизма, особенно в России; мне кажется, сейчас в действительно прогрессивных эстетических кругах, в особенности опять же в России, этот термин употребляется редко, но так же происходит и везде в мире, в Штатах тоже. Что случилось с постмодернизмом? Можно ли говорить о постмодернизме Годара? До эпохи постмодернизма этот термин применительно к нему никто не употреблял, хотя потом его стали описывать как ранний экземпляр постмодернизма. Что стало с постмодернизмом как эстетическим движением? Как это для тебя связывается с политическими позициями в 90-е годы, в 2000-е годы, сегодня?
— Есть два постмодернизма. То есть их, может быть, больше даже, но два можно диаметрально развести, чтобы понять ту сумятицу и путаницу, которая произошла и в России, и на Западе. Первая разновидность постмодернизма, которая лично мне ближе, возникает на рубеже 1960–1970-х годов. Это, скажем так, попытка продолжить захлебнувшийся модернистский проект в его наиболее радикальной версии, включая сюда и ранний авангард, нацеленный на революционное преобразование мира, но в совершенно иных исторических условиях — грубо говоря, в ситуации, когда и модернизм, и авангард уже институционализированы, уже стали частью музея и частью critical studies. И в этой ситуации музеефикации постмодернисты пытаются найти способы продлить, продолжить этот радикальный проект по пересмотру базовых оснований искусства и общества. В некотором смысле эту разновидность постмодернизма можно понимать как неомодернизм в ситуации…
— Это тогда просто неоавангард?
— Может быть, отчасти да. И эта попытка продолжить модернистский проект идет рука об руку с трезвым пониманием того, что в мире очень многое изменилось и напрямую продолжать этот революционный импульс невозможно; то есть, возможно, чтобы продолжить его, нужно делать нечто совершенно противоположное. Это одна — критическая, радикальная — версия постмодернизма, и она мне с самого начала, еще в 1990-е годы, была близка, причем не только такие фигуры, как Годар, но и, например, Бланшо или Беккет, были в моих глазах воплощением той разновидности постмодернизма, который наследует радикальному модернизму в условиях, абсолютно для этого не приспособленных; иными словами, они доводят логику модернизма до предела.
— В эпоху постреволюции, когда это эстетическое явление не может найти свой резонанс в чистом виде с революционными или с катастрофическими изменениями…
— Потому что исчез политический горизонт. И отсюда прокладывается логический мостик к вульгарной, или консервативной, версии постмодернизма, которая будет заключаться в полностью противоположном подходе к наследию модернизма и авангарда. Консервативный постмодернизм, напротив, отказывается от радикального утопического горизонта модернизма и пытается примирить его эстетические формы и отдельные приемы с коммерческими требованиями и запросом массового вкуса. Он словно бы говорит: мы устали от абстракции и отказа от линейного повествования, наше городское пространство дегуманизировано, давайте-ка вернемся к нормальным человеческим сюжетам и линиям в архитектуре, к фигуративности, нарративу, понятности.
Это другая версия постмодернизма, это Умберто Эко в литературе и Тарантино в кинематографе, это постмодернизм в американской архитектуре 1970–1980-х и трансавангард в живописи. По сути, эта версия сводится к эклектизму: да, мы сохраняем какие-то формальные элементы модернизма, но приспосабливая их для исторически другой, потребительской культуры.
И когда люди начинают говорить о постмодернизме, эти две разновидности постоянно смешиваются, они никогда не различаются, особенно когда эти дебаты переходят в газеты, в журналистику, в массмедиа. В России в 1990-е годы прежде всего была воспринята консервативная линия, где главным маркером выступали ирония и цитатность, игра смыслами и «вненаходимость», определенный релятивизм, поскольку требовалось разрушить старые идеологические константы и ценности, включая монополию коммунистической партии на смысл исторического процесса, и для этого, конечно, постмодернизм с его иронией, лоскутностью и карнавальной перекомбинацией форм служил прекрасным оружием. С этой линией в массовом сознании ассоциировался московский концептуализм.
— Но это тоже был момент, когда ощущалось, что именно эта эстетическая позиция и была в резонансе с некоторой важной социальной революцией, с эмансипацией, которая приходит с распадом Советского Союза. Это новая эпоха как раз таки потребительской культуры, выбора в магазине, джинсы Levi’s для всех, которая действительно для многих в начале 90-х казалась революцией.
— Это и была революция, просто советские люди, лишенные опыта жизни при капитализме, не могли предвидеть, насколько сокрушительными будут последствия в социальной и культурной сфере, в сфере культурного производства, ведь свободный рынок принес с собой и полное изменение функции культурного работника и культурного поля в целом. И вслед за тем, как в магазинах появились джинсы и еда, постепенно все культурное поле было переформатировано под знаком коммерческой выгоды и успеха. Для экспериментально-поисковой серьезной литературы, составлявшей львиную долю сегмента литературы неподцензурной, настали тяжелые времена, ведь чтобы такая литература существовала, необходимо множество связанных между собой больших сообществ и какие-то финансовые инструменты и государственные программы, которые могли бы ее поддерживать.
— Институты, учреждения.
— Все старые институты, связанные с самиздатом и неофициальной культурой, развалились, а новые вызревали очень медленно и выживали с большим трудом, переходная ситуация оказалась очень болезненной для культурного поля. И, конечно же, антипостмодернистская, а на самом деле антимодернистская реакция не заставила себя ждать, приведя к реставрации довольно консервативного мейнстрима, если говорить уже о 2000-х годах. Хронологически это совпадает с правым поворотом в российской политике, он, конечно, обусловлен многими вещами, которые произошли в 1990-е годы; это отдельный долгий разговор. Так или иначе, на фоне этого поворота вправо в российской политике и культуре в начале 2000-х происходит резкая политизация, и одной из важных точек отсчета в этом процессе для меня стала как раз традиция левой французской философии, кинематографа и искусства.
Внутренне я был готов к тому, чтобы начать перечитывать Маркса и Ленина, но уже сквозь призму Альтюссера и Адорно, Франкфуртской школы, Беньямина. Беньямин был для меня очень важным автором на протяжении всех 1990-х, хотя тогда я не акцентировал его левую позицию: он был для меня прежде всего мыслителем, который помогает понять какие-то вещи, связанные с новыми медиа, с фотографией, с кино и с тем, какое воздействие они оказывают на поэтическое письмо, он на многое мне открыл глаза. Но в начале 2000-х я и Беньямина начинаю читать уже через Маркса и через традицию, которая возвращает нас к очень простым, базовым вещам, к тому, что есть социальные противоречия, есть классовый антагонизм, они никуда не делись.
— Они усугубляются?
— Они становятся более сложными.
— И скрываются под новыми формами.
— И мое обращение, скажем, к более прозрачному письму, по крайней мере в том, что касается эссе, критики, моих книжных обзоров и рецензий, связано именно с пониманием того, что коммуникативная стратегия должна быть более демократичной, тем самым письмо может способствовать созданию некого сообщества.
— Давай вернемся к стихотворению. Мы смотрели вчера вечером вместе Pierrot le fou, и мне кажется, это дает возможность задать этот вопрос. Многое изменилось с тех пор, как ты написал это стихотворение. Было бы стихотворение об этом фильме другим, если бы ты его писал сейчас? Когда ты его перечитываешь, на твой взгляд, оно отражает твое восприятие традиции Годара, этого фильма в 90-х годах и как ты воспринимаешь это кино сейчас, какие детали сейчас бросаются в глаза, когда ты его пересматриваешь?
— Сейчас я бы, конечно, написал другое стихотворение, я очень много с тех пор занимался Годаром и именно с левых позиций, много чего о нем прочитал и посмотрел те фильмы, которые не знал, когда писал это стихотворение. Я написал эссе о его фильме «Страсть», о периоде после возвращения к авторскому кино после экспериментов с политическим видео и работы в группе «Дзига Вертов», переводил какие-то тексты о нем для газеты «Что делать». Так что теперь я знаю о Годаре гораздо больше, но, как известно, чем больше ты знаешь, тем меньше ты способен что-то сказать. Поэтому я вижу сейчас в этом стихотворении определенную смелость, но и определенную слепоту. Сегодня я бы, возможно, подчеркнул момент визуальной деконструкции, которая в этом фильме присутствует, то, как Годар работает с текстами — совершенно в духе дерридианской грамматологии.
— Да, он разбирает все по буквам, начиная с первоначальных титров.
— И очень много игры с полисемией отдельных слов и с жанровыми конвенциями, сейчас я бы на это обратил внимание в большей степени. На самом деле традиция деконструктивистской языковой игры задолго до Годара и Деррида присутствует уже у Дюшана, в двусмысленных названиях его работ и в письмах разным корреспондентам, а до него, и сам Дюшан в этом признается, у Реймона Русселя с его комбинаторикой и языковой игрой, оказавшей на юного Дюшана большое влияние. Тогда я ничего этого не знал, может быть, только догадывался, а сейчас эта генеалогическая линия для меня очевидна, более того, у нее есть параллели и в русскоязычной, и в англоязычной литературе, соответственно, и контекст для меня несколько изменился.
И все же в стихотворении я уловил какие-то важные точки и неочевидные констелляции насилия, любовной страсти и пародийного монтажа, это схвачено в стихотворении. В нем даже упоминается Джойс (если вспоминать о пародии и каламбурах). Сегодня я бы, наверное, больше пошел именно в сторону пародийности и деконструкции, связал бы это с проблематикой Деррида, который тоже, кстати говоря, в своих поздних работах пришел к разработке политической теории.
— Абсолютно, и к Марксу. Я думаю, что на этой точке было бы правильным закончить наш разговор, да?
— Да, согласен.
— Александр, огромное спасибо за столь насыщенную беседу.
— Спасибо тебе, Кевин.
Читать также
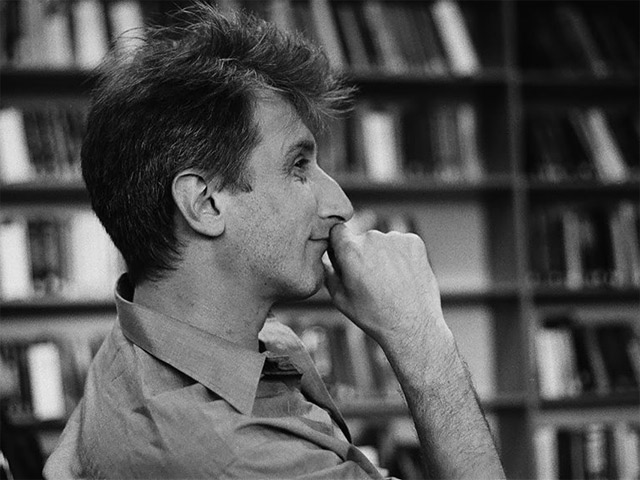




Комментарии