Марк Липовецкий
Формальное как политическое
Чтение и политика. Текущая словесность, смещения и формы
 4 413
4 413 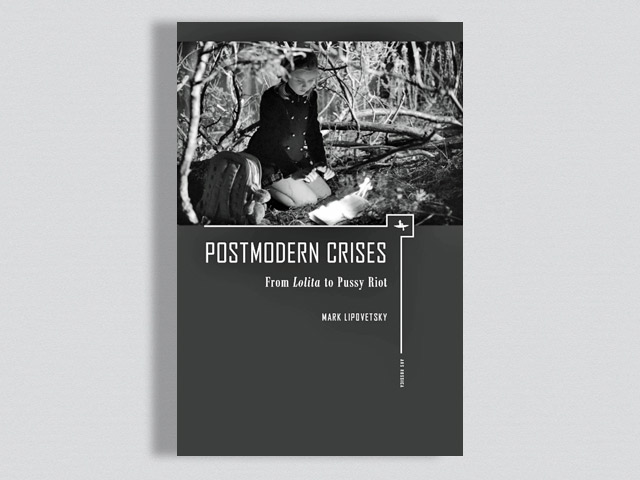
От редакции: Фрагмент главы «Формальное как политическое» из новой книги Марка Липовецкого любезно предоставлен для публикации на Gefter.ru автором. Более подробно концепция книги будет представлена в статье «Между Приговым и ЛЕФом: перформативная поэзия Романа Осьминкина», готовящейся к печати в журнале «Новое литературное обозрение».
В поисках конструктивного принципа
Принципы поэтического языка тем ощутимее, чем больше они кажутся скрытыми идеологией: ведь идеологические нарративы простодушно следуют принципам поэтики. Особенно наглядно это видно в современной России, где идеология возвращается, доказывая тем самым, что ее мнимое отсутствие было просто одним из художественных приемов. Формалисты победили. Во всяком случае, в культурном климате современной России Бахтин и даже Лотман смотрятся менее уместно, чем Тынянов, Эйхенбаум и Якобсон. Шкловский вне конкуренции [1].
Хотя сравнение эстетического и политического часто лишено достаточных оснований, сама популярность этого сравнения вскрывает новую тенденцию, отделяющую современные изводы формализма от его исторических источников. Формалисты были достаточно осторожны для того, чтобы скрывать политический смысл поэтики (только в исключительных случаях, как в статьях о языке Ленина, они говорили о поэтике политических текстов, но и тут не покушались на дискурс). В наши дни не только теоретики, но и сами писатели вполне уверены в политическом смысле своей поэтики. Корреляция отказа от рифмованной силлаботоники с участием в антипутинских протестах или приверженности «новому реализму» с поддержкой правительства после аннексии Крыма слишком очевидна, чтобы ее не замечать. Такая ситуация в новинку для русской культуры: в 1980-е годы, как и в перестройку, и в 1990-е годы, писатели, принадлежавшие к нонконформистским кругам или находившиеся под их влиянием, заверяли в превосходстве литературы над политикой и независимости литературы от любой политической или идеологической позиции. Владимир Сорокин вспоминал в 2006 году:
«Cформировался как литератор я в московском андерграунде, где хорошим тоном считалась аполитичность. Я помню притчу, которая ходила из уст в уста: когда немецкие войска входили в Париж, Пикассо сидел и рисовал яблоко… Такой была и наша позиция: сиди и рисуй свое яблоко, независимо от того, что происходит вокруг».
Разумеется, такая позиция была тоже политической, поскольку предполагала отказ от советской эстетики с ее идеологическим диктатом, который, в свою очередь, мог зеркально отражаться в диссидентском дискурсе. Писатель и один из отцов-основателей Рунета Сергей Кузнецов в лекции для «Открытого университета» упоминал, что афоризм Довлатова о зеркальном взаимоотражении советской и антисоветской риторики стал девизом нашего поколения и что чувство свободы от политики и идеологии резко возросло после 1991 года, когда вдруг «мы», силы либерально ориентированные, антисоветские и антитоталитарные, «победили».
Но начиная с середины нулевых и особенно после зимних протестов 2011–2012 годов что-то радикально поменялось в российской культуре: люди книги вновь полюбили политику. Симптоматический пример неизбежной политизации литературного текста вопреки очевидным намерениям автора — роман Виктора Пелевина «Смотритель» (2015). В этом романе Пелевин пытается возродить понимание литературы как области, свободной от политики, и терпит поражение на глазах у читателя. Замечательно, что «Смотритель» при этом оказывается редким примером модернистской утопии в современной литературе. Герои романа, император Павел I и отец американской демократии Бенджамин Франклин, решают соорудить параллельную реальность, Идиллиум, который пользуется автономией от хода земной истории. Главный герой романа Алекс успешно проходит все испытания и получает полную власть над Идиллиумом. Несмотря на убежденность в иллюзорности не только Идиллиума, но и собственной личности, Алекс совершенно не желает возвращаться в реальность «старой земли». В изоляции от истории Идиллиум, тем не менее, становится эрзацем истории, синтетическим музеем опознавательных черт разных эпох. Восточная мистика амальгамирована здесь с европейским оккультизмом XVIII и начала XIX века, монастырские ритуалы — с их масонскими соответствиями и брендовый для Пелевина буддизм — с мистическими толкованиями современных компьютерных программ.
Пелевин, прославившийся постмодернистскими сатирами на постсоветскую политику, всегда был исключительно чуток к изменениям самого духа времени. Похоже, в этот раз он почувствовал, что сам смысл политического письма изменился, и достаточно трезво понял, что он сам никак не войдет в резонанс с этими изменениями (или же трезво оценил риски подобного предприятия?). Отсюда роман без политики. Но попытка утопической фантазии, вопреки желанию Пелевина, в текущем социальном контексте невольно приобрела смысл политической метафоры. Сочетание веры в то, что «другой» — это лишь отражение (искаженное, несовершенное) «меня», сопровождаемое убеждением, что «мой мир» вмещает в себя все многообразие форм существования, — это и есть формула имперского сознания. Заменим «старую землю» на столь же мрачный и пугающий «Запад», и панорама Идиллиума по Пелевину становится слепком коллективного воображаемого современной российской политики.
Идиллиум Пелевина представляет собой имперское воображаемое, поднятое до уровня философской утопии. Бегство от политики должно очистить ее от цинизма, плебейства и крови. Лучшего фильтра, чем метафизика, для этой операции трудно придумать. Другими словами, Пелевин остается политическим писателем, даже когда пытается полностью уйти от политики. Только на этот раз сатира сменилась утопией. Похоже, сам того не понимая, Пелевин превратился из острого критика современного культурно-политического порядка в его адвоката.
Пример Пелевина лучше других демонстрирует, что вовлечение современной русской литературы в политику — это не модное поветрие, но масштабное парадигматическое смещение, занявшее около трех десятилетий. Новая парадигма предполагает глубинную связь между языком, или лучше сказать формой в понимании формалистов, современной русской литературы — и политическим. Я готов утверждать, что даже феминистский лозунг 1960-х годов «Личное есть политическое», приписываемый Карол Ханиш, который часто цитировал один из самых выдающихся российских социологов культуры, Борис Дубин, слишком узок для описания сегодняшней ситуации. Вместо этого можно, пусть в модусе пожелания, выдвинуть лозунг «Формальное — это политическое», а лучше предположить, что формальное всегда было политическим. Просто в наши дни этот аспект литературной формы вышел наружу. Речь, конечно, идет о радикализованной, остраненной форме, заявляющей о себе в нынешних культурных условиях как политическая сила. Можно предположить, что панк-молебен «Пусси Райот» стал образцом нового политического искусства, в котором форма становится подрывным носителем политического переворота. Ведь не сами слова панк-молебна, но «дьявольское дрыгание» и музыка вызвали самое большое остервенение консерваторов. Но не только это. Когда политический консерватизм находит оправдание собственного существования в воспроизводстве культурного мейнстрима позднесоветского периода, творчески приспосабливая его к постсоветским условиям, любое сопротивление этой культурно-политической формации приобретает политический смысл панк-рока.
Также в наши дни многие критики и участники культурного процесса говорят о проникновении постмодернистских приемов в официальные политические дискурсы и риторику в России. Надежда Толоконникова из «Пусси Райот» предполагает, что в наши дни «политический акционизм теряет силу с каждым днем, потому что государство уверенно перехватило инициативу: теперь оно — художник, и оно творит с нами все, что вздумается. Борис Гройс сказал бы, что Путин продолжает традицию сталинского тотального искусства (почитайте — “Gesamtkunstwerk Сталин”!), когда целая страна, 1/6 суши, — произведение искусства одного человека».
Означает ли это, что постмодернистская форма автоматизировалась, оказавшись поглощенной политическим и культурным мейнстримом, и поэтому требуются более радикальные остранения? Этот вопрос заслуживает подробного обсуждения, но в общем и целом я убежден, что постмодернизм достаточно широк и разнообразен для того, чтобы породить альтернативы всем формам, присвоенным и автоматизированным официальной культурой. Далее я сосредоточусь на некоторых таких альтернативах, обсуждая их возможности и ограничения.
Mиноритарная литература
Как учат нас Шкловский и Тынянов, форма организует поэтический язык с помощью сдвигов и смещений, ощутимых только при сравнении с предшествующими культурными языками. Смещение языка заметнее и очевиднее в поэзии, чем в прозе, чем и объясняется, почему в нулевые и десятые годы, впервые после шестидесятнического опыта, поэзия оказалась эстетически инновативнее прозы [2].
Поэтический прорыв произошел вопреки всем могущественным стимулам, таким как литературные премии, гонорары и сетевые книжные магазины, поддерживающим по большей части прозу, а не поэзию, не говоря уже о драматургии. Я только что упомянул 60-е, но сегодняшняя ситуация существенно отличается от ситуации «оттепели»: расцвет поэзии не сопровождается освободительными тенденциями в общественной сфере (как раз наоборот), и большинство инновативных поэтов принадлежат к тому, что Борис Дубин определял как «миноритарная литература». Вслед за Делёзом и Гваттари, определившим миноритарную литературу как «связь индивида с непосредственностью политики», Дубин писал: «Это маргинальная культура, культура смыслового и эстетического поиска. Она обращена чаще всего к очень узким кругам, даже кружкам аудитории, значительную часть которой составляют сами авторы». Также Дубин считал, что такая литература «стремится выйти к предельно универсальным формам и значениям всеобщего», так как она посягает на экзистенциальные или во всяком случае антропологические измерения человека. Последнее утверждение, по-моему, спорно, но вот определение экспериментальной интеллектуально инновативной литературы как «меньшинства в меньшинстве», как политической по умолчанию, вскрывает явление, совершенно новое и неожиданное для постсоветской культуры; хотя на самом деле это определение вполне может быть отнесено и к андеграунду 1970–1980-х годов. Сегодня андеграунд «переехал» в публичное пространство Интернета, малотиражных книг и нескольких журналов, таких как «Воздух», «НЛО», “TextOnly” и «Транслит».
Соотношение современной русской «миноритарной литературы» и мейнстрима парадоксальным образом и согласуется, и вступает в противоречие с логикой эволюции литературных форм, описанной Тыняновым в статьях «Литературный факт» (1924) и «О литературной эволюции» (1927). То, что Тынянов называл автоматизацией большой формы, замещением ее «словесной арабеской», «семантическим изломом», фрагментом, руиной целого, свидетельствует о переходе к видению мира, основанному на сознательном отказе от телеологических объяснений истории и от линейных исторических нарративов. Тынянов показал такой сдвиг на примере новой роли, обретенной в культуре первой четверти XIX века «неофициальными» жанрами, такими как частные письма:
«Здесь, в письмах, были найдены самые податливые, самые легкие и нужные явления, выдвигавшие новые принципы конструкции с необычайной силой: недоговоренность, фрагментарность, намеки, “домашняя” малая форма письма мотивировали ввод мелочей и стилистических приемов, противоположных “грандиозным” приемам XVIII века».
Если приложить выводы Тынянова к современной литературной ситуации, результат будет весьма противоречивым. С одной стороны, в наши дни автоматизация больших форм неотделима от их массового успеха. Весьма показателен пример дебютного романа Гюзель Яхиной (р. 1977) «Зулейха открывает глаза» (2015). Этот роман выпускницы сценарного факультета ВГИКа стал литературной сенсацией. Получивший премии «Большая книга» и «Ясная поляна», он также оказался в шорт-листах таких разных премий, как «Русский Букер» и «НОС» («Новая словесность»), заслужив горячее одобрение во всевозможных литературных кругах, консервативных и либеральных, тяготеющих к толстым журналам и к новым интернет-медиа. Изданная с комплиментарным предисловием Людмилы Улицкой книга стяжала похвалы критиков враждующих лагерей, таких как Анна Наринская и Павел Басинский. Что же вызвало такой восторг? Роман представляет собой мелодраматическую историю плоских характеров на фоне коллективизации. Вместо остранения читателю предложены многочисленные легко узнаваемые клише из советской литературы как либерального, так и почвеннического плана. При более внимательном чтении становится видно, что за показным «мультикультурализмом» романа стоит совершенно кондовый ориентализм. В лучших традициях соцреализма Зулейха отказывается от своей национальной культуры, представленной как репрессивная, и находит высшую правду в любви к русскому человеку — коммунисту и офицеру НКВД. В целом такой роман идеально смотрелся бы в советской литературе 1960-х годов и вполне мог бы быть написан одним из последователей Сергея Залыгина или Чингиза Айтматова (Улицкая указывает в предисловии на близость с последним). Хотя подробное изображение коллективизации и ГУЛАГа в романе сделало бы невозможной его публикацию в представленном виде в 1960-е годы, достаточно прочесть характеристику героя, чтобы глубоко погрузиться в стилистику соцреализма:
«Игнатов никогда не был бабником. Статный, видный, идейный — женщины обычно сами приглядывались к нему, старались понравиться. Но он ни с кем сходиться не торопился и душой прикипать тоже. Всего-то и было у него этих баб за жизнь — стыдно признаться — по пальцам одной руки перечесть. Все как-то не до того. Записался в восемнадцатом в Красную армию — и поехало: сначала Гражданская, потом басмачей рубил в Средней Азии […]. До сих пор бы, наверное, по горам шашкой махал, если бы не Бакиев. […] Он-то Игнатова и вернул в родную Татарию. Возвращайся, говорит, Ваня, мне свои люди позарез нужны, без тебя — никак».
Сегодня этот текст читается как сценарий постсоветской версии «Рабыни Изауры» (которого мы, по-видимому, очень скоро и дождемся). Сенсационный успех этого романа по-своему предвосхитил небывалый истерический ажиотаж московской и вообще российской публики вокруг живописи Валентина Серова (хотя Серов, конечно, не так прост, как «Зулейха»): публика ищет простые и ясные культурные явления, которые можно противопоставить тревожащему смешению националистической и консервативной политики с вырванными из контекста и десемантизированными элементами постмодернистской риторики. Это смешение чувствуется везде и всюду — в сериалах и новостях, в фейсбучной полемике и речах президента.
В то же время, в полном соответствии логике Тынянова, в современной русской культуре такие феномены, как ЖЖ и позднее Фейсбук, приобрели роль писем начала XIX века. Подъем и растущий авторитет малых жанров, таких как автобиографические заметки, литературные виньетки и анекдоты (в смысле пушкинской эпохи), прослеживается с конца 1980-х. Начало этому буму положили «Записные книжки» Сергея Довлатова, которые и сформировали культурный жаргон «последнего советского поколения», расцвета этот жанр достиг в книгах таких разных авторов, как Михаил Гаспаров, Александр Жолковский, Михаил Безродный, Лев Рубинштейн и Гриша Брускин. Одновременно влиятельная традиция «промежуточной прозы» вновь обрела плоть как влиятельное культурное явление. Этот тип письма, моделью которого можно считать «промежуточную прозу» Лидии Гинзбург, включает в себя, с одной стороны, «Опавшие листья» Василия Розанова, дневники Корнея Чуковского и Михаила Кузмина, а с другой стороны, эксперименты Андрея Синявского, Павла Улитина и Евгения Харитонова. Блогерство дало новый импульс жанру промежуточной прозы: интеллигенция открыла для себя новые способы коммуникации, и промежуточная проза стала метажанром малой русской литературы наших дней.
Интернет, вопреки как оптимистическим, так и пессимистическим предсказаниям, не смог изменить природу литературы. Мы продолжаем читать линейно, а не гипертекстово. Визуальность тоже вовсе не вытеснила вербальное искусство, но восприняла его правила: минисериалы, которые мы теперь смотрим на планшетах, стали заменой публиковавшихся частями романов прошлого. Фейсбук и ЖЖ в России оказались весьма удобны для литературных экспериментов: эти сервисы в России менее ориентированы на практическую жизнь, чем в США, и не настолько монополизированы молодежью. Российские блоги и микроблоги принадлежат всем поколениям: в них возможны философия, литературная критика, короткие эссе и все перечисленные выше микрожанры. Блоги в России по-настоящему гетеротопичны в фукольдианском значении этого слова: в них перекликаются разнородные фрагменты речи, бессчетные субъекты высказывания, документы и фейки, интимные исповеди, кратчайшие комедии и трагедии, аналитические тексты и саркастические (и даже грубые) комментарии. Именно они создают «этот беспорядок, высвечивающий фрагменты многочисленных возможных порядков в лишенной закона и геометрии области» (Foucault, 1970, пер. Н.С. Автономовой и В.П. Визгина).
В отличие от телепередач, эти медиа почти исключительно вербальные. Можно сказать, реванш литературоцентризмa.
Согласно Фуко, гетеротопии «тайно… подрывают язык; потому что они мешают называть эти <и> то; потому что они “разбивают” нарицательные имена или создают путаницу между ними; потому что они заранее разрушают “синтаксис”, и не только тот, который строит предложения, но и тот, менее явный, который “сцепляет” слова и вещи» (Foucault, 1970). Во многих отношениях это лучшая характеристика политического смысла современной русской поэзии, объясняющая, почему она так уютно чувствует себя на Фейсбуке и подобных площадках. Коммуникация авторов и читателей в микроблоге, в котором новые тексты появляются практически ежедневно, стала рутиной для таких выдающихся поэтов, как Станислав Львовский и Андрей Родионов, Елена Фанайлова и Полина Барскова, Линор Горалик и Борис Херсонский, Галина Рымбу и Роман Осьминкин, Кирилл Медведев и Мария Степанова, как и многих других. Так же и «новая драма» как культурное явление была сформирована интернет-форумами и конкурсами; документальная драма часто представляет на сцене онлайн-дискуссии, как, например, в пьесе Елены Греминой и Михаила Угарова «Сентябрь.док» (2005).
Конечно, вряд ли правомерно утверждать, что современная русская поэзия и драма — производные от Интернета. Тем не менее, я не сомневаюсь, что интернет-медиа усиливают и подкрепляют те свойства поэтических и драматических текстов, которые облегчают политическое функционирование их формы. Стихотворение, запощенное в Фейсбуке, звучит иначе, чем то же стихотворение на книжной странице. Как часть новостной ленты, оно встроено в коммуникацию и ожидает непосредственных реакций от читателей. Такое общение включает в себя перформативный элемент: стихотворение находится в контексте по-настоящему перформативных жестов, окружающих его в новостной ленте, таких как политические и личные заявления, поздравления, просьбы о помощи и т.д. Онлайн-статус поэтического и шире литературного текста по умолчанию подразумевает иллюзию аутентичности и даже «документальности»: текст кажется тем, что автор написал только что, решив сразу же поделиться написанным с читателем.
Такая перформативность не нова для русской поэзии. Тем не менее, ее важность постоянно возрастала за последние два десятилетия. В миноритарной литературе, где постинги в Фейсбуке и небольшие тексты приобретают роль настоящей публикации, коммуникативные и перформативные возможности поэзии радикально расширяются. Именно перформативность и иллюзия аутентичности — в различных сочетаниях — становятся конструктивными принципами современной текущей словесности; именно в этих формах ищет себя новое политическое сознание.
Примечания




Комментарии