Евгений Савицкий
Освобождающее удовольствие от прошлого в историографии 1980–1990-х годов
Мы представляем новый цикл интернет-журнала «Гефтер» — публикации фрагментов диссертационных исследований молодых российских научных кадров. Открывает его фрагмент кандидатской диссертации доцента РГГУ Евгения Савицкого (2006).
 2 390
2 390 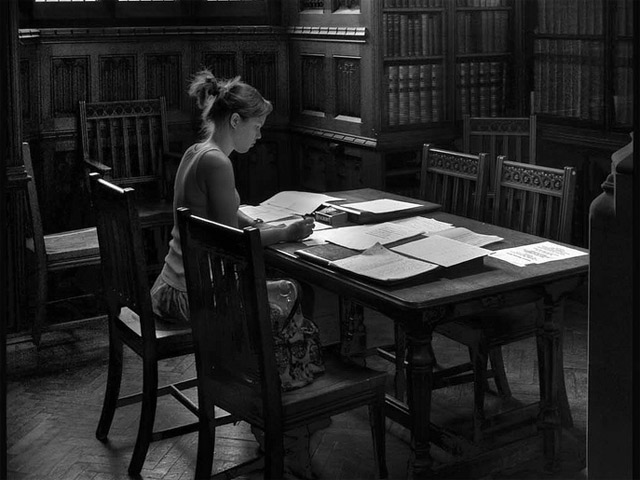
Удовольствие историка от собственных занятий — специфическое явление позднесоветской культуры: советский режим производства научного знания, со множеством цензурных фильтров и речевых условностей, поневоле фрустрировал историка. Эта фрустрация часто оборачивалась самоуглублением, погружением в изучаемую эпоху с целью найти «собеседников». Но можно ли сказать, что такой собеседник освобождал от фрустрации? Что удовольствие доставлялось действительно общением с собеседником из прошлого, а не соблюдением опутывающих руки правил? Историки, не желая впадать в догматизацию (и беллетризацию) своих сюжетов и сближаться с авторами исторических романов, не желали становиться и экспертами, прогнозирующими будущее на основании прошлого, и безучастно, без всякого удовольствия, перебирать государственнические марксистские сценарии. Исследование Евгения Савицкого позволяет обсудить эти вопросы в лучшем смысле беспристрастно.
В течение следующей недели мы покажем еще один фрагмент кандидатской диссертации Евгения Савицкого, привлекший внимание редакции интернет-журнала «Гефтер».
Если спросить современного историка, в чем причина его занятий историей, то ответом скорее всего будет: «Потому, что это мне нравится».
Такого рода по-человечески банальные высказывания можно услышать от самых выдающихся из наших коллег. Возьмем, например, недавно изданный том бесед Натали Земон Дэвис с Дени Крузе: он открывается темой «подлинного удовольствия» («un vrai plaisir»), которое испытывает историк при запоминании фактов, что переводится Крузе в более традиционный вопрос об «увлеченности» («fascination», «émerveillement») историей, событиями и фактами. Такой ход беседы неизбежно приводит к вопросу о том, почему именно Франция стала источником доставляемого удовольствия («plaisir»), на что Дэвис отвечает, что она просто знала французский… [1]
Это получение удовольствия от занятий наукой кажется настолько естественным, подлинным и легитимным, что в наше время ученые без всякого стеснения выходят на митинги требовать повышения зарплат под лозунгами «Хотим заниматься любимым делом». Эти требования предполагают, что с самим получением удовольствия, с этим подлинно глубоким чувством, все в порядке, с ним ничего не надо делать, нужно лишь позаботиться о более комфортных условиях на будущее.
То же самое можно сказать и о разнообразных психологических и психоаналитических объяснениях этого «подлинно глубокого чувства». Независимо от того, насколько такие объяснения убедительны, все они предполагают, что историк и не может в сущности ничего больше, как извращенно наслаждаться. При этом в условиях всеобщей психологической травмированности (в крайнем случае, от отсутствия собственной травмы) невротическая работа историка оказывается ничем не хуже любой другой. В конечном счете, психологи так же искренне верят в фундаментальную роль получения удовольствия, в его глубоко личностный характер, как и сами историки.
Причина психотерапевтического интереса к историкам — явная бессознательность их удовольствия. «Это мне нравится» или «я люблю историю» избавляет от необходимости какого-либо сложного риторического обоснования собственной работы, позволяет не думать, закрывает вопрос о сути того, что делает историк. Но именно такого рода темное, непрозрачное основание историографии неизбежно порождает домыслы и подозрения.
Воспитанная в семье и школе любовь к истории воспринимается изначально как нечто хорошее, заслуживающее поощрения. Отдельный вопрос — любовь к какого рода истории прививается, какой эстетический вкус и т.п. она подразумевает и насколько все это действительно заслуживает поощрения. Меня же здесь интересует само это чувство, по отношению к которому любовная эстетика уже вторична.
Важно отметить, что наслаждение историков собственной работой — сравнительно недавнее явление. Как пишет, например, французский медиевист Мишель Пастуро в своей статье «История в цвете» [2], за историком не всегда признавалось право получать удовольствие. По его словам, еще недавно считалось неприличным признаваться в том, что главной причиной научных исследований является доставляемое ими наслаждение. Социальные задачи истории, серьезность ее источников, строгость метода и стремление к научности требовали от исследователя проявлять холодность и сдержанность в отношении его научных занятий, в выборе проблем и источников. Иное поведение, вспоминает Пастуро, рассматривалось как бесчестное и недостойное, и это было преобладающим мнением не только внутри французской историографии.
Примечательно, что сам Пастуро исходит при этом из убеждения, что само наслаждение, стремление к нему, существовало всегда, оно лишь подавлялось, как и многие другие желания в унаследованной от XIX века культуре. Историк только не осмеливался «признаваться» в своих тайных удовольствиях. Такого рода точка зрения находит поддержку в эпистемологическом взгляде на становление историографии.
Как известно, «позитивистам» исследователь виделся недостаточно бесчувственным, слишком человечным, недо-машиной. Серьезность и строгость исторического или филологического анализа не допускали страстных оценок и развлечения историями дам. Научная историография противопоставляла себя романтикам-любителям, с их зачарованностью веками родной истории или странностью, чуждостью, экзотичностью дальних стран.
Разочаровавшаяся в позитивизме культурная история делает с чувствами историка то же, что и вообще с его субъективностью, а именно превращает их из неизживаемого недостатка в преимущество и, более того, в важный критерий исторической работы. Подобно тому как исследовательская субъективность теперь позволяет создавать все новые образы прошлого, обогащая его картину в целом и служа основой методологического плюрализма, так же и удовольствие от истории позволяет сделать ее более красочной, более демократичной.
Так, например, историки литературы подверглись критике за то, что занимаются сложившимся каноном шедевров «серьезной литературы» и игнорируют литературные предпочтения людей прошлого — то, что им нравилось [3]. Источники этих удовольствий были, однако, в прошлом не более высоки, чем в наше время, — вопреки тому, что думают историки, замкнувшиеся в собственных представлениях о литературности, столь же историчных, как и всякие иные представления. Причины такого игнорирования культуры прошлого, ее особости, виделись, среди прочего, в существующей академической культуре, в использовании историками и литературоведами наукообразного языка, не доставляющего никакого удовольствия читателю. Научные работы оказываются скучны и предназначены для прочтения двумя-тремя специалистами в той же области, что ведет к замкнутости академической жизни, ее неспособности расширить собственное поле интересов. Идеал строгой и серьезной научности препятствует собственному осуществлению, ибо он закрывает глаза исследователя на то, что кажется несерьезным, легкомысленным, поверхностным, не заслуживающим исследования. Выход из этого положения виделся в приближении историографии к условиям рыночной экономики, в написании таких историй, которые были бы столь же легкими и приятными для чтения, сколь и научно обоснованными. В целом нарративизация истории стала одной из главных тем в западных дискуссиях о репрезентации прошлого в 1980-е годы, в которых несколько позднее приняли участие и российские историки. (При этом возникает соблазн задаться вопросом: не потому ли эта нарративизация историографии нашла поддержку среди российских историков, что превращение литературного китча в проводник элитарных идей, видевшееся на Западе в качестве идеала сочетания «серьезности» и «доступности», уже давно было реализовано в искусстве социалистического реализма, на котором был натренирован взгляд многих поколений советских людей? Во всяком случае, примечательно, что историки, освобождающиеся от засилья тяжелого «наукообразного» языка в пользу более «обыденного», как правило, начинают писать языком канонизированной в соцреализме литературы XIX века. К сожалению, язык постсоветской историографии исследован еще крайне недостаточно.)
Примечания:




Комментарии