Александр Марков, Дарья Дроздова, Виктория Файбышенко
Об искренности гуманитария
Тему «эффектов гуманитарного знания» вновь поднимают выступление редактора интернет-журнала ГЕФТЕР Александра Маркова и комментарии к нему преподавателя НИУ ВШЭ Дарьи Дроздовой и старшего научного сотрудника РИК Виктории Файбышенко.
 2 829
2 829 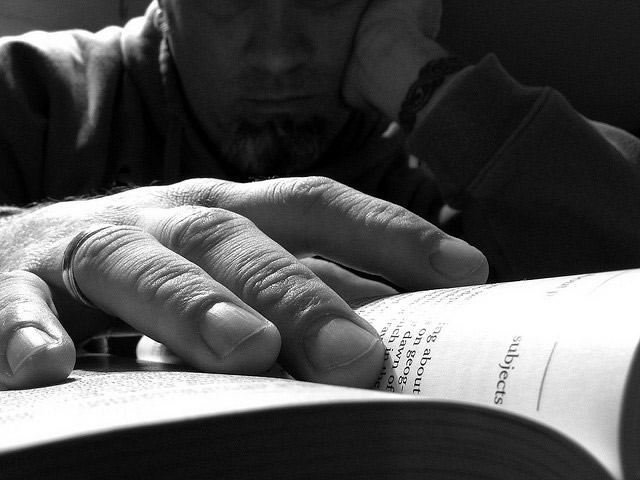
Доклад на Гуманитарных чтениях РГГУ, 2012 год. Полностью будет опубликован в сборнике материалов Гуманитарных чтений.
От редакции: В постановке вопроса о рецепции гуманитарного знания в обществе есть множество подводных камней, что и доказывает эта дискуссия. Действительно, если задуматься, почему все три автора так откровенно проходят мимо темы политического заказа на знание? Это упростило бы некоторые задачи Александру Маркову: сделай он предположение, что экспертиза — политический заказ, это сразу наметило бы другой подход. Постиндустриальная экономика знаний описывается А. Марковым также вне ее политической стихии. Но то же самое происходит и с его оппонентами! Но ведь это достижение? Для современного молодого ученого политика — великий немой. Мы предлагаем нашим читателям поразмышлять над этими проблемами вместе со спорщиками журнала ГЕФТЕР. Предположим, что все они считают, что адресат популяризации знания — то самое «общество» — изначально стоит на уровне запроса гуманитария на образованность, т.е. в состоянии по достоинству оценить страсть ученых к запятым и искренность профессиональной аскезы. Допустим, что гуманитарный кризис не обусловлен ни отсутствием, ни наличием политического заказа на знание. Поверим в это — и посмотрим, как гуманитарии оценивают себя, а не социум, — кризис науки как идеала «всех».
Наиболее частая претензия, которую предъявляют ученым-гуманитариям внешние наблюдатели, — неясность их намерений. Что заставляет людей вместо того, чтобы «жить достойно», «жить поэтично»? Разумеется, упреки в «схоластичности», «оторванности от жизни», «крохоборстве» сопровождают гуманитариев уже несколько поколений. Но особенность ситуации последнего десятилетия — принципиальная подозрительность в отношении любого гуманитария. Если раньше внешние наблюдатели в целом верили в существование «честных ученых», преданных делу, наравне с беспринципными карьеристами, то теперь они будут подозревать любого гуманитария в том, что он преследует личные, а не общественно значимые цели.
Конечно, есть внешние причины такого отношения. Прежде всего, бурно развивается индустрия популяризации науки, отличающаяся от того облика научно-популярных изданий, который утвердился в период европейской индустриализации. Тогда популярная наука выполняла своеобразную терапевтическую функцию, приучая городских обывателей не пугаться призраков прогресса. В противовес фантастам и антиутопистам авторы научно-популярных книг, от К. Фламмариона до Я.И. Перельмана, прославляли возможности человеческого разума и укорененность самых головокружительных изобретений в простых интуициях. Например, зрение нас обманывает, представляя отдаленные предметы как близкие, — но, преодолевая обман зрения, мы уже оказываемся готовы к покорению далекого космоса. Прогресс оказывался функцией довольно простой рефлексии, доступной любому вдумчивому и внимательному читателю.
Но гуманитарии, в силу специфики самих наук, которым они были привержены, не могли использовать этот ресурс обыденной феноменологии. Поэтому они добивались статуса популяризаторов окольным путем: через публичные выступления и через готовность общаться с теми людьми, которые еще не знают естественно-научных правил игры, прежде всего с детьми. Профессор-гуманитарий, в перерывах между возвышенными лекциями объясняющий что-то своему сыну или же выступающий перед многолюдным собранием, — это и был профиль гуманитария, который, не имея возможности подкупать изобретательностью, подкупал искренностью. Он не мог призвать всех постигать языки или историю, как популяризатор естественных наук призывал покорять и обживать космос, — но он мог показать, насколько он предан и языковым явлениям, и историческим фактам, насколько для него жизненно важна правильность даты или постановки запятой.
В постиндустриальном мире всё переменилось. Новая экономика знаний потребовала выдавать популярную продукцию как от ученых-естественников, так и от ученых-гуманитариев. Только теперь популярная литература должна врачевать не столько испуг перед последствиями прогресса, сколько испуг перед последствиями беспамятства. Хотя диверсификация наук и компенсируется различными междисциплинарными программами, диверсификация уровней образования (одни и те же знания могут передаваться и в школе, и в университете, и через Википедию — но где гарантия, что это одни и те же знания?) производит в обществе впечатление распада единого континуума знания. Казалось, что если раньше средний образованный человек «знал, что он знает», то теперь он не знает, обладает ли он необходимыми «классическими» и «актуальными» знаниями. На поверхностном уровне этот новый экзистенциальный испуг проявляется в разговорах о «гибели классики», «разрушении канона», «клиповости», «фрагментарности» и т.д. Мы не будем обсуждать вопрос о том, насколько справедливы такие диагнозы, — нам они представляются вариантами единого инвариантного чувства, что при многоканальной передаче знания нет никаких гарантий, что знание передано полностью. Для таких гарантий либо нужно получить всю информацию по всем каналам, либо ввести особую кодировку, некий «типовой пример» знания наподобие того, как при шифрованной передаче информации применяются эталонные маркеры, свидетельствующие о том, дошла ли информация полностью или была искажена при передаче. В качестве такого эталона и выступает популярная литература.
Некоторые гуманитарии вполне приспособились к новым условиям; и в списке бестселлеров нон-фикшн, наравне с книгами по физике и микробиологии, могут оказаться книги по истории языка или архитектуры. Но написать удачную научно-популярную книгу по гуманитарным дисциплинам труднее, чем по естественным наукам: прежде всего потому что добросовестность гуманитария требует ставить под вопрос жанр и манеру изложения, отказываться от привычного языка и взвешивать на весах вкуса все обороты и словоупотребления. Это напрямую противоречит популяризаторским целям: дать самое приблизительное представление о предмете, с помощью вполне рутинных слов воспроизводя картину целого. Удача гуманитария по продвижению своей книги оказывается удачей индивидуальной — его искренности верят, как и его успеху, тогда как с позиции остальных гуманитариев он маргинализует собственный предмет.
Логика продвижения знания в условиях конкуренции ресурсов его поставки приводит и к другим эффектам, блокирующим доверие к искренности гуманитария. Прежде всего, в наши дни привычный инвестиционный капитализм терпит кризис. Риски постоянно повышаются, тогда как трудовые усилия приходится распределять по все новым сегментам «экономики знаний». Если каждый теперь «сам себе инвестор», компенсирующий риски усилением участия в производстве знания на каком-то узком участке, то прежний инвестор, способный вкладывать свои средства сразу во множество секторов, уходит в прошлое. Но именно таким инвестором и был читатель гуманитарных трудов: он был готов приобретать эрудицию самого различного плана для того, чтобы в каждый момент, на каждом повороте событий получать выгоду в конкретной точке. Он, например, мог учить наизусть множество стихов, чтобы со временем произнести удачную публичную речь, или, скажем, читать энциклопедию от корки до корки, чтобы разобраться в смысле «Фауста» Гёте. Была ли эта выгода мировоззренческой (прочитать произведение, которое изменит всю жизнь) или только прагматической (гуманитарная образованность как подспорье в административной карьере) — важно, что получение этой выгоды было устроено одинаково. Существовала реальность университета гумбольдтовского типа, и существовали разные круги адептов: от сотрудников и студентов — до тех, до кого только эхом доходили волны образования. Но все участники этих кругов и были контрагентами гуманитарного образования, инвестировавшими в его распространение.
Кроме того, что инвестиции в эффекты гуманитарного образования, а не только в само образование, стали проблемными, в гуманитарной области дает о себе знать кризис, начавшийся в 1980-е годы. На карте гуманитарных исследований осталось мало белых пятен, и статус «первого ряда» в культуре тоже оказался подорван. Обычно считалось, что мерой искренности исследователя становится его готовность изучать возвышенные и классические образцы культуры. Прямота души требует от него обходить маргинальные области культуры и устремляться напрямую к тем фигурам и достижениям, которые имеют воспитательное значение. Подразумевалось, что Гёте или Пушкин гораздо лучше могут выступить как воспитатели души внимательного исследователя, чем поэты третьего ряда, интересные как жанровые курьезы. Исследователь старого типа скорее соглашался считать себя курьезом и подчеркивать свою нелепость, чем подрывать авторитет общепризнанных вершин культуры. Но когда белых пятен в культуре мало, когда не только «все знают все слова», но все заранее знают и замыслы друг друга (хотя бы потому, что эти замыслы отражены в заявках на гранты), — никакого различия между возвышенным «местом отсутствия» (непостижимостью вершин даже самыми изощренными исследовательскими методами) и обыденным «местом присутствия» курьезов и жанровых речевых стратегий не остается. Все речевые стратегии оказываются закономерными и выводимыми из исследованного материала. Поэтому искренность исследователя выглядит со стороны как попытка приватизации части речевых стратегий, а не как контрагентские отношения с возвышенным. Он воспринимается не как агент бизнеса, заключающий договора с сильными игроками на рынке и тем самым обеспечивающий развитие своей отрасли, а как акционер бизнеса, выпускающий новый тип акций, которые приводят в смятение весь рынок.
Изменилась и природа «академических интриг». В памятные времена они строились в режиме «колониальных войн». В колониальной войне сложное давление крупного капитала и искренних цивилизаторских устремлений, слияние финансовых интересов и мифа о бремени белого человека не позволяли завоевателям осознать свою вину. Этим колониальные войны отличались от прежних наемнических войн, в которых цинично выстраивались новые структуры власти в результате овладения капиталами. Тогда как сейчас любая война осознается как неправая и интриги в академической среде считываются не как столкновение людей, искренне любящих науку, но не свободных от низких страстей и интересов, но как неискреннее распоряжение капиталами, их постоянная переконвертация по жульническому курсу. Интриган воспринимается не как человек со своей искренней позицией, а как человек, который ищет, как бы еще представить свою научную деятельность, чтобы эта репрезентация скрыла от всех его неправоту.
И, наконец, решающий удар по академической искренности нанесло экспертное знание. Главная задача экспертизы — оценить все по максимуму наподобие того, как арбитражная оценка ущерба, если не ограничена общим юридическим принципом благонамеренности, вычислит максимальный ущерб. Тогда как искренность довольствуется малым: она существует тогда, когда никто не собирается взыскивать за ущерб прямо сейчас, не обращается к экспертизе, которая должна раз и навсегда решить все сложности в экономических отношениях. В то время как современная экономика, в которой необходимо обосновывать резкую капитализацию или декапитализацию отдельных отраслей, требует именно решающего вмешательства экспертного знания, которое всякий раз творит свой окончательный суд. Уже невозможно сотрудничество «искреннего учителя» с «искренним учеником»: учитель должен быть не столько искренним, сколько умеющим связывать конкретный вид культурного производства с порождением конкретного типа знания. Учитель должен противопоставить экспертизе полную капитализацию своей отрасли, полное превращение ее в место, где и знание, и мудрость, и опыт, и ясность мышления создают нерасточимый капитал, который полностью работает на поддержание данной отрасли. На поверхностном уровне это значит, что он и преподает, и пишет книги, и руководит диссертациями, и выступает по телевизору, и делает еще множество вещей. Если раньше такое совмещение разных видов деятельности профессором-гуманитарием как раз акцентировало разрывы между возвышенной позицией науки и жанровым характером любой частной научной деятельности, то сейчас, напротив, подчеркивается связность того капиталистического хозяйства, в котором риск можно упразднить, экстренно перепрофилировав соответствующий «цех» (скажем, вместо выступления по телевизору написав серьезную статью в газету). Искренним учитель уже не будет — но искренним всегда будет ученик.
КОММЕНТАРИИ
Дарья Дроздова: История о трех лицах
Дарья Дроздова — преподаватель НИУ ВШЭ, историк науки, занимается влиянием философии на становление методологии науки в первой половине ХХ века.
Если честно, мне кажется, что в этом тексте происходит смешение и смещение проблем. Это можно заметить уже в первом абзаце. Ты пишешь:
«Если раньше внешние наблюдатели в целом верили в существование “честных ученых”, преданных делу, наравне с беспринципными карьеристами, то теперь они будут подозревать любого гуманитария в том, что он преследует личные, а не общественно значимые цели».
Противопоставление «служение науке / служение себе» превращается в простое противопоставление личного и общественно значимого, а это не совсем одно и то же. Часто — и в гуманитарных науках чаще, чем в естественных, — поиск научной истины ведется ради самой истины, и в нем нет места духу прагматизма и общественной пользы. Общественная польза будет, но как далекий и, возможно, побочный результат. Отсюда и убийственность требования обозначать «возможный практический результат» в заявках на гранты или в описании результатов исследования. Но без этого «возможного практического результата» нет и признания — и такова столь верно отмеченная в твоем докладе черта нашего времени.
Таким образом, мы имеем дело не с противопоставлением, а с взаимодействием трех сторон: общество — ученый (со всеми его личными и корыстными мотивами) — Истина как научный идеал и стержень научного поиска. Популяризация, конкуренция и экспертиза, о которых ты пишешь, наносят удар в первую очередь по научному идеалу, хотя и в разной степени.
С предложенной оценкой популяризации я соглашусь лишь отчасти. Космос — это, конечно, интересно, я не спорю, а фламмарионовские оды Разуму, ведущему к Прогрессу и всемирной Гармонии, бесподобны. Но Фламмарион, призывающий к познанию Космоса ради мира и гармонии, видел в этом возвещение новой философии. Естественно-научное знание — это знание частного, оно может побуждать человека к лучшему, лишь трансформируясь в философию и даже религию. И долгое время статус гуманитария был высок, а к его словам прислушивались, если его филология или история достигала философского охвата и обобщения. А от философии ждали мудрости и руководства.
Спустя сто лет Космос все еще волновал, а оды Разуму были отправлены на свалку истории — как и образ мудреца-философа. И с этого момента вся популяризация стала просто доступным и интересным изложением знаний всякого рода и происхождения. И тут все зависит от мастерства рассказчика. И, если честно, меня одинаково увлекают и квантовый бильярд, придуманный Гамовым, и причуды мозга из коллекции Оливера Сакса, и жизненные перипетии Коперника, Кеплера и Галилея в изложении Артура Кестлера. И я не вижу причин, почему популярная книга по физике должна быть более востребована, чем книга по филологии или истории. Это лишь вопрос таланта и желания.
А вот возросший прагматизм и, как следствие, кризис научного идеала видятся мне гораздо более серьезным аспектом проблемы. Отсюда и цинизм, и интриги, и нарушение связи «учитель – ученик». Следует признать: нет более никакой Высокой науки. Да и проблемы тоже обмельчали. И все мы в той или иной степени несем на себе отпечаток того общества, в котором живем. И нам самим понятно, что занятие наукой ради науки не является оправданием. Тут, можно сказать, дети в Африке голодают, а гуманитарии считают, что исследование запятых в десятом списке всеми забытой рукописи является делом чуть ли не государственной важности.
Разве за такими гуманитариями можно признать право на существование? Не праздный ли это интерес? Не удовлетворение ли любопытства за государственный счет? Где то основание, которое придает смысл копанию в деталях, о которых все равно можно сформулировать лишь мнение? Если знание продуктов человеческого духа не становится лучшим знанием человека — того неизменного человеческого в нем, о котором свидетельствуют история и литература, и если это знание не возвращается к нему примером, призывом, суждением, то это знание никчемное. Вот о чем современный кризис. Без Великого идеала гуманитарное знание задыхается в самом себе. А низкое порождает лишь низкое.
Ответ мне видится пока только один: запятые запятыми, но к людям ты выйдешь с Гёте или Пушкиным, потому что Гёте еще не отмер. Нам кажется, что эпоха Лихачевых и Сахаровых прошла? Ничего подобного. Просто те, кто могут и должны, стесняются ими быть.
Виктория Файбышенко: Труд на фабрике гуманизма — длиною в жизнь
Виктория Файбышенко — старший научный сотрудник РИК, занимается теорией европейской культуры, историей советской гуманитарной науки, философскими проблемами гуманитарных наук.
В твоем тексте искренность гуманитария сразу заявляется вопросом, который задают внешние силы и который чреват для отвечающего дисциплинарными последствиями (по крайней мере, репутационными). Таким образом, и ответ на него также связан с выходом гуманитария к «публике», с необходимостью не просто трансляции, но принципиального смещения всех имманентных мотиваций и замены их презентацией в самом широком смысле. В такой перспективе гуманитарий всегда «неискренен», как ты и утверждаешь в конце. На устах его улыбка авгура.
Можно ли говорить об искренности не как о слабом месте социальной презентации гуманитария, а как об экзистенциальной характеристике самой его научной деятельности? Тут ясно, что если мы держимся за это хорошее слово, то должны отделить искренность от простого признания своей ангажированности, от проработки самого «места письма». Или настоящая аскеза ученого (в которую я продолжаю верить) уже выходит за пределы простой «искренности»?
«Профессор-гуманитарий, в перерывах между возвышенными лекциями объясняющий что-то своему сыну или же выступающий перед многолюдным собранием, — это и был профиль гуманитария, который, не имея возможности подкупать изобретательностью, подкупал искренностью. Он не мог призвать всех постигать языки или историю, как популяризатор естественных наук призывал покорять и обживать космос, — но он мог показать, насколько он предан и языковым явлениям, и историческим фактам, насколько для него жизненно важна правильность даты или постановки запятой».
Историческая перспектива разговора об искренности гуманитария, мне кажется, не может обойти то, что придавало абсолютную значимость постановке запятой: гуманитарные науки как часть предприятия европейского гуманизма, и разделяющая его судьбу, и отделяющаяся от нее.
Самый большой вызов (во всех смыслах) искренности гуманитария заключается в том, что он хранитель ресурсов самооправдания и самообвинения для языка публичности даже после того, как перестал выступать держателем самого этого языка. Экспертное знание — знание к случаю, знание, как оно может быть востребовано к моменту, то есть претендующее на моментальную эксплицируемость и имеющее в виду схватывание, дискурсивную обработку некой вненаучной проблемы. Оно действительно устроено иначе, чем знание, имеющее в виду долготу всей человеческой жизни.
Может быть, этот ресурс другой временности, открываемый через разрывы, всегда утопический, — и есть та «ценность» гуманитарной науки, которую учитель мог бы искренне сообщить ученику.
Гуманитарий критикует предшественников за их историческую ангажированность и вроде бы готов отнести эту критику и к себе, сказав об исторической детерминированности своих взглядов, но всегда останавливается именно в момент постулирования историчности своего труда: я увидел историю с какой-то точки, и в момент видения эта точка уже не принадлежит дискурсивному порядку истории.
Думаю, что отсюда нет выхода в пределах собственно методологической самокритики гуманитария. В точке настоящего гуманитарий обращается в философа. Собственно исторический человек — человек настоящего — выступает искупителем истории или может быть тем, кто способен раскрыть в уже бывшем искупительную силу.




Комментарии