«Историографическая анкета» интернет-журнала ГЕФТЕР. Подборка первая
Мы предложили анкету из более чем 60-ти вопросов отечественным гуманитариям различных — что было принципиально! — политических взглядов, а также и научных специализаций. Приводим первую подборку ответов на некоторые из наших вопросов.
 2 286
2 286 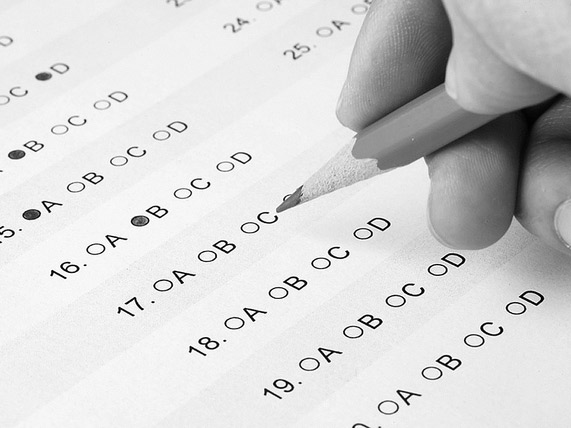
© Alberto G.
От редакции: Современная историографическая и гуманитарная ситуация в России принципиально неоднозначна, сложна. Но мы не представляли себе, насколько, пока не предложили анкету из более чем 60-ти вопросов отечественным гуманитариям различных — что было принципиально! — политических взглядов, а также и научных специализаций. Приводим первую подборку ответов на некоторые из наших вопросов.
Елена Трубина, социолог, урбанист, профессор Уральского государственного университета (Екатеринбург)
Считаете ли вы, что Интернет размывает историческое сознание?
Интернет размывает любое сознание, неизбежно делая его лоскутным и сокращая устойчивость внимания, но его вездесущность и незаменимость столь тотальны, что трудно уже представить чье-то историческое сознание в его «неразмытой» форме. Более того, Интернет, в силу того, что в нем всему есть место, способствует расцвету разных способов рассказывания истории и вникания в нее: от тех, что предполагают строгую временную и логическую последовательность, до тех, что допускают чтение/вникание с любого места. Интернет больше отвечает ощущению современности как сочетанию несочетаемого, сосуществованию разрозненных стилей видения и понимания и невозможности объединиться вокруг какого-то одного направления исторического развития. Разноголосица мнений, соревнующихся за внимание в глобальной Сети, — возможно, единственный тип существования истории (в ее запечатленной, репрезентированнной, дискурсивной форме): сложно представить нарратив, который ее (эту сегодняшнюю разноголосицу) хотя бы убедительно опишет, не говоря уже — объяснит.
Единственное, возможно, исключение — такие описания мировой истории, что именно Сеть включают в качестве существенного компонента и этапа исторического развития. Я, в частности, имею в виду книгу Роберта и Уильяма Макнила «Сеть человечества» (McNeill J.R. and McNeill W.H. The HumanWeb. N.Y., 2003). В России, насколько мне известно, переведена только статья старшего из авторов, Макнила-отца, посвященная меняющейся форме всемирной истории (http://abuss.narod.ru/Biblio/mcneil_image.htm). И статья, и его написанная вместе с сыном книга полны сюрпризов, на непреложности которых для создания исторических текстов настаивал Ф. Бродель. К примеру, в упомянутой статье Макнил-старший провозглашает десятое столетие нашей эры временем интенсивных культурных заимствований Западом достижений Востока, имея в виду не только китайскую торговую экспансию, приведшую к активизации торговли на Западе, но и рост «рыночного поведения» внутри страны, среди «бедных крестьян и городского рабочего класса». Городского рабочего класса в X веке в Китае?! Недоумение, которое вызывает столь вольное употребление понятий, казалось бы, надежно зарезервированных за другими временами и регионами, может оказаться очень продуктивным.
Уильям Макнил, кстати, причастен и к формированию всего поля мировой истории (world history).Я прочитала несколько его книг, готовя послесловие к переводу на русский язык «Метаистории» Х. Уайта, что мы сделали вместе с В. Харитоновым. Дело в том, что после выхода в свет книги Уайта проблематизировалось различение между историей и метаисторией, понимавшейся в традиционном смысле создания масштабных, синтетических, глобальных повествований. Другим названием таких повествований была «мировая история» (так предлагают называть соответствующую историческую специализацию, в отличие от «всемирной истории» — предмета исследования этой группы дисциплин). Употребление термина «метаистория» в смысле глобального повествования относилось к представлению исторического знания в виде некоторого континуума, одной крайней точкой которого будет эмпиризм, а другой — интуитивное постижение целого. Уязвимость попыток спекулятивного синтеза истории была очевидна, к примеру, уже для Питирима Сорокина, который, предлагая свой вариант «метаистории», призывал, тем не менее, к объединению причинно-функционального, эмпирически-индуктивного и логически-осмысленного подходов. «Метаисториками» называли, кроме Сорокина, Герберта Уэллса, Освальда Шпенглера, Арнольда Тойнби, Кристофера Даусона, Льюиса Мэмфорда, а также именно Уильяма Макнила. В 1970-е казалось, что эти авторы были последними, кто решился создавать свои монументальные труды в «диалоге с Провидением» (П. Костелло), но в 2000-е мировая история возродилась, когда вышли в свет труды Дэвида Кристиана (Christian D. Maps of Time: An Introduction to Big History. University of California Press, 2004), Патрика Мэннинга (Manning P. Navigating World History: Historians Create a Global Past. New York and Basingstoke: Palgrave/Macmillan, 2003) и ряда других авторов (среди которых, хотя он и не является профессиональным историком, у нас более известен Джаред Даймонд).
Можно ли говорить о «глобальной истории» в ее новых выражениях в России и в мире?
«Мировых» и «глобальных» историков объединяет фокус на масштабных процессах, разворачивающихся во времени большой длительности (Ф. Бродель). В то же время о глобальной истории, в отличие от мировой истории, часто говорят как о подходе, позволяющем объяснить «неодновременность одновременного» (Э. Блох), в частности разрыв мира по осям Юга и Севера и связанный с этим неравный доступ к ресурсам и благам. Производство бедности в промышленных масштабах, которое Хэйден Уайт в последних своих выступлениях справедливо называет одним из самых масштабных событий модерности, взывает к объяснениям, но вот находит ли таковые? Уайт прав, подчеркивая, что если можно пытаться следовать конвенциям социального знания, проводя историческое исследование событий современности, то, рассказывая о его итогах, нельзя исходить из традиционных представлений об отличии факта и вымысла. Он заходит дальше, подчеркивая, где бы он в последние годы ни выступал, что само представление об адекватном воссоздании фактов истории должно быть пересмотрено в пору, когда капитализм размывает понятия общества и сообщества. К сожалению, он ничего не говорит о глобальных историках, ему больше интересны Себальд с его «Аустерлицом» либо Сол Фридляндер с рефлексией сложностей исторического запечатления холокоста. Однако если держать в голове событие производства бедности в промышленных масштабах в качестве, так сказать, критерия продуктивности метаисторического письма, то возникает следующий вопрос. Можно ли в качестве удачных объяснений этого и других событий рассматривать те новые попытки написать «глобальную историю», что кажутся усилиями обозреть историю с точки зрения если не Бога, то мыслителя, не страшащегося перспективы уместить в одну-две книги многие тысячелетия истории человечества? Такой мыслитель объединяет квази-божественное всеведение и научную дистанцированность от морали и идеологии. Такой мыслитель также представляет новые отношения между наукой и читающей публикой.
Я бы хотела кратко высказаться о глобальной истории на примере одного ее представителя, две книги которого переведены в России, — Джареда Даймонда. Его дисциплинарная принадлежность сложна, но с большой долей условности направленность его книги можно обозначить как объединение истории с географией. Он интересен в качестве публичного интеллектуала, адресующего свои книги широкой публике, а то, что две его книги продолжают повсеместно хорошо продаваться, что-то, наверное, говорит об исторических интересах глобальной, по сути, публики. Упомянутая глобальная публика страшится нормативности. Она не хочет вникать в моральные противоречия современной истории (сужу — эгоистически — по тому, как (не) продается наша с С. Ушакиным книга «Травма: пункты»). В то же время публика не чурается ни морализаторства, ни тех нарративов, что его оспаривают либо неявно продвигают. Так что геоисторик, обещающий объяснить, что это не на расовом либо моральном превосходстве, но на технологических преимуществах, возможных в результате особых условий окружающей среды, выросло могущество западной цивилизации как мировой силы, нашел себе немало сторонников среди критиков и просто недоброжелателей последней. Главный тезис Даймонда в «Ружьях, микробах и стали» — в том, что история разных народов приобрела разное направление не в силу биологических различий между людьми, но в силу различий в характере «доставшейся им» окружающей среды. Процветание, пусть и относительное, глобального Севера объясняется тем, что ему досталась лучшая окружающая среда. Иными словами, Даймонд создает масштабный нарратив, причинно-следственно увязывающий окружающую среду и экономическое развитие.
Ханс Ионас говорил, что, с научной точки зрения, проблема спасения человечества столь же важна, сколь и проблема уничтожения человечества, и частью «глобальной истории» закономерно становятся нарративы коллапса. Одним из таких является «Коллапс» Даймонда, интересный тем, что он свободен от культурного детерминизма (преобладающего во многих других попытках объяснить, почему одни страны и народы более, к примеру, склонны к коррупции, а потому бедны и балансируют на краю катастрофы, чем другие). Даймонд показывает, что это экологические катастрофы, а не «неудачные» системы ценностей, становятся спусковым крючком геноцидов.
Даймонда упрекают в географическом детерминизме (который один из критиков, в духе времени, именует методологическим территориализмом), но интересно, что отнюдь не лишенные критических нот рецензии Малькольма Глэдуелла и Дэвида Харви содержат признания, что книги им понравились. Однако как все-таки быть с преобладающими в профессиональной истории националистическими объяснениями бедности и в целом «невезучести» отдельных народов, неустойчивых политических и экономических институтов и некомпетентности элит историей и культурой этих стран? Если Глэдуэлл усматривает новизну подхода Даймонда именно в том, что тот позволяет избавиться от культуроцентричности в описании судьбы той или другой страны, то Харви ратует за диалектический синтез экономического, политического, культурного и географического измерений развития того или другого региона. Добавлю, что проживание в одной из хронически «невезучих» стран побуждает вспомнить и о глобальном экономическом порядке, сила воздействия которого на происходящее сегодня сопоставима с природной. Не он ли принимает участие в том, как окружающая среда, история и культура той или иной страны формируют ее элиту и задают траекторию экономического роста?
Модест Колеров, историк, издатель (Москва)
Какое определение «исторической политики» в России вы дали бы по ее состоянию на 1988–1989, 1993, 2012 годы?
Полноценной исторической политики, само определение которой пришло к нам не из Германии, где оно родилось, а через посредничество Прибалтики, Польши и Украины, заостривших против России ножи национальных историографий, — у нас не было и нет. По периодам же это описывается так. Перестройка — юношеское разрушение стереотипов, старческое сведение счетов, публицистическая мимикрия под исследование, бюрократическое — в духе Волкогонова — злоупотребление и перерождение. Начало 1990-х — «архивная революция», мучительный поиск языка исследования, попытка наполнить свободу исследования старыми формулами, деградация и старого языка описания, и подражаний реликтовому дореволюционному языку. 2012 — паралич профессионального сообщества историков на фоне возмутительной кампании «десталинизации», в которой «Мемориал» свои партийные эмоции попытался навязать всему обществу (не только науке), пользуясь режимом наибольшего благоприятствования как в архивах (включая архив ФСБ, возглавляемый солидарным конфидентом «Мемориала»), так и в президентской власти.
Методы и модели исторического знания менялись за последние десятилетия не раз. Насколько вы переживали эти изменения как крушение старых идеалов, как вызов или как необходимость по-новому проработать старый материал? Были ли у вас кризисы, связанные с изменением моделей исторического знания?
Я застал редакторскую цензуру в 1990 году в издательстве МГУ, когда там готовилась к печати моя работа. Но я не уступил, да и не служил методологии, скорее, слишком далеко уходил в ее критическое переживание. Принципиально не принимал и не принимаю моделей. Помню время недавнее, когда даже в авторефератах диссертаций недрогнувшие руки автоматически заменяли «методологию» Маркса на «методологию» Броделя. Моделей и методов — как клавиш на клавиатуре — должно быть бесконечно много. Главное, чтобы автор и исполнитель клавира использовал только нужные клавиши и всегда был критичен к себе.
Какие авторитетные имена советского и русского исторического знания для вас по-прежнему притягательны и почему: благодаря профессионализму, гражданской позиции и проч.?
Историк должен быть историком. Гражданская позиция никому еще профессионализма и знания не прибавила. Мне в юности был близок пафос историка А.А. Зимина, не остановившегося ни перед чем в неудачной, на мой взгляд, ревизии «Слова о полку Игореве». Меня восхищал Е.В. Тарле. Но больше всего мне дали профессионалы смежных наук: историко-литературная и текстологическая традиция «Литературного наследства», полного академического собрания сочинений Ф.М. Достоевского, революционный строй мыслей В.Б. Шкловского. Если бы надо было выбрать одно имя, с которым я вырос, это был бы, несомненно, Шкловский.
Что для вас «современность», как вы ее локализуете, с каких годов она для вас начинается, с каких событий, как характеризуется географически и почему?
Единой современности почти нет. Есть ее западные и восточные слои, латиноамериканские… На Западе она начинается с эпохи индустриализма и национализма — с середины XIX века. Россия — особая часть Запада.
Насколько принципы историзма значимы для вас при оценке современных политических явлений? Какое из мировых политических событий последних лет вы считаете самым значимым историческим событием и как об этом событии написал бы беспристрастный историк?
Историзм — это высший профессиональный принцип для любого гуманитарного знания, рассматривающего предмет в его развитии. Я не могу судить обо всем мировом контексте, поскольку у меня нет отмычки ни к ее западному, ни к ее божественному обозреванию. На поверхности — распад СССР. Но я лично пережил как окончательный исторический переворот в современной истории, как конец XX века войну США и НАТО против в Югославии за Косово в 1999 году. Все остальное, по-моему, в том числе и выход Талибана из-под контроля США, стало уже следствием явленного в 1999 году — слепого исторического инструментализма, подобного Хиросиме.
Остаетесь ли вы историком в повседневной жизни или область профессиональная и область бытовая для вас строго разграничены? Может ли оптика историка что-то дать для повседневного опыта, для практического общения с другими людьми?
Безусловно, я историк всегда. И жалею лишь о том, насколько не хватает историкам институций — личного бюрократического опыта, историкам социальности — опыта личной нищеты. И т.п.
Александра Суприянович, гендерный историк, медиевист, первый руководитель Центра гендерных исследований ИВИ РАН (Москва)
Остаетесь ли вы историком в повседневной жизни или область профессиональная и область бытовая для вас строго разграничены? Может ли оптика историка что-то дать для повседневного опыта, для практического общения с другими людьми?
Любая профессия так или иначе затрагивает все сферы жизни человека, поскольку участвует в формировании идентичности. Профессиональный опыт является фоновым знанием и отражается даже тогда, когда мы не действуем в профессиональной сфере. Ну а собственно исторический опыт довольно часто востребован и напрямую, поскольку, так или иначе, соприкосновение с историей — через праздники, рекламу, фильмы и даже вещи — происходит в нашей жизни довольно часто.
Кто для вас пример идеального историка России? Какими качествами он должен обладать?
У каждой эпохи свои идеалы. Собственно, идеалами они являются потому, что отражают представления о должном, сформированные его временем. То, каким должен был быть историк советской эпохи и нынешних времен, — разные идеалы. Хотелось бы видеть у нынешних гражданскую позицию в соединении с уважением к другим и умением воспринимать оппонентов.
Что нужно, чтобы историческое знание не превратилось в поддержку аморальной политики, — создавать новые тексты или учить интерпретировать старые?
История не существует вне политики, даже если сама себе в том не признается. Возможность «моральной политики» теоретически вероятна, но практически труднодостижима. «Моральной» или «аморальной» ее делает история. Здесь могут работать как новые тексты, так и интерпретации старых.
Какая тенденция в развитии современной исторической науки вам представляется доминирующей? Вы согласны с этой тенденцией или противодействуете ей?
Плюрализм, я за многообразие методов и подходов. Единая догма убивает науку, как и нетерпимость к иному мнению.
Как вы оцениваете т.н. кризис историзма? Каковы методы противодействия ему и возможны ли «защиты истории», значимые не только для историков, но и для широкой общественности?
Если историки не выполняют своего социального назначения, бесполезно защищать историю.
Модест Колеров
Кто для вас пример идеального историка России? Какими качествами он должен обладать?
Идеальных историков искать не надо. Нормальный историк России, принадлежащий к русской культуре, — прежде всего искренний и критичный ее патриот, чувствующий ее историческую судьбу всей своей кровью. Нормальный историк России из числа иностранцев — прежде всего НЕ миссионер, НЕ носитель «бремени белого человека».
Что нужно, чтобы историческое знание не превратилось в поддержку аморальной политики, — создавать новые тексты или учить интерпретировать старые?
Любое историческое знание может быть использовано для чего угодно. Как молоток.
Какая тенденция в развитии современной исторической науки вам представляется доминирующей? Вы согласны с этой тенденцией или противодействуете ей?
Междисциплинарность и особое внимание к языку источника и языку интерпретации. Стараюсь этому следовать.
Как вы оцениваете т.н. кризис историзма? Каковы методы противодействия ему и возможны ли «защиты истории», значимые не только для историков, но и для широкой общественности?
В гуманитарных науках кризис историзма — архаика, равно как в актуальном искусстве давно стал архаикой отказ от фигуративности. Что же касается массового сознания, то оно всегда и везде принципиально антиисторично, мифологично.
С чем связано падение престижа отечественного исторического знания?
С рыночной экономикой и рыночным телевизионным вещанием, которые породили под видом «исторических» такие позорные явления, как Радзинский, Млечин, Сванидзе и Мединский.
Почему в отечественной историографии оказались менее значимыми, чем на Западе, такие области историографического интереса, как многочисленные методологии исследования холокоста, постколониальные и субалтерные исследования, устная история как широкое направление, история понятий, история режимов историчности, интеллектуальная история? Почему прижились, прежде всего, социальная история и цивилизационный подход, история тоталитаризма и империй?
Холокост в России изучается вполне удовлетворительно. Устная история представлена весьма хорошо. Что такое «субалтерные исследования», меня просветить забыли. История понятий — скорее как философская, чем историческая предметная сфера, — у нас развивается довольно быстро. Интеллектуальной же истории у нас пруд пруди, начиная с Милюкова, Иванова-Разумника, Тарле и пр. Что же касается социальной истории и исследований сталинизма, то это прямо связано с одним главным событием — «архивной революцией» 1990-х годов. Нигде, никогда еще в таком грандиозном объеме и за такое короткое время в центре и регионах не вводились в научный оборот миллионы документов по истории XX века, как в России в 1990-е годы. Первой жертвой этого, как известно, стала западная советология, которая встала перед выбором: пойти на поклон к массовым источникам или окончательно превратиться в агитацию и пропаганду.
Максим Шевченко, историк, специалист по истории России XIX — начала ХХ века (Москва)
Какая тенденция в развитии современной исторической науки вам представляется доминирующей? Вы согласны с этой тенденцией или противодействуете ей?
Приближение официальных институций науки к полному моральному краху. Принадлежа к одной из них, стараюсь противодействовать собственным посильным трудом.
С чем связано падение престижа отечественного исторического знания?
С гибелью советского общества при непреодолении духовного разрыва с исторической Россией, т.е., говоря фигурально, 1917 год, догнав нас в 1991-м и опять ударив, и сейчас гонится за нами дальше, чтобы добить. А также в том, что выставленное «своим» государством «на панель» в начале 1990-х годов сообщество историков в немалой мере принялось обслуживать разный иностранный интерес к России, в основном, разумеется, враждебный.
Считаете ли вы, что в России существует сплоченная научно-историческая корпорация?
Конечно, нет.
Каковы критерии объективности в современном историческом знании?
Внимание к факту, как и раньше.
Считаете ли вы, что отсутствие в советологии прогноза о падении СССР было результатом ее недостаточной научности?
Конечно. Она была откровенно паразитарной.
Почему в отечественной историографии оказались менее значимыми, чем на Западе, такие области историографического интереса, как многочисленные методологии исследования холокоста, постколониальные и субалтерные исследования, устная история как широкое направление, история понятий, история режимов историчности, интеллектуальная история? Почему прижились, прежде всего, социальная история и цивилизационный подходы, история тоталитаризма и империй?
Связано с тем, чем отличалась, отличается и будет отличаться Россия от Запада.
Модест Колеров
Определите понятие «междисциплинарности» в социальных науках на данном этапе развития.
Не рискну. Я потребитель, а не производитель методов.
Какие исторические проблемы требуют в российском сообществе историков большего исследования? Почему?
Социальная, экономическая и политическая история 1970–1980-х годов. Вокруг этого много личных воспоминаний, партийных мифов, но мало доступных массовых источников. Есть, конечно, ограничения секретности и пр. Но после националистической чистки архивов по этой истории в Восточной Европе и в бывшем СССР, боюсь, Россия единственная сохранила полноценный объем данных о генезисе национал-коммунизма и детальной истории брежневско-горбачевского конца коммунизма.
Почему, как вы считаете, среди российских руководителей было больше юристов, а не историков?
Это временно и случайно. К тому же, не считаете же вы на самом деле юристом Горбачева?
Существует ли разрыв поколений в отечественной или в западной историографии?
Не вижу.
Александра Суприянович
Почему в отечественной историографии оказались менее значимыми, чем на Западе, такие области историографического интереса, как многочисленные методологии исследования холокоста, постколониальные и субалтерные исследования, устная история как широкое направление, история понятий, история режимов историчности, интеллектуальная история? Почему прижились, прежде всего, социальная история и русские изводы т.н. цивилизационного подхода, история тоталитаризма и империй?
Там, где существуют действительно сильные исторические корпорации (не организации, а сообщества), все это пользуется спросом и интересом, но таких корпораций на всю страну единицы.
Как вы трактуете констатируемый западными историками «рост исторического сознания» — смену парадигм истории и памяти в мире?
Рост исторического сознания — логичная вещь для переходных эпох, когда не работают старые исторические схемы и человек вынужден задаваться вопросом о происходящем. Смена парадигм и памяти — часть процесса переосмысления.
Существенно ли для вас различение «профессиональной» и «социальной» истории историографии, т.е. историографии как истории Профессии и историографии как истории социального знания с ее прогностическими и политическими, просвещенческими функциями?
Пока это две разные отрасли, первая из которых идет в русле традиционной историографии, вторая — отражает новые веяния. Собственно, как правило, эти исследования выстроены и в разных исследовательских логиках, так что совместить историю науки и историю научных сообществ довольно трудно технически. Хотя такое объединение могло бы быть интересным.
Каковы опасности исторических фальсификаций?
Они существуют с незапамятных времен. Иногда их раскрывали уже современники, в некоторые мы верим до сих пор.
Вера Земскова, историк, специалист по истории искусства Византии (Санкт-Петербург)
Какое определение «исторической политики» в России вы дали бы по ее состоянию на 1988–1989, 1993, 2012 годы?
Не понимаю, что подразумевается под «исторической политикой». Концепции истории? Просто политики и ее места в истории? 1988–1989 годы я не помню, 1993 год — государственный переворот, 2012 год — очень сложное положение, с множеством направлений движения, опасность неправильных формулировок и выборов.
Каковы опасности исторических фальсификаций?
Фальшивая интерпретация — фальшивый выбор действий впоследствии.
Считаете ли вы, что историческая публицистика играла со времени перестройки роль псевдоисториографии, а историография становилась с конца 1980-х — начала 1990-х годов более публицистичной?
Нет, она была такой, какой была, а ее победа в виде новых мифов начала проявляться примерно в середине 1990-х, а теперь является господствующей в массах городского населения (другого не знаю). С конца 1980-х годов стало нечего писать об истории, основные положения были проговорены, начались повторы. Возможно, они имели силу закрепления ранее сказанного.
Какие историки-профессионалы влияли начиная с конца 1960-х и до настоящего времени на формирование политической повестки? Как вы оцениваете их активность?
Отечественные историки? Так у нас их особо и нет. И я не знаю ни одного имени, кто бы «влиял на повестку дня» и чтобы вообще «повестка» определялась по консультации с учеными-профессионалами. Самого публицистичного, Ю. Афанасьева, можно не принимать во внимание.
Можете ли вы наметить этапы эволюции за последние 27 лет восприятия профессиональными историками и политиками теорий тоталитаризма и авторитарности?
Мое общение с профессиональными политиками свидетельствует, что они такие простые люди, не подозревающие о том, что перед принятием решения хорошо бы навести хоть сколько-нибудь аналитические справки.
Считаете ли вы, что Интернет размывает историческое сознание?
Если оно есть, то не размоет. Но в целом пока нельзя оценить, насколько Интернет — мощный ресурс по формированию сознания. Пока непонятно, как будет работать разрыв между реальностью виртуальной и невиртуальной.
Какие философы непосредственно влияли на ваши трактовки исторических событий?
Наверное, никакие. У меня историческое образование, я оцениваю только применяемые методы.
Как вы оцениваете не вполне пересекающиеся тенденции в историографиях Запада и России: с одной стороны, т.н. национальные истории сходят на нет, с другой — приобретают новое влияние?
Не понимаю, о чем речь. Все тенденции вызваны внутренними запросами и возможностями, что и следует анализировать, они не являются чем-то абсолютным.
Можно ли говорить о «глобальной истории» в ее новых выражениях в России и в мире?
Что значит «глобальная история»? Границы упали, все включены сейчас в некую общую историю — это да.
Считаете ли вы возможным для историка привнесение в свою деятельность внешних идеологических критериев — таких как патриотизм?
Идеологические критерии неприемлемы, но не всякий может от них избавиться. Яркий пример провального итога — Пайпс с его американским патриотизмом. Как хорошо начинал, и кому теперь нужны его сочинения?
Что для вас стало исторической книгой года в прошлом году? Как вы оцениваете перспективы исторического книгоиздания в России?
Я занимаюсь древней историей и читаю только по специальности (кроме художественной литературы).
Можете ли вы представить себе ситуацию подготовки в современных условиях коллективных трудов по истории русской политики и общественного развития, мировой истории (наподобие «Истории КПСС», «Истории СССР» и проч.)?
Сейчас — нет. И лучше даже не пытаться.
Считаете ли вы, что российская история действительно мифологизирована? Кто создает мифы о ней?
Она мало изучена. Мифологизация — это свойство сознания, а не опосредующих источников в виде учебников или публицистики.
Александра Суприянович
Может ли политик или историк манипулировать массовым историческим сознанием настолько, чтобы видоизменять его? Если да, то как?
В средние века был большой опыт по этой части. Впрочем, что далеко ходить, времена Гитлера и Сталина — тоже яркие примеры. Демагогия, контроль над информацией, ее интерпретацией и подачей, уничтожение несогласных. Политику тут очевидно проще, чем историку, но без последнего трудно обойтись.
Как вы оцениваете не вполне пересекающиеся тенденции в историографиях Запада и России: с одной стороны, т.н. национальные истории сходят на нет, с другой — приобретают новое влияние?
Есть еще региональные истории и масса других. Многое зависит от потребности в обобщении и степени развитости/изученности предмета.
Можно ли говорить о «глобальной истории» в ее новых выражениях в России и в мире?
Посмотрим, чем закончится европейский кризис.
Положительно или отрицательно вы оцениваете влияние «лингвистического поворота» на историческое знание?
Безусловно, положительно.
Какие мировые исторические дискуссии по отдельным проблемам в большей степени воздействовали на ваше становление как историка?
Мы получили в эпоху перестройки все скопом, от «теории научных революций» до «смерти автора», важным казалось понять все упущенное нашей наукой.
Считаете ли вы возможным для историка привнесение в свою деятельность внешних идеологических критериев — таких как патриотизм?
Это неизбежно, даже если верить в собственную объективность.
Считаете ли вы, что «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына влиял на политическую и историографическую ситуацию в стране?
Безусловно.
Что для вас крупнейшие политические катастрофы XX века?
Все революции и войны.
Была ли какая-то политическая ситуация, к которой вы не имели «исторического ключа»?
Если нет информации, а та, что официально подается, очевидно сомнительна, о каком ключе может идти речь?
Что для вас стало исторической книгой года в прошлом году? Как вы оцениваете перспективы исторического книгоиздания в России?
Выходит много равнозначно хороших и разных книг, хотя издавать их трудно и дорого. Перспективы — за Интернетом.
Назовите одно или два качества современного историка, которые вы не в состоянии признать и принять.
Консервативный догматизм и нетерпимость к чужому мнению.
Определите понятие междисциплинарности в социальных науках на данном этапе развития.
Исследование предмета методами различных социальных наук.
Какие исторические проблемы требуют в российском сообществе историков большего исследования? Почему?
Злободневные: проблемы формирования элит и представительства во власти, взаимоотношений различных социальных слоев и наций, культуры управления, отношения к собственности, прав человека, трудовой этики и проч.
Существует ли разрыв поколений в отечественной или в западной историографии?
Определенно. В первую очередь, методологический.
Наличествует ли типично российская, но неустранимая проблема несопоставимости российской истории и национальных историй внутри нее?
Проблема решаемая, хотя и непростая. В советские времена она была решена способом, на тот момент приемлемым для большинства. Можно и сейчас это сделать.
Читать также





Комментарии