Политика как экзамен
Игра — это политическое знание. Наследие — это наследие умных. Третья сила — это... Новый спор редакции Гефтер.ру с Вячеславом Игруновым.
 1 411
1 411 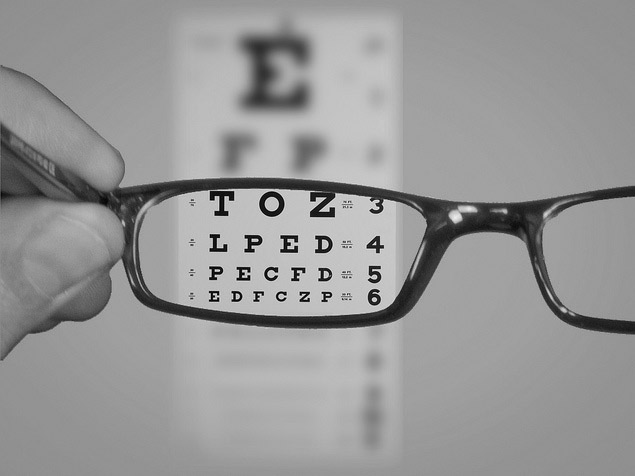
© Ken Teegardin
— Мы собрались побеседовать о русском конституционализме, который, конечно, проявился и в дискуссии о статье Павловского «Третья сила», и вообще в деятельности самиздатского журнала «Поиски». И первый вопрос: как развивалась дискуссия о конституционном принципе устройства государства в связи с дискуссией о принятии Конституции 1977 года?
— В 1975 году в квартире у моих родителей изъяли проект российской Конституции моего товарища по диссидентскому подполью Василия Харитонова. Вопрос о создании новой Конституции для нового государства, безусловно, существовал. И, конечно же, тот самый проект Конституции, о котором шла речь, скорее, был попыткой вернуться к российской дореволюционной традиции, из-за чего Василий Харитонов оказался в местах не столь отдаленных. В это же время сходные обсуждения происходили и в других подпольных группах, так как идея переустроить Советский Союз на иных основаниях, конечно же, всегда присутствовала, во всяком случае, в диссидентский период. Например, группа Огурцова также разрабатывала новый вариант Конституции. Не могу сказать, чтобы какая-то из конституций вызывала большие дискуссии. Лично я был относительно безразличен к Конституции: меня интересовали концептуальные проблемы устройства нашей жизни, причем не исключительно юридические. Поэтому лично я довольно спокойно относился к этой теме.
— Какие именно дискуссии шли? Они шли внутри групп или все-таки разные группы, предлагавшие разные варианты Конституции, вели между собой жаркие споры? То есть была ли дискуссия исключительно внутрикружковая или же были пересечения кружков?
— Обсуждение новой Конституции — это непременно семидесятая статья Уголовного кодекса (УК РСФСР, на Украине была другая статья). Поэтому всякое публичное обсуждение переустройства советского государства на новых основаниях не могло быть публичным. Обсуждения Конституции всегда велись внутри групп, не пересекавшихся между собой. Конечно же, 1977 год, принятие Конституции, спровоцировал более широкие обсуждения. И не только обсуждения — были даже и публичные какие-то выступления типа митинговых. Грузия очень активно вспыхнула во время принятия новой Конституции.
— По поводу языка, насколько я помню.
— Да, по поводу языка. После принятия союзной Конституции пошла серия принятия республиканских конституций. Так что в 1977 году возникла более широкая база дискуссии. Признаюсь, я в это время занимался другими делами. Меня интересовали сценарии трансформации Советского Союза. Для меня было самым важным тогда собрать достаточно большое число квалифицированных людей, чтобы нарисовать сценарий трансформации. Только когда мы видим сценарий трансформации, мы можем разглядеть, как должна быть устроена Конституция. Мои личные идеалы были совершенно несовместимы с советской властью. А поскольку я придерживался эволюционистских взглядов, то я считал, что хорошо было бы медленно трансформировать советскую систему. Поэтому я понимал, что до моих идеалов дойдет нескоро, — что уж мы будем торопиться с обсуждением Конституции?
— Можно ли сказать, что дискуссия вокруг «Третьей силы» и, соответственно, «Поисков» стала своего рода попыткой перевести дискуссию из внутрикружковой в более широкую?
— Журнал «Поиски» не занимался особенно конституционными дискуссиями, насколько я помню. Да, есть статья Глеба Павловского «Третья сила», но, признаться, я ее не читал. Она ко мне пришла довольно поздно в письме, а может быть, даже и не в письме. Надо отдавать себе отчет, что Павловский жил тогда в Москве, а я жил в Одессе. Переписка тогда была мыслима только с оказией, по почте она была абсолютно невозможна. И пока кто-нибудь окажется в Москве или в Одессе и привезет с собой какой-нибудь пакетик… Поэтому я даже точно не знаю, когда статья у меня оказалась. Итак, в дискуссии я не участвовал: в Одессе такая дискуссия не велась. Как она велась в Москве, мне сказать трудно, поскольку это было время самой глубокой моей изоляции от Москвы. Я потом просмотрел по диагонали статью, потому что у нас с Глебом был какой-то спор, в котором я пытался апеллировать к тому, что наша страна вовсе не существует по писаному закону, что наша страна — страна традиционного права. И то, что записано в Конституции, в каких-то законах, существует как-то само по себе и вовсе не обязательно к исполнению. Для населения оказываются совершенно легитимны абсолютно незаконные действия властей именно потому, что сознание населения ориентируется на неписанные правила. И вот когда я что-то в этом духе пытался рассказывать Глебу, он вспыхнул и сказал: «Это ты мне говоришь, автору “Третьей силы”?» Это прозвучало очень гордо. Я пожал плечами и сказал, что не знаю, о чем идет речь. После этого я получил «Третью силу», мельком прочел или просмотрел, не помню содержания совершенно. С тех пор и прошло уже больше тридцати лет.
— Очень любопытно! Вы говорите, что хотели создать новую Конституцию для, подчеркиваю, новой страны. Это часть первая. Часть вторая: с этой страной невозможно работать, у нее традиционалистское сознание и создавать Конституцию, в принципе, бесполезно. В таком случае, каким образом вы представляли вовсе не Конституцию, а новую страну? Это страна с новым сознанием, но насаждаемым особыми, вплоть до репрессивных, методами?
— Поиск путей трансформации как раз и был самым главным. Конституцию, повторяю, я не собирался писать. Я считал, что когда настанет время такой потребности, она будет написана. Я воспринимал Конституцию как техническую деталь именно потому, что живет народ не по Конституции. Конституция должна фиксировать устоявшиеся представления общества, а не задавать их. Позднее Глеб Павловский устроил дискуссию, в конце 1987 года, в которой я схлестнулся с Баткиным. Я говорил о том, что поведение населения подчиняется очень сильной культурной инерции. Невозможно в одну ночь изменить поведение народа, как хотели либералы: дайте нам Европу завтра же. Баткин отвечал очень простой логикой: дайте нам сегодня европейские законы, завтра у нас будет Европа. И вот здесь мы никогда не сходились. Я всякий раз исходил из точки зрения культурной инерции. Как трансформировать страну, в которой львиная доля населения согласна жить в прежних условиях? В катастрофически сложных условиях, ведущих к гибели государства? Но население не понимает и не признает гибельности своих устоев. Какие силы могли бы трансформировать это государство? Тогда был один единственный ответ: это КПСС. Нет никакой другой движущей силы для реформы этого государства. Она должна начинаться сверху, обязательно ее должен начинать генеральный секретарь как самое важное лицо.
Я первоначально начал рисовать сценарии в конце шестидесятых — в начале семидесятых, особенно после прочтения книги Андрея Амальрика «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?». Я не был бы счастлив распаду Советского Союза. Я хотел его сохранить. Но аргументы Амальрика были достаточно вескими, и для меня оказалось важно нарисовать сценарий трансформации, который бы сохранял страну. Для меня было совершенно очевидно, что народ будет терпеть этот режим столько, сколько режим будет существовать; что, конечно же, будет упадок экономики, феодализация страны, но народ будет терпеть. Поэтому реформа должна начинаться сверху и только сверху. В Советском Союзе она могла бы начинаться только с Генерального секретаря ЦК КПСС. Но как это можно сделать? Ведь любой генеральный секретарь, только помысливший реформу, был бы устранен этой властью. Берию расстреляли, Хрущева всего-навсего сместили, но реформы провести не дали. Для меня было важно продумывать шаг за шагом, как надо проводить реформы, чтобы государство не рухнуло. Конечно, оставался вопрос: с какой это стати генеральный секретарь захочет делать реформы? Ему-то это зачем? Они все были убеждены в правоте своего дела, в правоте своего режима. Я оставлял это за скобками. Я просто ложился спать и говорил себе: ты Генеральный секретарь ЦК КПСС, что ты делаешь? Я продумывал свои действия шаг за шагом. И каждый раз оказывалось, что меня смещают либо изолируют, но реформы не происходит. Вслед за этим начинается распад Советского Союза. Я откладывал этот сценарий, возвращался на несколько шагов назад и искал, где та развилка, где я допустил ошибку, как надо действовать дальше. И шел дальше. Таких итераций у меня было семнадцать: семнадцать сценариев реформы. Все они заканчивались одинаково — гибелью Советского Союза. Для меня это был неприемлемый вариант. Почему я и начал размышлять о том, чтобы собирать большую команду для разработки этой трансформации.
Первые и основные мои посылки принадлежат к концу шестидесятых — началу семидесятых. Я тогда учился в Институте народного хозяйства и, естественно, будучи сторонником рыночной экономики, размышлял, как в рамках коммунистической идеологии можно продвигать рынок. Тогда я уперся в то, что рыночные реформы не могут быть самостоятельными, их никакая власть не может провести, пока она не проведет комплексно трансформацию политической системы, рынка, системы планирования и т.д. Я вовсе не думал, что можно сразу отказаться от системы планирования, как впоследствии это сделал Гайдар. На меня очень сильное впечатление произвела моя работа в мастерской на фабрике народных художественных промыслов, где я фактически был частным предпринимателем; и как раз там мы познакомились с Глебом и его командой. Они пришли меня послушать, а я там зарабатывал деньги на самиздат, библиотеку. Работа на этой фабрике привела меня к одному очень важному и существенному открытию. Конечно, я всегда полагал, что для политической эволюции очень важен культурный контекст. Но я вовсе так не относился к экономике. Я полагал как бывший марксист, что есть железные экономические законы, которые действуют сами по себе в любой среде. Так, как потом будут думать Гайдар, Чубайс. Что есть железная рука рынка. Я точно так же думал до 1969 года. А вот когда я получил опыт работы в мастерской, то понял, что экономика точно так же погружена в культурный контекст и никакие экономические законы не работают вне культурного контекста. Тогда у меня и произошло короткое замыкание, когда стало ясно, что политические и экономические реформы надо проводить одновременно.
К этому моменту я уже был вполне государственником, и для меня было очень важно, чтобы реформы не разрушали государство. История показывает, что глава государства очень часто начинает реформы, которые кончаются революцией. Классический случай — Великая французская революция, созыв Генеральных штатов — после чего пошло-поехало. Поэтому для меня было очень важным это все осознать. Но я был, во-первых, молодым человеком и отдавал себе отчет в том, что я слишком многого не знаю и не понимаю. Я, конечно, был убежден в своей гениальности, но это же вовсе не заменяет ни опыта, ни знаний, ни мудрости. Я могу мыслить. Но для того чтобы мыслить, нужны еще такие же великие мыслители, как я. Значит, надо было собрать команду. А где соберешь, в Одессе? Найдутся один-два человека. А где еще? А, может быть, в Москве? И возник замысел такого интеллектуального центра, школы. И именно эту идея я продвигал, когда ходил по ночам на Амундсена, 1, вам этот адрес будет встречаться, наверное, часто, и рассказывал молодым людям о диссидентском движении, о разных идеях. В том числе, я рассказал и об этом. Но где достать ресурсы на создание школы?
Как-то Лариса Богораз мне сказала, что ресурсы-то достать можно, только на Западе не знают, кому дать, нет субъекта. Мы все каждый за себя, а отдельным личностям средства не дадут. И тогда я предложил Ларисе организацию некоего интеллектуального комитета, центра, который будет работать. Но меня арестовали. Уже находясь в тюрьме, я очень много работал как раз над трансформацией системы, над механизмами этой трансформации, над основаниями устройства будущего общества. Причем речь идет не только о правовой стороне, но и о чем-то более важном. Для меня в те времена и до сегодняшнего дня было очевидным, что любое государство — вымышленная структура. Структура, которой нет в материальном выражении, — она существует только в нас. Это воображаемая структура, с действиями которой мы соглашаемся. Только поэтому она и работает, и существует. Я, находясь в психушке, в сумасшедшем доме, узнал о создании Хельсинкского комитета. Тогда мне показалось, что такая приблизительная форма могла бы быть очень удобной для нас. И я предложил создать Комитет культурного обмена. То есть мы должны были создать такие центры в стране, которые стали бы восприемниками западной помощи. То есть нам бы присылали сюда всевозможные альбомы, пластинки и т.д. Мы, конечно, устраивали бы слушания, лекции. У меня был дом в Одессе; и я полагал, что там есть место, где можно собирать людей, там могли бы быть книжки, а заодно часть этих книг, пластинок продавалась бы и становилась источником для работы школы, аналитических центров, для переездов, публикации литературы. Одним из важных материалов для меня был сборник, посвященный разработке сценариев трансформации режима, условий, при которых это происходит, изучению мирового контекста. Потому что для меня было совершенно очевидным, что Россия не может трансформироваться отдельно от мирового контекста или поперек его. Вот это был замысел «Альманаха-77». Над ним я и работал, в него я привел Глеба Павловского.
— Мы к этому еще вернемся, но было бы лучше до конца понять ваше представление о том, что нужно было делать. С одной стороны, существует проект Конституции, которая обязана фиксировать устоявшиеся представления общества, а не задавать их. А народ будет терпеть. Народ архаичен, ничего не смыслит, не знает, в частности, того, что активно движется к гибели, и, в принципе, у власти всегда есть более продвинутое представление о том, что происходит. Власть — тонкий сенсор. Она предчувствует гибель, крах, конец и намерена с ними справляться. Но даже если народ до чего-то не дорос, а Кремль в состоянии ему нечто объяснять, не кажется ли вам, что это довольно-таки сложная операция в вашей логической рамке? Это одно. Второе: благодаря чему вы считаете, что генсек мог «запустить» две системы одновременно? И противодействующий ему аппарат, и не понимающий власть предержащих и собственную страну народ? За счет какого языка, правового языка, заметим, в стране неписанных законов?
— Сразу говорю, что ни о каком правовом языке для меня речи не шло. Потому что у нас все еще было архаичное традиционное право. Это выглядело, как в пословице: «Прав тот, у кого больше прав». Это была очень странная, но крайне распространенная пословица, я с ней сталкивался на каждом углу.
Вот какое событие меня потрясло. Было это в 1979 году. Мне с большим трудом удалось, наконец, устроиться художником-оформителем на приличную работу с относительно приличной зарплатой. КГБ, конечно, этого терпеть не могло и спровоцировало мое изгнание с работы. Все возмущались. Замдиректора, самый уважаемый человек, говорил: у нас такого художника никогда не было и никогда не будет, ты нам вот так нужен, как директор может тебя увольнять! Так возмущались очень многие. Я говорил, надеясь вызвать еще большее возмущение, что он не сам это делает, — он подчиняется давлению из КГБ. Представьте себе, мгновенно отношение к директору менялось: нормальный мужик, все хорошо, это же сверху, а раз сверху, то это нормально. И все возмущение у людей исчезало. Раз КГБ, значит, все в порядке. Этой власти населением делегировались совершенно невероятные права! Население ощущало себя бесправным, крепостным. То есть власти не формулировали это. В формулировках могло быть все, что угодно, и о свободном труде, и о свободном человеке, но реально сознание тогда было крепостническим. Если барин сказал — всё, против барина нельзя. Поэтому народ не особенно надо было убеждать.
Для меня было совершенно очевидным, что коммунистическая идеология, марксистская идеология достаточно гибкая. Ведь в 1968 году мы пережили отказ от так называемого научного коммунизма в пользу реального социализма. Я как раз об этом в те времена очень много писал. И когда я, например, говорил о рыночной трансформации, я всего-навсего апеллировал к Энгельсу — письмам, текстам Энгельса, которые ясно показывали, как, в принципе, капитализм постепенно переходит в социализм: что рынок, в общем-то, не очень этому противоречит. Я в 1969 году в своем институте пытался своим преподавателям объяснить, как, опираясь на марксизм, можно вводить рыночные элементы в этой экономике. Не так, как это делал, скажем, Ота Шик в Чехословакии, а совсем иначе, вписываясь в эту систему. Поэтому и остальные элементы марксизма были достаточно просто реформируемы для населения.
В то время у меня была немного бредовая идея постепенно от научного коммунизма переходить к христианскому социализму. Потому что сам марксизм имеет корни в христианстве, христианство укоренено в сознании нашего народа, во всяком случае, русского народа, поэтому можно было бы здоровым образом цивилизовать коммунизм, убрав оттуда классовую борьбу, насилие, сохранив социалистические идеалы, но уже сделав это не таким кондовым учением, а довольно человечным, и потом двигаться дальше. Для власти было важно не то, какую они идеологию предложат. Идеологию для убеждения населения предложить можно. Важно другое. Какие механизмы они предложат? И в этих механизмах, конечно, я начал с того, что должна будет создаваться вместо высших партшкол какая-то академия для совершенно избранных, куда генеральный секретарь поначалу подтягивает наиболее продвинутых людей, где их учат. Эти люди готовят молодежь. Их знания были бы отчасти эзотеричны: это внутренняя партия. Внешняя партия не особенно знает об этих вещах, а вот внутренняя партия получает настоящую, реальную картину истории, реальные знания о состоянии экономики, их не надо идеологизировать для внешней партии.
В 1967 году я еду в Питер и беру с собой толстый справочник, кажется, назывался «Труд при капитализме». А там было очень много информации. Например, там можно было вычитать, что урожайность зерновых в Дании — 100 центнеров с гектара. А я точно знаю, что в нашем колхозе больше 8-9 никак не получается, где я жил. В самых лучших местах 14 центнеров с гектара. А 70 центнеров с гектара — для мира норма! А бывает и до ста. Вот нормальное знание, о котором и пришлось поспорить. Итак, я еду в поезде, читаю эту книгу, я и другие вещи там читал, мы смотрим на поля, и мужик, который прилично одет, серьезный, что-то мне об этом говорит, а я начинаю высказывать свои критические замечания по поводу колхоза. Он начинает на меня злобно наезжать и говорить, что у нас прекрасная, замечательная урожайность, все это ложь. И я ему отвечаю: посмотрите, книга вышла в советском издательстве. В общем, злоба невероятная. Это нормальный деятель, партийный, может быть, гэбэшный, — ему реальную картину давать нельзя, потому что ему тяжело объяснить. Он может служить только с зашоренными глазами.
Внутренняя партия должна понимать, что это государство надо сохранять так же, как и другие. Но чтобы его сохранять, надо трансформировать. Только что названный деятель не поймет, а вот внутренняя партия поймет. И поэтому эти люди должны иметь настоящие знания. То есть сначала создается академия, в ней партшкола, постепенно трансформируется партия, потом эти партийные люди из внутренней партии постепенно перекачиваются в государственный аппарат, делается упор на новую бюрократию, на новый управленческий аппарат, а партия, наоборот, раскассируется понемногу. В общем, был придуман довольно сложный механизм этой трансформации. Вот это было важно. А что этому будет сопутствовать — только демагогия. Демагогию можно сделать какую угодно. Грубо говоря, «пипл все схавает», как некогда говорили. Главное, чтобы был экономический эффект. Если ты его будешь улучшать хоть на копейку каждый день, и при этом будешь трансформировать и вынимать из него одну идеологию, а закладывать в него другую, то он все «схавает».
— Давайте чуть дотянем идеологию. Ведь мы можем решить сейчас с Сашей, что внутренней партии и не нужна политика. Ей нужен сыск и несравненный тезис «дважды два — пять». То есть, в принципе, нормальная политика, цивилизованная политика, о которой вы говорите, в ней невозможна.
Допустим, что колхозный деятель, говоривший, что 14 центнеров с гектара — это неправда, что все это вранье, выступал как легалист — человек, который знает правила, что должно быть столько-то центнеров с гектара. Тогда как предлагавшаяся внутренняя партия как раз совершенно не легалистская, она устанавливает произвольно правила игры и дальше действует уже исходя из установленных в своем кругу правил игры.
Здесь еще есть один момент. И это касается не только внутренней истории партии, которую сейчас обрисовал Саша, но и вашего тезиса, что нужно цивилизовать коммунизм. В этом случае тоже затруднительна нормальная, а не экстраординарная политика. Потому что к христианскому социализму еще нужно идти и идти, а вы от него отталкиваетесь. Христианский социализм, который вы планировали, нужно было вводить особыми средствами?
— Вы меня не поняли. Если речь идет о внутренней партии, то это как раз то самое место, где произволу вообще нет никакого места. Во-первых, там нужны были точные и достоверные факты. Всегда. То есть люди, которые находятся во внутренней партии, должны быть блестяще образованы, и образованы по гамбургскому счету. Настолько, насколько это возможно. Именно потому, что можно обманывать людей, но нельзя обманывать общество, нельзя обманывать историю. Нельзя обмануть реально действующий механизм.
— Тогда вернемся на шаг назад. Вы только что говорили, что «пипл все схавает».
— Это люди, это не общество. Не было общества. Общество — это реальное взаимодействие механизма. Не сознание людей, не идеология. Идеология как бы единична. Это массовое движение совершенно индивидуально зомбированных людей, индустриальный механизм индивидуального зомбирования. Это совершенно другая вещь. А вот когда вы приходите к соседу — у него есть автомобиль, у вас нет автомобиля, у вас возникает вопрос: почему у него есть автомобиль, а у меня нет автомобиля? У этого ребенок учится в английской школе, а я своего отдать по какой-то причине не могу. Это объективные вещи, мы их никуда не устраним. Я знал многих совершенно рыночных людей, которые за социализм готовы были жизнь положить, но они действовали вопреки социалистическим взглядам, более того, разрушая социалистическую систему, и при этом были убеждены в том, что социализм — это наше все! Иначе говоря, то, что происходит в сознании у людей, исходит из разных оснований; человек внутренне вовсе не логичен. В него в разные периоды разными людьми, разными механизмами закладываются разные идеи, которые существуют в голове, часто до конца жизни никак не переплетаясь, не соединяясь, не выстраиваясь в одну логическую систему. В одной ситуации он действует одним образом, в другой ситуации — другим образом.
Обеспечить массовое поведение при помощи массовой идеологии легко. Невозможно при помощи идеологии обеспечить рост производительности труда. Это разные вещи. Произвол может быть в идеологии. Будут верить они в Иисуса, или будут они верить в Аллаха, или будут они верить в Карла Маркса — это легко сделать, это очень просто. А вот создать эффективную экономическую систему при помощи такого манипулирования нельзя. Внутренняя партия должна была работать с этими объективными законами. И поэтому она должна иметь точные знания. Она ни в коем случае не может быть ориентирована ни на какой произвол. Но язык, которым она обращается к народу или к внешней партии, — это дело особое. У меня была такая авантюрная мысль: многие сведения и информация не должны проникать наружу. Если вы сразу, например, начнете дискредитировать социализм, или прежнюю эпоху, или Сталина, у вас исчезнет инструмент для общения с населением. Вы делегитимизируете власть. Этого делать нельзя. Но вы-то точно должны знать, что были уничтожены такие-то и такие-то, столько-то и столько-то, был подорван интеллектуальный потенциал, были закрыты те или иные каналы получения информации. И вот эти люди должны были реабилитировать эту систему, вылечить ее от этих грехов. Но рассказывать всем вокруг, какая это система, не надо торопиться. Более того, вся трансформация должна идти медленными шагами, начиная с периферии, с каких-то отдаленных механизмов, которые привычнее людям, которые не разрушают сознание людей сразу. Грубо говоря, увеличивать количество ремесленников, отдавать маленькие однокомнатные квартирки на первых этажах домов под кафешки, которые можно сделать частными. Это и подрывает устои социализма. У нас командные высоты, как было в НЭПе сказано, принадлежат государству, рабочему классу. Но, встраивая постепенно новые механизмы, вы медленно меняете ментальность, формируете готовность людей работать в других условиях, готовность государства контролировать этих людей. Все это должно основываться никак не на произволе, а как раз на понимании реально действующих механизмов. Экономических, психологических, политических. Так что ни о каком произволе речь не идет.
— В КПСС не было этого знания?
— Конечно, не было. Даже самые ключевые люди, генеральные секретари многие вещи открывали для себя очень поздно. Во время перестройки.
— Каким должно было быть данное точное знание на тот период, когда вы замысливали этот проект?
— Политика, политическое знание должно быть таким же точным, обоснованным, научным, как и любое другое. Конечно, это научное знание, но политическим ли является знание о действиях экономических законов или нет? Какая политика без знания этих законов? Никакой, она просто невозможна. Она и политическая в этом смысле, но и, безусловно, сугубо научная. То же самое касается таких проблем, как этнология. Много чего касается: например, той же экологической проблематики. Для меня она была чрезвычайно важна в те времена. Это политическое знание или неполитическое? Оно должно определять политическое мышление? Но это сугубо научное знание. Разделять политику и науку нельзя. Политик — это человек, обладающий самыми точными знаниями научного свойства.
— Не кажется ли вам, что это марксистский подход? Человек, обладающий самыми точными знаниями научного свойства, есть человек, обладающий идеологией, которая в наибольшей степени отражает реальность.
— Нет.
— Кто меньше заблуждается, тот и может вести правильную политику?
— Нет. Если бы я был убежден в собственной правоте, я бы уже давно был генеральным секретарем. Главное, чего мне всегда не хватало, — это убежденности в собственной правоте. Я всегда нуждался в обсуждении своих идей, в выработке коллективных решений и т.д. Поэтому в то время, как диссиденты писали письма протеста или выходили протестовать к судам, я создавал коллективы, школы, учил людей, собирал, читал, обсуждал. Я исходил из того, что есть точное знание, которое говорит, что в десятичной системе дважды два — это четыре, точка. И это знание абсолютно. Вы можете, конечно, сказать: почему он считает свое знание конечным, всепобеждающим? Надо допустить возможность действовать и тем, которые думают, что дважды два — пять или семь. А я утверждал: нет, ребята, если вы так сделаете, то слепые поводыри приведут в яму своих слепцов. Конечно же, есть определенные знания. И есть спорные знания. Но в этих спорных областях можно продолжать споры, можно использовать те гипотезы или другие, право на ошибку имеет каждый. Но есть знание точное. В таком-то году Троцкий руководил восстанием в Петербурге. Это точное знание? Точное. Возьмите Большую советскую энциклопедию. Статьи «Троцкий» вы не найдете, хотя Троцкий — один из главных создателей этой системы. Член внутренней партии точно должен был знать, какую роль играл Троцкий в семнадцатом году и во время восстания. Не про Дыбенко, не про Крыленко, а про Троцкого он должен был знать. Он должен был бы знать, когда Ленин написал такое-то и такое-то свое письмо, что оно было опубликовано тогда-то, что партия была такая-то, а стала такая-то, что репрессировано столько-то и тогда-то. Он должен был это знать, это абсолютное знание. Как его можно подвергать сомнению? На основании исторических материалов, архивов и т.д.
Да, ошибки бывают. Но эти ошибки не принципиального характера, не в том смысле, что мы что-то выдумали, а в том, что каких-то документов не хватает, может быть, погибло не три миллиона шестьсот сорок четыре человека, а три миллиона восемьсот двадцать два человека. Бывает. Но это не принципиальная ошибка, она ничего не меняет. А содержание знать надо. Был пакт Молотова – Риббентропа? Был. Это мы теперь все знаем, а тогда знали только диссиденты, а члены партии не знали. И как можно действовать в отношениях с Латвией, Литвой, Эстонией или даже с западными государствами, забыв о том, что это существовало? Концентрировали советские войска на границе с Румынией, чтобы впоследствии взять нефтяные поля под контроль? Концентрировали. Попробуйте даже сейчас об этом упомянуть: сразу же становишься врагом России, раз ты такие вещи говоришь. Но это же факты! Они опубликованы. Это абсолютное знание. Поэтому человек, который обладает этим знанием, сможет быть более точным, объективным и эффективным, чем человек, который не имеет этого точного знания.
— Какие проекты могли возникнуть, но не возникли? Проекты спасения СССР, проекты ухода от катастрофы? Возможно ли было применение каких-либо технологий, удерживающих единство СССР?
— Для меня любая политтехнология, если мы говорим о политтехнологиях (тогда такого слова действительно не было), должна опираться на экспертное знание. Некоторое время мне самому приходилось быть политтехнологом, чтобы что-то строить, что-то делать. И в этой работе я опирался на экспертов без социологической информации, без количественной. Поэтому я, например, не мог вести никакой избирательной кампании.
А теперь вернемся к Советскому Союзу. Одно дело, что я думал тогда, а другое дело, что я думаю сейчас. Я бы не хотел мои нынешние мысли выдавать за тогдашние, а тогдашние переносить в сегодняшний день. Тогда я был убежден, что существуют механизмы спасения Советского Союза. Просто нам необходимо коллективное знание, и тогда мы сумеем выстроить вертикальные механизмы влияния таким образом, чтобы, когда кризис начнется, у нас могли подхватить падающую власть и трансформировать в нечто более эффективное. У меня были разные механизмы. Причем не только механизмы сохранения Советского Союза, но и механизмы сохранения так называемого социалистического лагеря. Не как социалистического, но как империи, огромного пространства с общим вектором развития. Я был в этом убежден и работал над этим. Конечно же, сейчас, уже очень давно, порядка двадцати лет, я думаю, что никаких вариантов спасения Советского Союза быть не могло. С Советским Союзом случилось то, что должно было случиться. И предотвратить это было нельзя. Для меня, конечно, то, что случилась Беловежская пуща, — это по-прежнему преступление. Потому что хотя история движется объективно и происходит то, что должно происходить, тем не менее, оно происходит через каких-то определенных людей, которые являются проводниками этой закономерности, которые берут на себя грех осуществления этих закономерностей. Поэтому для меня Гайдар и его команда, Ельцин и его команда — это преступники.
Но был бы Ельцин, не было бы Ельцина — скорее всего, Советский Союз не выстоял бы: по одной простой причине. Трансформация режима с его сохранением (а без трансформации он развалился бы в любом случае) — это задача настолько сложная, что ее могла решить лишь только большая группа квалифицированных экспертов, имеющих доступ к власти. Если она не имеет доступа к власти, то это хотелки, это фантазии, это ерунда. Если она находится у власти, но не имеет этого знания, — то это слепые поводыри. Власть и знания должны быть соединены. Советский же механизм формирования властной элиты был таким, что он устранял людей независимых, волевых, способных приобрести достоверные знания вне рамок этой системы. Если человек был уже настолько силен, чтобы иметь возможность приобрести достоверные знания и стать настоящим экспертом, он этой системой отметался как враждебный. То есть наша элита заведомо была не готова к решению этой сложной задачи. Не было там тех людей, сообществ, которые могли бы эту задачу решить. Поэтому на этом шаге, на другом шаге, на пятом шаге, скорее всего, государство бы рухнуло.
Возвращаемся к вашей постановке вопроса. Не политтехнология, а, скажем, культура управления, отдельная от экспертов, иногда возможна. Я думаю, что люди, которые не понимают, что происходит, возможно, и могли бы действовать, сохраняя эту систему по наитию, по опыту, из мудрости, действуя по аналогии. Но здесь, тем не менее, включается та задачка, которую описывал Глеб, — мы в прошлый раз об этом говорили — на атомной станции. Вдруг зажигается неожиданная лампочка. И что тогда? А реформа предполагает возникновение таких неожиданных лампочек на каждом шагу. Поэтому вероятность сохранения Советского Союза была настолько ничтожна, что сегодня я даже думаю, что мы легко отделались. Тем не менее, есть люди, которые взяли на себя ответственность за это разрушение, и в их числе я лично как человек — не как думатель, а как человек.
— Мы вернемся к нашей общей теме — «Третья сила» Глеба Павловского. Начинающий политик, так же, как и вы, предполагающий, что он действует наравне с властью, говорит о том, что внутри власти возникает силовое поле, сжирающее власть. Но именно «третья сила в состоянии направлять, корректировать, провоцировать ее изнутри. Ваша точка зрения была близка к этой?
— В этом-то мы с Глебом и различались. И всегда на протяжении всей нашей жизни. Глеб всегда был уверен, что он человек, который может влиять, что он человек, который в состоянии изменить ход событий. А я всегда себе задавал вопрос: а можно ли, а как можно, а что можно было бы сделать? И я всегда искал механизм, включающий довольное большое количество людей. Глебу Павловскому было достаточно трех человек. Вот я текст свой прислал ночью сегодня, до вас он еще пока не дошел. Там я описываю точку, которая разделила нас с Глебом на всю жизнь. Это май 1972 года. В мае 72-го года Глеб сформулировал одну простую вещь: достаточно трех человек, идеально понимающих друг друга, чтобы сделать со страной все, что угодно. Такова была концепция Глеба Павловского. А я, наоборот, всегда был сторонником той самой культурной инерции: нельзя сделать с народом то, к чему народ не готов. И изменения возможны только в длительной перспективе и не силами троих, десятерых, а путем массовых культурных перемен. Перемен в культуре.
— Вы описывали картину интеллектуалов во власти, которые используют те механизмы, которые властью созданы, но которых та не стоит. В том смысле, что она их задает, но не в состоянии с ними сама справиться и задействовать их в полной мере, я верно понимаю? Это в какой-то степени та самая схема, которую предвидит Павловский, но для «третьей силы». Потому что та идеология, о которой вы говорите, — это идеология, как я уже отмечала, внутренней партии. Некто способен говорить с властью на ее языке, точно себе представляя, что такое политика, и, когда необходимо, обыгрывая власть. С другого края в конце 1970-х выступает Павловский, который вдохновлен похожими идеями: власти во власти и продвижения страны к концу. Все «Поиски» строятся на идеологии общественных и диссидентских инициатив.
— Диссидентство было лишь небольшой крохой в этом обществе. Их по пальцам можно было пересчитать — это сотни людей, не более. Я предлагал гораздо более широкое движение. Диссиденты могли стать только стартовым, спусковым механизмом, диссиденты должны были только инициировать, а мне нужно было изменение высшего образования, изменение преподавания в школах, изменение механизма мобильности. Как раз позиция, прямо противоположная большинству диссидентов, которые вовсе не готовы были разговаривать с властью как-либо. Я уже вам излагал точку зрения Ларисы Богораз: государство погибнет, а нам-то что? Большинство людей в диссидентском движении и слышать ничего о государстве не хотели: мы и государство — это разные вещи. Вот мы заняты тем-то и тем-то, давай нам то-то и то-то, давай нам права человека, и точка. А государство обязано нам это дать. Что будет с государством, как это сделать, каковы механизмы — никто из диссидентов об этом не задумывался. Диссиденты в очень малой степени были готовы решать государственные задачи. Диссидентство в массе своей было антигосударственным, разрушительным. В этом-то и была моя проблема. Я был государственником, а это слово впоследствии, кстати, у так называемых демократов стало ругательством. Я по-прежнему в виде эпатажа им всем говорю: я государственник. А для них это ругательное слово.
— Но получается, что как раз русский конституционализм был не связан ни с каким государственным проектом. Ваш проект, подразумевающий, в общем-то, образовательную активность как залог легальности, не вводит легитимизирующих документов и, следовательно, легитимных структур.
— Неправда, я этого не говорил. Легитимизирующих документов должно быть много, но это не Конституция. Легитимация в Советском Союзе происходила не через Конституцию. Легитимация происходила через диалоги. Это другой механизм легитимации. Грубо говоря, пока были яркие, работающие идеологические документы, легитимность советской власти была достаточно сильна. Но, конечно, она легитимизировалась не столько документами, сколько реальной практикой. Для легитимации власти нужен был живой бог во главе государства. И это для общественного сознания работало гораздо сильнее в смысле легитимации власти, чем Конституция. Ни один советский гражданин не знал своей Конституции. Ему про нее рассказывали или даже показывали в школе, но он не знал. Но он точно знал, что в Кремле ночью светится окошко, и там живой бог. Мысль о том, что он когда-нибудь умрет, была невозможной. Он бессмертен. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Но тот уже умер, тот неполноценный, не дотянувший до настоящего, а вот этот будет жить всегда.
Поэтому в 1953 году, когда Сталин умер, была такая страшная давка и такой ужас, слезы, горе. Никто не мог даже представить себе, что этот бог когда-то умрет. Так вот, существование этого живого бога, легитимация власти значила не на порядок, а на много порядков больше, чем любая Конституция, которая валялась на каждой полке в книжных библиотеках. И это еще не все. Советская власть легитимировалась историей. Когда люди шли на фронт в 1942-м, 1944 году, они часто оказывались один на один со следующей проблемой. Вот кулацкий сынок, которого из Сибири вытащили (он там с трудом выжил, он ненавидит эту власть) и отправили на фронт, оставили один на один с решением уйти на ту сторону, сдаться, обратить оружие против советской власти или быть за нее. Львиная доля людей выбрала советскую власть. И этот личный выбор легитимизировал власть много больше любой Конституции. Повторяю, Конституция была ни при чем, она была сама по себе, о ней говорили, но не она легитимировала эту власть.
— Но почему диссиденты-конституционалисты не были государственниками?
— Нет, они, как правило, были государственниками. Более того, у многих из них было желание заменить идеологическую легитимацию легитимацией правовой. Но я повторяю: таких людей было мало. Так же, как и для меня, для большинства из них Конституция была довольно странным документом, хорошим документом для правозащитников, которые говорили: соблюдайте свою Конституцию. Но они-то как раз, как правило, и не участвовали в конституционных дебатах. Им это было неинтересно. Есть Конституция? Есть. Вы ее и соблюдайте, дайте нам право голоса. У вас есть Конституция — вперед.
— Вернемся к «Третьей силе». Получается, что «третья сила» имеет довольно странный правовой статус, что это люди, которые начинают действовать в некотором чрезвычайном положении, в ситуации полного отсутствия окончательной легитимности каких-либо структур, но и при этом кто создаст новую легитимность, новое государство, совершенно непонятно.
У Глеба все же несколько иной поворот: в этом государстве нет политики. Поскольку в государстве нет политики, за которую держались бы различные классы, социальные силы, одна структура может победить. Но побеждает она, только будучи во власти. В этом смысле и вы государственник? Власть — то поле, на котором можно работать?
— Осенью 87-го года я как раз собрал наших интеллектуалов, таких как Левада, Аметистов, еще много разных людей, с тем чтобы описать нашу политическую систему. Для меня было очень важно донести до сознания наших людей, я имею в виду не народ, а интеллектуалов, «прорабов перестройки», что в нашей стране политики не существует, государственное управление и политика — это не одно и то же. Они могут быть связаны, а могут быть и не связаны. То, что мы имели в нашем государстве, внутри нашего государства, никак не является политикой. Политика — это согласование интересов публичным путем. Поскольку публичным путем у нас никакие интересы не согласовывались, называть это политикой нельзя.
У нас в 1986 году, много времени спустя после «Третьей силы», был очень тяжелый с Глебом спор о том, что есть политика. Спор этот был в основном устным, он привел нас к раздраю, Глеб уехал из Одессы взбешенным, а я вдогонку ему написал текст о том, что есть политика. Этот текст существует, возможно, он есть в бумагах у Глеба. В крайнем случае, он точно есть у меня. Поэтому я говорю сразу: политики не существовало. Политическим путем, путем публичного состязания, согласования интересов достичь в Советском Союзе ничего было нельзя. А для меня было почти аксиомой, что если реформа начнется под давлением населения, революционным путем, то этому обществу придет конец. А я был антиреволюционером по глубинной своей сущности. Для меня отказ от революции был, пожалуй, важнейшим из принципов. Именно поэтому для меня реформа должна была начинаться сверху, упреждая давление снизу; и, скажем, реформатор должен был идти все время впереди догоняющих его процессов разрушения страны. Политическими путями достичь этого было просто невозможно. Нужен был компромисс между диссидентами и властью. Власть должна была понять, что надо что-то менять, а диссиденты должны были найти в себе рамки, в которых они могли бы оказывать влияние на эту трансформацию и не выходить за их пределы, не стимулировать разрушительные процессы. Вот это была моя основная идея семидесятых годов — идея политических компромиссов.
— На протяжении интервью вы упоминали о налаживании возможностей для возникновения коалиции интересов, строящейся на двух китах. Это, прежде всего, знание партийной истории…
— Почему партийной? Это знание. Партийные ошибки — это одна из вещей. История Второй мировой войны — это не партийная ошибка. История Французской революции — это не партийная ошибка. История Османской империи — это не партийная ошибка. Но понимание процессов, которые происходят в обществе, должно быть. Партийные ошибки — это вершина айсберга, это лишь небольшая часть знаний.
— Тогда понимание политических процессов.
— Да.
— И предотвращение гибели государства.
— Политических, социальных. И предотвращение гибели государства.
— Какое знание об этой стране не было задействовано ни в политике, ни вами, как вы считаете?
— Мне трудно судить. У меня наверняка было множество слепых зон. Я приходил к этому всему, будучи фактически одиночкой. У меня не было партнеров, я даже на равном уровне не мог разговаривать ни с кем до появления такого собеседника, как Глеб Павловский. Павловский, хотя он был моложе меня и позже начал, сначала даже себя менторски вел; но это был собеседник, с которым можно было разговаривать и обсуждать идеи. Да, не все. Например, с Глебом было бессмысленно говорить на экономические темы. Моя идея трансформации экономической системы в увязке с политической никогда мною с ним не обсуждалась, потому что экономика его не интересовала, он никогда не касался этой темы. Точно так же, когда мы говорили о Китае, то я рассказывал ему о государственных идеях, но никогда не касался социальной основы китайского государства. Но, тем не менее, это был собеседник, с которым я мог разговаривать на одном уровне. Именно поэтому я начал писать. У меня появился адресат, которому можно было написать и что-то дать. У меня, конечно, было очень мало знаний. Я обладал знанием основных экономических законов, закономерностей, знанием экономических пружин, но, грубо говоря, большинство проблем экономики было мне неизвестно.
Я многое стал открывать, уже работая на предприятии снабженцем, когда мне открылось огромное количество вещей, относительно которых у меня было совершенно мифологическое представление до самых восьмидесятых годов. Я считал, что наша экономика — это плановая экономика. Она таковой, конечно, не была. По крайней мере, в семидесятые — восьмидесятые годы. Я этого не мог знать. Точно так же с историей. Да, конечно, я сосредотачивался на истории империи, на истории революции, но ведь очень много было других исторических пластов, даже дисциплин, которым я не уделял никакого внимания. Мне приходилось самому заниматься такими проблемами, как, например, психология; я должен был это узнать, потому что без этого было невозможно выстраивать даже повседневное общение. Я уже не говорю о выстраивании концепции трансформации страны. Мне приходилось самому заниматься биологией, потому что возникали вопросы, тесно связанные с политическим развитием, которые уходили в биологическую науку. А разработки этих вопросов у нас не было, более того, почти не было и в мире. Только в последнее десятилетие стал популярен Р. Докинз, который очень созвучен моим представлениям о действующих в биологическом мире механизмах.
Когда я начал писать свою работу о социализме (1967 год), было предисловие, в котором описывалось, какие механизмы организуют общество. Я же был далек от мысли, что общество организуется правовым путем. У меня была так называемая теория факторов, из которой было понятно, что общество организуется очень часто просто помимо воли человека. Есть законы, которые действуют, никак не вписываясь ни в человеческое сознание, ни в правовые нормы. Я это называл биосоциальным уровнем. И биологический уровень организует человека. Есть вещи, от которых человек не может отказаться ни при каких обстоятельствах, ни при какой идеологии. На мой взгляд, политик обязан знать, как может быть обусловлено общество человека, биологических существ определенной генетикой. Если политик этого не знает, он может сделать грубые ошибки. Я выразил экологическое мировоззрение задолго до того, как оно вообще у нас появилось в стране. Оно вынуждено было вырасти, но этим надо было заниматься. Я занимался один, у меня не было партнеров по мысли.
Как я мог не иметь слепых пятен в истории? Да сколько угодно их было. Просто мне сейчас их оценивать трудно: я их как не знал, так и не знаю. Потому что большая часть моей взрослой жизни протекала в попытках применить свои знания, свои идеи. Учиться оставалось уже мало возможностей. А что касается власти, так она вообще имела одно сплошное слепое пятно, она вообще почти ничего не понимала в происходящем. Я сейчас разговариваю с Горбачевым: замечательный дядька, милый, хороший, ничего не знает из нашей истории!
— То знание, которое должно было спасти ситуацию, спасти страну, — кто первым мог дать его?
— Тот, кто до него допрет, извините за выражение. Тот, кому оно откроется. Мы говорим не о религиозном сознании, а о нормальном процессе исторической жизни. Кто знает, кто откроет. Моя задача — искать людей, которые понимают, и объединять их. А кто это будет, я не знаю. Ищем, собираем. Если они есть во власти — замечательно, если они есть в экономических институтах — замечательно, если они есть в диссидентстве — замечательно.
— Пройдя вашу школу, люди должны были стали несколько другими?
— В чем-то да. Во-первых, для меня это вполне случайное определение — «внутренняя партия». Я никогда им не пользовался. Оно возникло сейчас в разговоре, но по смыслу это именно внутренняя партия. И когда мне пришлось это назвать, я назвал сразу без малейших колебаний. Да, внутренняя партия. Они все должны быть государственниками. Тем же диссидентам надо было объяснить, почему государство — это становой хребет общества, общественного развития, функционирования общества, почему государство важно, почему нельзя сказать: государство погибнет, а нам-то что? Вот этот орган — внутренняя партия — должен был точно понимать, зачем нужно государство и как его удерживать. В этом смысле должны были измениться те, кто шел к этому из диссидентского движения. Те, кто шел из партийной системы, конечно, тоже должны были измениться. Они должны были оценить пагубность той идеологии, которой они руководствуются. Они не должны были отказаться от ее использования, потому что общество на ней построено, а его нельзя разрушать. Но они должны были бы понимать ее пагубность и выстраивать модели трансформации этой идеологии и этой общественной организации. Конечно, люди должны были измениться. Так же точно в третьей трети XIX века формировалась интеллигенция. Где-то из дворян, где-то из духовенства, где-то из мещан. Как-то она склеилась, сформировалась и более или менее устаканилась, приобретая собственную ментальность. Задача и здесь была ровно такая же — собрать людей, у которых было бы понимание ответственности перед историей, ответственности перед государством, но перед государством не авторитарным, а таким, в котором человек представляет самостоятельную ценность. Меня часто называют правозащитником (или называли, сейчас, кажется, этого не делают), а я себя не считал правозащитником: я был политиком, но правозащитное сознание для политика необходимо. Он не может действовать, забывая о правозащитных идеях, идеалах, нормах. Да, он может совершить ошибку, но он точно должен знать, почему такую высокую плату надо заплатить, он точно должен знать, что совершил преступление. Возможно, ради того, чтобы не совершились многие другие преступления. Но он точно должен знать, что преступление есть преступление.
— То есть это для вас не только точное знание истории, но и доскональное представление о собственной миссии.
— Да, конечно.
— А какой экзамен должен сдать человек в такой школе?
— Не знаю. Вы мне задаете вопросы, до которых я не додумался, до которых я не дошел. Например, я же не собирался выстраивать всеобщее демократическое государство. Для меня государство должно было быть меритократическим. Это совершенно очевидно. И там я знал, какие экзамены человек должен сдать, чтобы участвовать в муниципальных выборах, в муниципальном управлении, какие он экзамены должен сдать, чтобы участвовать на региональном уровне, и какие — на союзном уровне. Это понятно, требования все возрастали. И у меня число избирателей в моем идеальном государстве было непостоянным для всех уровней выборов. Если говорить о муниципальных выборах, то это практически сто процентов взрослого населения, а если говорить о федеральном уровне, то отнюдь. Для меня цензовая демократия была совершенно естественной. И вообще, чтобы вы знали, я рассчитал, что лучшая форма управления для России — это конституционная монархия. И мне было очень жаль, что это невозможно ни при каких обстоятельствах, ни при какой погоде. Поэтому я для себя и выстраивал цензовую демократию с упором на меритократический механизм.
Беседовали Ирина Чечель и Александр Марков.




Комментарии