Светлана Лурье
Феномен империи: культурологический подход
Через три недели в издательстве «АИРО-XXI» выходит книга Светланы Лурье «Imperium. Империя — ценностный и этнопсихологический подход». С любезного разрешения издателя мы анонсируем ее первую главу.
 5 863
5 863 
© Helmut Kaczmarek
Поле конфликтов или пространство нормы
Как справедливо отмечал Г. Лихтгейн, первая трудность изучения империй и империализма состоит в том, что «историк тонет в массе фактического материала, который невозможно обобщить» [1]. В результате феномен империй «приобрел множество нюансов значений… превратился в социологических работах в ярлык» [2], дискуссии же «между представителями соперничающих теорий обычно производят больше смешения, чем ясности. Прежде всего отсутствует общее согласие относительно самого значения этого слова и о том, какой феномен оно обозначает» [3]. Неясно даже, имеем ли мы дело с единым явлением, «выражающимся во множестве форм» [4], или же за одним термином «империя» стоит «несколько понятий и несколько явлений».
Итак, изучение проблемы империи, в том числе Российской империи, следовало бы начать с проблемы методологии подхода к вопросу. Об имперском строительстве чрезвычайно много писалось как о явлении политико-экономическом и политико-стратегическом, но мало как о социокультурном феномене. Мало, конечно, не означает ничего. К этой теме обращались некоторые отечественные и зарубежные авторы. Вот с анализа не слишком пока обширной библиографии вопроса и стоит подступаться к проблеме методологии изучения империи как социокультурного явления. И вовсе не ради только «академической полноты». Дело в том, что в ходе библиографического обзора обнаруживается некое существенное различие в подходах к проблеме империи в литературе отечественной и литературе зарубежной (хотя и там, и там культурологическое направление изучения империй находится еще в процессе становления), различие, не лишенное, на наш взгляд, глубинной подоплеки, которая сама имеет не теоретико-идеологическое происхождение, а этнопсихологическое.
Многие отечественные авторы отталкиваются от представления о некой ценностно обоснованной общеимперской нормы, которая оказывается как бы «предзаданной», имеющей определенную онтологическую базу вне зависимости от того, каким образом различные исследователи понимают эту норму и как к ней относятся. Западные же авторы концентрируют свое внимание на субъективно-психологических моментах имперского строительства: проблемах восприятия, мотивации, протекания межэтнических контактов. Создается впечатление, что те реальности, которые эти подходы призваны описывать, в чем-то существенном отличаются одна от другой. Возможно, так оно до некоторой степени и есть. Фундаментом научных исследований, отечественных и зарубежных, в какой-то мере является и собственный имперский опыт (или память о нем), а он у разных народов неодинаков.
Попытаемся, прежде всего, ответить на вопрос, каким образом формировался и что представляет собой культурологический подход к проблеме империи в западной научной традиции? По существу, он как бы призван ответить на вопрос, сформулированный Э. Сейдом: «Как сложились те понятия и особенности в восприятии мира, которые позволили порядочным мужчинам и женщинам принимать идею, что удаленные территории и населяющие их народы должны быть покорены» [6]. Этому факту находится универсальное (и, конечно, абсолютно бесспорное) объяснение, выраженное, в частности, А. Ройсом: «Все человеческие существа воспитываются в некоторого рода культурных предрассудках о мире… Народ, который стремится господствовать над другими народами, не является исключением. Он вступает в отношения с другими народами, уже имея определенные представления… Эти идеи упорно и настойчиво дают о себе знать, даже если действительность явно им противоречит» [7]. Эту же мысль высказывает и Д. Фильдхауз: «Основа имперской власти зиждилась на ментальной установке колониста» [8].
В своем конкретном приложении этот подход преломляется в два основных направления: исследования «колониальной ситуации» (термин введен Г. Баландьером [9]) и изучение корреляции культурной традиции народа и его имперской программы. Причем по количеству трудов первое из этих двух направлений доминирует, ибо если западные авторы смотрят на империализм с культурологической точки зрения, то рассматривают его всегда как «столкновение двух или более культур» [10], то есть как колониальную ситуацию.
Целенаправленное изучение колониальных ситуаций было начато еще в тридцатые-сороковые годы XX века Брониславом Малиновским, основателем функционалистского направления в культурной антропологии, который трактовал их как контакт более развитой активной культуры с менее развитой, пассивной [11].
Наиболее детально и развернуто проблема колониальной ситуации исследовалась в работе О. Меннони, который, будучи представителем иного, нежели Малиновский, направления в культурной антропологии, а именно приверженцем научной школы «Культура и Личность» с ее психологической направленностью, и на колониальные ситуации смотрел иначе, чем Малиновский. «Было бы очевидным упрощением, — писал он, — думать о двух культурах, как о двух сосудах, наполненных в неравной мере, и полагать, что если они будут сообщаться, то их содержимое придет к одному уровню. Мы были удивлены, открыв, что какие-то элементы нашей цивилизации туземное население колоний воспринимало более-менее легко, а другие решительно отвергало. Обобщая, можно сказать, что население колоний приняло определенные детали нашей цивилизации, но отвергло ее как целое» [12].
С другой стороны, и поведение европейцев в огромной мере определялось не их сознательными целями, а логикой контактной ситуации. «Поведение европейцев не может быть объяснено только стремлением к достижению собственных точно рассчитанных интересов или страхом перед опасностью. Напротив, оно может быть объяснено только переплетением всех этих сложных чувств, которые возникают в ходе контактной ситуации» [13]. Последнее приводило к тому, в частности, что в процессе колониальной ситуации до неузнаваемости искажались эксплицитные идеологические установки европейцев и они, в результате, делали не то, что изначально собирались делать. Эту мысль Маннони иллюстрирует на примере поведения французских колониальных чиновников: «Даже представители официальной администрации, те, которые последовательно проводили принятую Францией покровительственную по отношению к туземному населению политику, были, тем не менее, подвержены социопсихологическим законам, и, даже если это люди выдающиеся, они не могут избежать расистских установок» [14].
В итоге Маннони определяет колониальную ситуацию, как «ситуацию взаимного непонимания» [15], причиной которого он считает «различие личностной структуры тех и других» [16]. Отсюда делается вывод, что «психологический феномен, который имеет место, когда два народа, находящиеся на разных стадиях цивилизации, встречаются, по всей вероятности, лучше всего может быть объяснен, если рассматривать его как реакцию двух различных типов личности друг на друга» [17].
Колониальная ситуация рассматривается в качестве ситуации априорного взаимного непонимания в большинстве работ, выпущенных по этой теме в последние годы. А. Мемми, исследуя структуру взаимодействия колонизаторов и колонизируемых, подчеркивает, что она оказывается как бы предзаданной и мало зависит от того, что желают ее субъекты. Европеец, обосновавшийся на колонизируемой территории, по мнению Мемми, не может оставаться просто колонистом, проживающим в среде какого-либо народа, «даже если он к этому стремится. Выражает он такое желание или нет, он воспринимается как привилегированная персона и обычаями, и институциями, и людьми. С момента своего поселения в колонии или с момента своего рождения он оказывается в определенной ситуации, которая является общей для всех европейцев, живущих в колониях, в ситуации, и которая превращает его в колонизатора» [18].
Акцент на взаимном непонимании контактирующих культур делался и в некоторых исторических исследованиях. С этой точки зрения представляет интерес работа английского исследователя М. Ходорковского о русско-калмыцких отношениях, в которой делается вывод, что «каждое общество видит в другом отражение своей собственной политической системы с присущими ей ценностями. Эта проекция политических ценностей и политических понятий ведет к фундаментальному непониманию и нереалистическим ожиданиям с обеих сторон» [19].
С этим же подходом можно связать и работу Э. Сэйда «Ориентализм», где анализируется западное восприятие реальностей Восточного мира и делается заключение, что «ориентализм является не просто представлением, а значительной частью современной политико-интеллектуальной культуры и в качестве таковой более связан с нашим миром, чем с Востоком» [20]. В своей последующей работе «Культура и империализм» Сэйд анализирует, как в рамках комплекса «ориентализма» зарождается то, что «было названо “долгом” в отношении к туземцам и породило потребность осваивать Африку или какие-либо еще колонии, чтобы облагодетельствовать туземцев, а равно чтобы утвердить престиж родной страны» [21].
В этом свете подавляющее число многочисленных исторических трудов, так или иначе отражающих цивилизаторскую миссию европейских народов, не могут рассматриваться как примеры культурологического исследования сути европейского империализма: они сами находятся внутри той же культурной традиции, одним из воплощений которой стал «новый империализм» конца XIX — начала ХХ века (даже если на последний они смотрят критически) и порожденная им мифологема модернизации. Речь идет о европоцентристской доминанте, которая воздвигла между Западом и Востоком невидимую стену, делая изначально невозможным адекватное взаимопонимание.
Культурному контексту, в рамках которого выкристаллизовались представления, с которыми была сопряжена европейская экспансия, посвящена другая часть работ, которые можно рассматривать как примеры культурологического подхода к проблеме империй и империализма. Наиболее выделяется в этом отношении работа Э. Сэйда «Империализм и культура», целиком посвященная вопросу о связи «нового империализма» с литературой и искусством того времени: «Мы имеем, с одной стороны, изолированную культурную сферу, где, как считается, возможны различные теоретические спекуляции, а с другой — более низкую политическую сферу, где, как обычно полагают, имеет место борьба реальных интересов. Профессиональным исследователям культуры только одна из этих сфер представляется релевантной, и обычно принято считать, что эти две сферы разделены, между тем как они не только связаны, а представляют собой единое целое» [22]. По мнению Сэйда, высказанному им в еще более ранней работе, изучение империализма и изучение культуры должно быть неразрывным образом связано [23]. Ведь «идея доминирования возникла не сама по себе, а была выработана многими разными путями внутри культуры метрополии» [24]. Этот факт, указывает Сэйд, остается вне поля зрения исследователей: «Существует, по-видимому, настоящее серьезное расщепление в нашем критическом сознании, которое позволяет нам тратить огромное время на изучение, например, теорий Карлейля и при этом не обращать внимания на то влияние, которое эти идеи в то же самое время оказывали на подчинение отсталых народов на колониальных территориях» [25].
По мнению Сэйда, «Восток является идеей, которая имеет свою историю и традицию представлений, концепций, словаря, сложившихся на Западе и для Запада» [26]. «Географические культурные разграничения между Западом и незападной периферией воспринимались столь остро, что мы можем считать границу между двумя “мирами” “абсолютной”» [27]. Именно это ощущение, а также представление о разделении человеческого рода на управляемых и управляющих и лежит, как считает Сэйд, в основании европейского империализма [28].
В своей работе «Культура и империализм» Сэйд стремится показать, что «британское владычество было выработано и отрефлексировано в английской новелле» [29]. Сходные идеи высказывает Д. Миллер [30], эта же мысль является центральной в книге Х. Радли [31]; ее же защищает в своей работе о политическом бессознательном Фр. Джемсон, предложивший «метаанализ» — особый метод анализа культурного материала, с помощью которого вычленяется политический заряд той или иной культурной традиции [32].
Сэйд высказывает важную, с нашей точки зрения, мысль о том, что «подготовка к строительству империи совершается внутри культуры» [33]. Однако предложенный Сэйдом подход кажется нам недостаточным, поскольку он устанавливает причинно-следственные связи между явлениями, которые, по нашему мнению, следует рассматривать как рядоположенные. Империи европейских стран сложились гораздо раньше, чем идеология империализма. Упрочение Британской Индийской империи шло параллельно с формированием жанра английской новеллы, и, соответственно, заложенный в ней политический импульс мог, конечно, повлиять на формирование эксплицитной империалистической идеологии, но не на само имперское строительство. Систематизированная и ставшая фактом общественного сознания империалистическая же идеология, по справедливому замечанию Г. Лигхтейма, складывается постфактум, «ее взлет может в реальности совпадать с упадком империи» [34].
Теперь обратимся к традиции исследования проблемы империй, которая складывается в российской науке. Продемонстрируем ее принципиальное отличие от западных политологических парадигм сопоставлением двух цитат. Если для западного автора (М. Даула) «империя — это продукт особого взаимодействия между силами и институтами метрополии и силами и институтами периферии» [35], то для российского это «сложноорганизованная универсальная система. В качестве таковой она способна оказывать уравновешивающее воздействие на внутренние противоречия людской натуры и функционально использовать их. Империя не только давит личность, но возносит самого ничтожнейшего из своих подданных на обыденно недостижимую онтологическую высоту, ориентируясь в пространстве и времени» [36]. Другой российский автор говорит о том, что «создание империи возможно только на высоком взлете человеческого духа» [37], а с потерей общей идеи империи «начинается внутренний распад, который неизбежно станет и внешним распадом» [38].
Такой подход неизбежно ведет к выработке иного, отличного от распространенного в западной научной литературе взгляда на характер и мотивацию имперского строительства. Так, по мнению В.Л. Цимбурского, «если исходить из классификации функций любой системы по Т. Парсонсу, то для империи центральными оказываются функции интеграции триб и (во вторую очередь) целедостижение через внешнюю экспансию» [39]. Б.С. Ерасов, обращаясь к проблеме легитимного фундамента Российского государства, говорит о внутренней потребности «в объединяющем и регулирующем начале, избавляющем огромный конгломерат разнородных этнических и конфессиональных единиц от тягостной локальной ограниченности и местничества, от взаимных распрей и междоусобиц» [40]. При этом «прагматическая политика манипулирования и регулирования разнородных этнических, профессиональных, политических и социальных общностей и групп должна была дополняться общими универсализирующими нормативными принципами и ценностными ориентациями, в которых преодолевалась бы дробность существующего социокультурного конгломерата» [41]. Таким образом, существенной характеристикой империи оказывается не внешняя экспансия (как то видят все без исключения западные исследователи), поскольку экспансия «может и не вести к созданию империи… Империя создается отношением между ценностями локальных, этнических, конфессиональных и тому подобных групп и тем единым “пространством нормы”, куда интегрируются эти группы, утрачивая свой суверенитет. Причем в основе этой интеграции лежит наличие единой силы, единой власти, образующей это “пространство нормы”» [42]. Применительно к истории формирования Российской империи Т.Н. Очирова говорит о нравственных правовых постулатах, «вносимых в качестве обязательной социальной нормы в общественное бытие покоряемых народов. Постулаты эти прямым образом соотносятся со “спасением душ” и соположены внешней мудрости разумного управления и жизнеустройства как “вселенского мироуправства”» [43].
Конечно, западный и российский подходы отнюдь не исключают друг друга; напротив, они взаимодополнительны. Однако если отвлечься от чисто методологических проблем, то создается впечатление, как мы уже упоминали выше, что та реальность, которую эти подходы призваны описать, в чем-то отличается одна от другой. В поле зрения русских исследователей попадает прежде всего культурно-детерминированный тип экспансии, а в поле зрения западных — прагматически-детерминированный. Если выразиться словами М. Даула, то речь может идти о миссионерском и коммерческом империализме [44].
Если учесть все сказанное нами выше, то вряд ли покажется лишенной основания мысль Д. Фильдхауза, что «европейская экспансия была сложным политическим процессом, в котором политические, социальные и эмоциональные силы были более влиятельны, чем экономический империализм» [45].
Другое дело, что в силу некоторых факторов, непосредственно связанных со спецификой самой основополагающей мифологемы Британской империи, религиозная подоплека британского имперского строительства менее выражена, чем, скажем, в случае российского имперского строительства. Более того, идеология меркантилизма в своей упрощенной и сугубо прагматизированной трактовке в силу исторических обстоятельств превратилась в стандартное объяснение мотивов английского империализма. Причем это объяснение стало столь привычным, что современный культурологический подход, характерный для западных авторов, к изучению проблемы империй практически весь строится на том, чтобы объяснить, каким образом стремление к экономической экспансии оказывалось движущей силой для нескольких поколений британцев. Подход, с нашей точки зрения, неверный по самой своей сути. Анализ межэтнических колониальных ситуаций совершается аналогичным образом, то есть упрощенно. Отношения между народами могут быть столь же сложны и противоречивы, как и отношения между людьми, могут иметь несколько параллельных друг другу пластов.
Большая онтологичность, характерная для российского подхода к изучению феномена империй, в значительной мере объясняется тем, что чисто экономические обоснования российского имперского строительства выглядят откровенной натяжкой, а религиозные корни, в частности, непосредственное заимствование у Византии идеи Православной империи, — слишком очевидны.
Другое дело, что Российская империя, и это не могло быть иначе, на протяжении всей своей истории подвергалась внешним культурным влияниям, которые в какой-то мере определяли структуру русской государственности. Так, в некотором смысле не лишено оснований утверждение Б.С. Ерасова, что «Россия в большей степени была преемницей Золотой Орды, с которой она долгое время совпадала территориально и была сходна по социально-административной организации, а не Киевской Руси» [46]. С другой стороны, в XVIII и XIX веках Россия находилась под значительным влиянием Запада. Место византийской идеи занимает славянская, трактуемая в категориях европейской культуры. «Начинает выдвигаться европейская модель империи» [47]. И хотя анализ исторического материала показывает, что на протяжении всей истории Российской империи византийская доминанта имплицитным образом играла решающую роль в ее формировании, нельзя сбрасывать со счетов и влияние того, что может быть названо «культурными доминантами эпохи».
Методология «имперской ситуации» и «имперских историй»
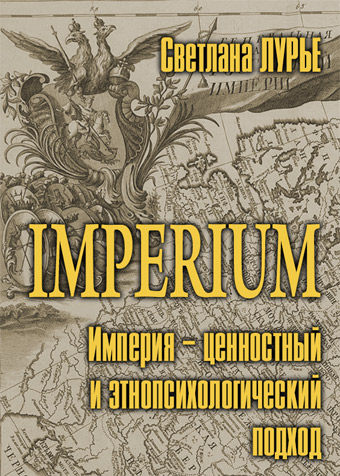 В последние годы наиболее пристальное внимание стало уделяться методологии изучения империи, методике ее описания и анализа, попыткам найти методологически корректный способ определить ее как понятие. Это начало совершенно нового подхода в империологии, синхронно развивающегося как на Западе, так и в России. Сегодня возникают новые методологические рамки исследования империй, такие как подход, связанный с «имперской ситуацией», и анализ «имперских историй». На фоне всех используемых методологий изучения империй последние представляются нам наиболее интересными, и в нашей книге именно на них мы и остановим внимание. Наблюдаемый сегодня «расцвет имперских историй напрямую связан с пониманием того, что изучение имперского опыта обогащает различные варианты управления разнообразием и может способствовать, пусть и в критическом ключе, лучшему пониманию текущих событий. Конфликты между концессиями и культурами, сословиями и классами были присущи всем имперским режимам, особенно в России» [48].
В последние годы наиболее пристальное внимание стало уделяться методологии изучения империи, методике ее описания и анализа, попыткам найти методологически корректный способ определить ее как понятие. Это начало совершенно нового подхода в империологии, синхронно развивающегося как на Западе, так и в России. Сегодня возникают новые методологические рамки исследования империй, такие как подход, связанный с «имперской ситуацией», и анализ «имперских историй». На фоне всех используемых методологий изучения империй последние представляются нам наиболее интересными, и в нашей книге именно на них мы и остановим внимание. Наблюдаемый сегодня «расцвет имперских историй напрямую связан с пониманием того, что изучение имперского опыта обогащает различные варианты управления разнообразием и может способствовать, пусть и в критическом ключе, лучшему пониманию текущих событий. Конфликты между концессиями и культурами, сословиями и классами были присущи всем имперским режимам, особенно в России» [48].
Особую роль в развитии этого подхода играет журнал «Ab Imperio». Проблема разнообразия понимается в большинстве статей журнала как центральная проблема империи, и их авторов интересует обсуждение как философских, так и методологических импликаций проблемы разнообразия. «Один из центральных тезисов проекта новой имперской истории заключается в том, что эмпирические исследования империи, позволяющие делать обобщения, создают методологические основания для анализа комплексных, композитивных и неравномерно организованных обществ» [49], то есть империй.
В своем интервью журналу «Логос» редакторы журнала «Ab Imperio» Илья Герасимов и Марина Могильнер удивляются, что торжество конструктивистского подхода к «нации», которая признается большинством исследователей «конструктом», «воображаемым сообществом», никак не коснулось «истории империй», что по-прежнему делаются попытки создать «теорию империи», вычислить некий цикл ее развития (упадка и возрождения) [50]. Герасимов и Могильнер предлагают изучать не структуры, а практики и дискурсы, которые переплетаются в динамичную открытую систему «имперской ситуации». «Имперская ситуация», по их мнению, «характеризуется параллельным существованием несовпадающих социальных иерархий и систем ценностей, с очень приблизительно устанавливаемым “обменным курсом” статуса — в то время как идеальная модель модерного национального государства предполагает универсальность и равнозначность социальных категорий во всех уголках общества» [51]. Это действительно новый шаг в изучении империй. Впервые предлагается методология, которая применима именно к имперским исследованиям, и это следует считать важнейшим, может быть самым важным достижением во всей истории империологии. С другой стороны, следует отметить, что данный подход не является принципиально новым, он, как нам представляется, давно разрабатывается на основании методологии «колониальной (контактной) ситуации», призванной установить рамки исследования взаимоотношений двух и более народов. «Имперская ситуация» характеризуется сосуществованием нескольких альтернативных социальных иерархий, с неопределенным или множественным «курсом взаимной конвертации».
Методология, которую Герасимов и Могильнер называют «Новой имперской историей», — это не история как таковая, не историческая эмпирика сама по себе, это метод описания исторической реальности принципиально гетерогенного, полиэтнического и мультикультурного общества. Только исходя из этого методологического подхода можно понять, почему в Российской империи до самого конца не было единой национальной политики, но было единое пространство принятия решений. «Ротация администраторов приводила к обмену локальным опытом управления и решения проблем, потому что существовали структурно схожие ситуации, в которых вовлеченные стороны вели себя очень по-разному, потому что фундаментально дискретное имперское пространство было при этом единым полем социального и политического действия. Антипольские репрессии приводили, пусть и временно, к стимулированию украинского или литовского национального движения. Имперский режим с большим трудом удерживал состояние неустойчивого равновесия, сохраняя баланс сил и оплачивая репрессии по отношению к одной социальной группе привилегиями по отношению к другой. Игнорирование “нации” сразу делает анализ одномерным, как и игнорирование “имперскости”, которая может проявиться в самом неожиданном месте. Условно говоря, нация — это относительно гомогенное пространство универсальных прав, обязанностей, культуры и языка. Империя — принципиально гетерогенное пространство. Реальность всегда находится между этими двумя полюсами, но ближе к одному или другому, и эта оппозиция позволяет нам описывать историческую динамику более аккуратно» [52].
Таким образом, новая методология позволяет дать определение империи (что до сих пор считалось невозможным), а равно и оригинальное определение понятия «нация», хотя сами авторы методологии так не считают, избегая слова «теория». Они избегают и слова «империология» и пугаются попыток рассмотрения предмета их исследования как научной дисциплины [53]. Интерес для них, в отличие от нас, представляет только сравнительный функциональный анализ: как разные общества реагировали в схожих ситуациях на схожие вызовы.
«Имперскость», по мнению Ильи Герасимова и Марины Могильнер, как «аналитическая категория важна и нужна тогда, когда необходимо объяснить дискретность социального пространства, сохраняющего свою целостность» [54]. То, что Россия покоряла Кавказ, само по себе не делает ее империей. Вполне типичным представлялось желание обезопасить южную границу, установить надежное сообщение с отдаленной провинцией — Грузией, отсутствие exit strategy перед лицом ширящегося восстания горцев и прочие аспекты «логики ситуации». «А вот то, что после покорения центральная власть отказалась от попыток распространить единое, универсальное имперское законодательство на значительную территорию, фактически живущую по шариату, является очень интересным и важным “имперским” фактом. Политическая лояльность края иногда обменивается на передачу беспрецедентных экономических и налоговых льгот, а иногда добывается террором; иногда происходит инкорпорация элит в имперский политический класс (Украина), а иногда местные элиты получают карт-бланш на самостоятельность в управлении краем в обмен на стабильность (российские протектораты в Средней Азии)» [55].
Важно подчеркнуть, что Новая имперская история — это попытка рассматривать прошлое как открытую динамическую систему в состоянии неустойчивого равновесия, где невозможны однозначные или предсказуемые «термодинамические» уравнения.
Определение империи, которое мы выводим таким образом из рассуждения авторов концепции «Новой имперской истории», состоит и в том, что она — принципиально гетерогенное пространство.
Относительно близко к этой идее подходит анонимный автор вступительной статьи книги «Новая имперская история постсоветского пространства»: «“Империя” — это исследовательская ситуация, а не структура, проблема, а не диагноз. Секрет в том, что аналитический инструментарий модерности насквозь “национален” и империю нельзя описывать в рамках какой-то одной модели, при помощи какого-то одного метанарратива. Поэтому “увидеть” империю можно, только осознанно и контекстуализированно совместив разные исследовательские оптики. Новая имперская история предлагает многомерный взгляд на политических, социальных и культурных акторов, на “пространства”, в которых они действуют. Таким образом, новая имперская история выступает в качестве “археологии”, понимаемой в духе постструктуралистской фуколдианской парадигмы, подвергающей деконструкции базовые и нормативные идеи социальных наук. Несмотря на отсутствие консенсуса по вопросу о применимости фуколдианских подходов к российской имперской истории, этот метод обладает колоссальным потенциалом для ревизии недавно сформировавшейся ортодоксии в оценке Российской империи как политического, культурного и социального пространства, четко поделенного по национальным и только национальным линиям. Археология знания об империи позволяет четко увидеть, как происходит национальная апроприация общего прошлого в полиэтнических регионах и городах (Санкт-Петербурге, Варшаве, Одессе, Вильно, Киеве, Баку и т.п.). Именно археология знания об империи позволяет восстановить полимпсест социальных идентичностей (региональных, конфессиональных, сословных), которые обычно встраиваются в телеологическую и монологическую парадигму строительства нации или класса/конфессии. Она же делает возможной контекстуализацию современного процесса конструирования национального прошлого и через историографию как целенаправленное действие и инструмент политической борьбы» [56].
От имперской ситуации к контекстообразующему и когнитивному повороту
Многие специалисты в «новых имперских историях» по-новому оттеняют «имперские ситуации». «В 1917 г. основоположник российской школы формализма в литературоведении Виктор Шкловский ввел в оборот концепцию “отстранения”. Отстранение позволяет лучше разглядеть скрытую суть объекта путем его отчуждения, превращения знакомого в незнакомое, странное, непредсказуемое. На примере ряда недавних исследований империи, которые условно можно назвать “новыми имперскими историями”, становится понятно, что этот механизм может работать и в обратном направлении: тонкий, вдумчивый, внимательный к нюансам анализ имперского контекста в результате воссоздает удивительно неожиданный, незнакомый и странный мир. С нашей сегодняшней точки зрения, этот мир представляется иррациональным или, по крайней мере, подчиненным некой совершенно иной по типу рациональности. В этих работах империя проявляет себя через скрытые или неявные конфликты (tensions) и “скандал”; она производит “плотское знание” (camal knowledge) и сама оказывается обретенной или завоеванной парадоксальным образом “по рассеянности” (absent—mindedness)» [57].
В исторических исследованиях «по-старому» феномен конкретной империи и кажущаяся самоочевидной описательная функция категории «империи» всегда мешали обобщению и теоретическому осмыслению «имперских формаций» (термин Энн Стоулер).
Среди историков бывшего Советского Союза зародилось понимание, что «империя» больше не может изучаться просто как совокупность ряда «наций». Ощущалась необходимость определения Российской империи как самостоятельного феномена, однако для подобного описания и объяснения имперского прошлого не существовало готовой аналитической рамки и языка. Сегодня уже можно встретить критический анализ феномена империи «через когнитивный поворот к империи как категории анализа и контекстообразующей системе языков самоописания имперского опыта. Этот когнитивный поворот в осмыслении империи созвучен предложенному Роджерсом Брубейкером когнитивному повороту в области исследований национализма. Нам важно подчеркнуть эпистемологический вызов, связанный с попыткой теоретизации империи как аналитической категории, применимой для объяснения как прошлого, так и настоящего. Мы предлагаем сосредоточиться на имперском опыте, то есть реальном или семантически сконструированном столкновении с различиями, и на тех аспектах неравенства и дисбаланса власти, с которым это столкновение обычно связано» [58]. Этот подход был во многом предвосхищен в капитальном двухтомном исследовании российской монархии Ричарда Уортмана. Уортман предложил новый взгляд на понимание роли империи и имперского суверенитета в российской истории, не сводящий империю к нормативному концепту государства и институциональной структуры управления. Его концепции «сценариев власти» и «политического мифа» незаменимы для понимания специфики имперского суверенитета в российском контексте и с точки зрения исторической семантики, а именно, несводимость имперской мифологии к нормативному концепту идеологии и объясняла, каким образом имперская система приспосабливалась к динамическим контекстам и вызовам современности [59]. Уортман создал «отстраненный» образ имперской власти, основанной на эпосе и «риторической правде» и оказавшейся плохо совместимой с миром современной рациональности, идеологии и политики.
Отказ от фокуса на структуралистских, эссенциалистских и функционалистских определениях империи в пользу более динамической модели конструирования и маркирования имперского опыта логически ведет к исследованию комплекса языков самоописания и саморационализации. «Имперская ситуация» в этом случае характеризуется «напряженностью, несочетаемостью и несоразмерностью языков самоописания разных исторических акторов. Пристальный взгляд на конфликты и накладки этого “многоголосия” российского имперского опыта позволяет дать более точное определение исторически сложившегося разнообразия как главной характеристики имперской ситуации. Это разнообразие оказывается неравномерно локализованным, многоуровневым и динамичным. Опыт переживания различий пронизывает собой разрывы политического, социального и культурного пространства. Неравномерное и динамическое разнообразие является и результатом, и источником имперского стратегического релятивизма. Разнообразие имперской ситуации, воплощающее принцип стратегического релятивизма, не может быть описано в рамках какого-то одного внутренне непротиворечивого нарратива или каталогизировано на основе единых рациональных и столь же непротиворечивых принципов классификации. Империя обретает видимость либо в результате противоречий, вытекающих из неравномерной и несистематической гетерогенности, либо в итоге осознанных попыток сделать ее более управляемой и потому более рациональной» [60].
Другая заметная тенденция в современных исторических исследованиях Российской империи, релятивизирующая константы имперского разнообразия и подрывающая претензии на универсальность описания этого разнообразия через национальность или территорию, представлена историками религии и конфессиональной политики [61].
Методологические проблемы типологизации империй
В новейших исследованиях уже отмечается, что Российская империя отличалась от империй других европейских государств XIX — начала XX века по трем основным параметрам. Первое отличие состоит в том, что периферии других империи (за исключением Австрийской) в большинстве случаев состояли из земель и народов, удаленных от соответствующих метрополий на тысячи морских миль. «Территория же Российской империи, напротив, не разрывалась солеными водами океанов, если не считать краткосрочное обладание аванпостами на побережье Аляски и Калифорнии. Не менее важным является и второе отличие. За исключением, опять-таки, будущих самоуправляющихся доминионов Британской империи, остальные европейские державы рассматривали свои имперские владения как неассимилируемые зависимые территории, пригодные лишь для эксплуатации и “патерналистского” наставления на путь “цивилизации”. Россия, напротив, рассматривала свои владения, за возможным исключением Туркестана, как расширение метрополии, как составную часть сообщества (даже если для интеграции требовался некоторый переходный период), открытую, там, где это было возможно, для постоянного поселения русских. В-третьих, в то время как в других империях подвластными землями и народами управляло государство-нация, империя Романовых, подобно Габсбургской, представляла собой политию более старого типа — династическое государство, характеризующееся подчиненностью всех одному правителю. В каждом из этих случаев правитель принадлежал к династии, связанной с одной из территорий, находящихся под его скипетром (австрийские герцогства в случае Габсбургов, Московское княжество в его границах XVI века в случае Романовых). Эта ситуация ничего общего не имела с властью государства над зависимыми территориями» [62].
Российская империя походила на подавляющее число империй, известных истории тем, что они состояли из смежных владений и ставили перед собой цель по крайней мере частичного поглощения или интеграции своих периферий, а также по своей династической природе. «В этом смысле именно европейские колониальные империи Нового времени, а вовсе не Россия, отклонялись от нормы» [63]. До пришествия национализма государство определялось исходя не из населения, а из земли или земель, подвластных одному правителю или правящей группе. Пока данное определение государства преобладало, культурная идентичность или идентичности его населения были вопросом в лучшем случае вторичным. Если государство занимало большую территорию, то оно скорее всего могло включать в себя народы, принадлежащие к разным культурам. «Подобные государства подпадают под определение империи, вне зависимости от того, считали ли они себя таковыми и провозглашали ли себя империями официально. Подобно России XIX в. Англия и Франция периода Средневековья и раннего Нового времени включали в себя земли с разным историческим прошлым (хотя и в рамках одного западно-христианского общества), населенные разными этническими группами. Несмотря на то что Англия и Франция были империями в любом значении этого слова, они уже начали эволюционировать в архетипические европейские национальные государства. Оба государства определялись своей лояльностью одной правящей династии, принадлежащей или ассоциирующей себя с доминирующей этнической группой. Оба они проводили политику административной, правовой, фискальной унификации среди народов, их населяющих. И использовали высокую культуру и язык королевского двора для унификации элит — выходцев с этнических окраин. Несколько лет назад Фредерик Герц заметил, причем достаточно точно, что современные государства-нации — это “бывшие империи, которые преуспели в деле сплочения разных народов в одну нацию”» [64].
Данная модель может быть использована для применения методологии «имперской ситуации».
Новое понимание феномена истории империи формировалось историческими нарративами, прототипами великих империй прошлого, каждая из которых, проживая свою уникальную историю, влияла на развитие других имперских формаций. Особенное влияние на новейшие подходы к историческим исследованиям «оказали сюжеты возникновения и распространения наследия классических империй древности, особенно Римской империи — архетипической для современного исторического воображения» [65]. Хотя исторические исследования империй зависят от нарративов, основанных на классических прототипах, «они также предлагают аналитический инструментарий для разграничения исторически сформировавшихся различий имперских формаций и закономерностей исторического процесса. Так, историки подчеркивают разницу между домодерными и модерными империями. Древние империи характеризуются наличием формализованной политической структуры, они основаны на завоевании, у них нет могущественных соперников в лице суверенных территориальных государств и национализма. Империи Нового времени рассматриваются как новые формы организации пространства и гегемонии, возникшие после Вестфальского мира и Французской революции. Они основаны на неформальном колониальном господстве, коммерческих связях и современной технологии. Этот тип империи оказывается вполне совместимым и даже взаимосвязанным с идеей суверенного национального государства, распространяющего военное и экономическое влияние за пределы своих границ. Вводя современный принцип суверенитета в Европе, этот тип имперской политии одновременно предлагал разделенный или неполноценный суверенитет за пределами “цивилизованного” континента» [66]. Эти классификации могут быть эффективно использованы в сочетании с методологией имперской ситуации и имперских историй.
Заключение
В последние годы выявляются новые концептуально-методологические подходы, которые позволяют по-новому взглянуть на феномен империи и расширяют возможности ее изучения, делая их более адекватными. Изучение имперских ситуаций и имперских историй позволяет глубже понять природу империи и ее отличительные особенности. Подход к исследованию империи как гетерогенного пространства позволяет реконструировать новую неожиданную реальность, которая ускользала от внимания традиционных историков.
При традиционном подходе империи, хотя и не имеют общепризнанного определения, обладают заранее предрешенными, как правило, негативными качествами, что не позволяет разглядеть специфику имперских действий и имперской логики. При новом подходе взгляд на империю нейтрален, он открыт для изучения самых разных аспектов имперского строительства и имперской практики и позволяет делать совершенно новые выводы об империи как о политико-культурном феномене.
Кроме того, в отличие от традиционного взгляда, который усматривал в империи только пройденный этап человеческой истории, новый подход утверждает, что имперская ситуация могла и может сложиться в разное время и во многих регионах мира. Империи не только наше прошлое. Империя может быть и нашим настоящим, и нашим будущим.
Примечания
- Lightheim G. Imperialism. N.Y., 1987. P. 9.
- Thornton A.P. The Imperial Idea and Its Enemies. Toronto, New York, 1959. P. X.
- Owen R. Introduction // R. Owen and B. Sufeliffe (eds.). Studies in the Theory of Imperialism. L., 1972. P. 23.
- Smith T. The Patterns of Imperialism. Cambridge etc., 1981. P. 49.
- Серебряный С.Д. Выступление на семинаре «Закат империи». Ч. II // Восток. 1991. № 5. С. 131.
- Said E. Culture and Imperialism. L., 1994. Р. 38.
- Royce A.P. Ethnic Identity. Bloomington, 1982. P. 63.
- Fieldhause D.K. The Colonial Empire. A Comparative Survey. Houndmils, 1991. P. 108.
- Balandier G. The Colonial Situation. A Theoretical Approach // J. Wallerstein (ed.). Social Change: The Colonial Situation. N.Y., 1957.
- Nadel G.H., Curtis P. Imperialism and Colonialism. N.Y., 1968. P. 168.
- Malinovski B. Theory of Cultural Change // J. Wellerstein (ed.). Social Change: The Colonial Situation. N.Y., 1966. P. 12.
- Mannoni O. Prospero and Colibian. The Psychology of Colonisation. N.Y., 1968. P. 23.
- Ibid. P. 88.
- Ibid. P. 110.
- Ibid. P. 31.
- Ibid. P. 23.
- Mannoni. P. 24.
- Memmi A. The Colonizer and the Colonized. N.Y., 1965. P. 12.
- Khodorkovsky M. Where Two Worlds Met. The Russian State and the Kalmyk Nomads. 1600–1771. Ithaca — London, 1992. P. 9.
- Said E.W. Orientalism. N.Y., 1978. P. 12.
- Said E.W. Culture and Imperialism. L., 1994. P. 66.
- Said E. Culture and Imperialism. P. 66.
- Said E. Orientalism. P. 12.
- Said E. Culture and Imperialism. P. 131.
- Ibid. P. 12.
- Said E. Orientalism. P. 5.
- Said E. Culture and Imperialism. P. 129.
- Ibid. P. 10.
- Ibid. P. 66.
- Miller D. The Novel and the Policy. Berkeley, 1988.
- Rudley H. Images of Imperial Rule. L., 1983.
- Jameson Fr. The Political Unconscious. Narrative as Social Symbolic Act. L., 1981. P. 3.
- Said E. Culture and Imperialism. P. 10.
- Lightheim G. P. 81.
- Doyle M.W. Empires. Ithaca — London, 1986. P. 52.
- Булдаков В.П. XX век. Российская история и посткоммунистическая советология // А. Борфогов (ред.). Российская империя, СССР, Российская Федерация: история одной страны? М., 1993. С. 9.
- Померанц Г.А. Выступление на семинаре «Закат империи» // Восток. 1991. № 5. С. 13.
- Там же. С. 11.
- Цимбурский В.Л. Выступление на семинаре «Закат империи» // Восток. 1991. № 5. С. 15.
- Ерасов Б.С. Выбор России в евразийском пространстве // Б.С. Ерасов (ред.). Цивилизации и культуры. Вып. I. М., 1994. С. 47.
- Ерасов Б.С. Выбор России в евразийском пространстве. С. 49–50.
- Цимбурский В.Л. С. 15.
- Очирова Т.Н. Присоединение Сибири как евразийский социокультурный вектор внешней политики Московского государства // Б.С. Ерасов (ред.). Цивилизации и культуры. С. 148.
- Doyle M.W. P. 52.
- Ibid. P. 68.
- Ерасов Б.Г. Геополитические перспективы России на Востоке // С.А. Панарин (ред.). Россия и Восток: проблемы взаимодействия. М., 1994. С. 29.
- Очирова Т.И. С. 150.
- NOTA BENE: «Структуры и культуры имперского и постимперского разнообразия: программа журнала “Ab Imperio” на 2012 г.» URL: http://net.abimperio.net/node/2065
- Там же.
- Логос. 2007. № 1. URL: http://www.ruthenia.ru/logos/number/58/13.pdf
- Там же.
- Там же.
- Там же.
- Там же.
- Там же.
- В поисках новой имперской истории // Новая имперская история постсоветского пространства / Под ред. И. Герасимова и др. Казань: Центр исследования национализма и империи, 2004. С. 26–27.
- Илья Герасимов, Сергей Глебов, Ян Кусбер, Марина Могильнер, Александр Семенов. Новая имперская история и вызовы империи // Ab Imperio. 2010. № 1. URL: http://net.abimperio.net/files/images/introbrill.pdf
- Там же.
- Wortman R. Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy. Vol. 2. Princeton, 2000. Р. 10–15.
- Илья Герасимов, Сергей Глебов, Ян Кусбер, Марина Могильнер, Александр Семенов. Новая имперская история и вызовы империи // Ab Imperio. 2010. № 1. URL: http://net.abimperio.net/files/images/introbrill.pdf
- R. Geraci and M. Khodorkovsky (eds.). Of Religion and Empire. Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarist Russia. Ithaca — New York, 2000; Werth P.W. At the Margins of Orthodoxy: Mission, Governance, and Confessional Politics in Russia’s Volga-Kama Region, 1827–1905. Ithaca — New York, 2002; Zhuk S.I. Russia’s Lost Reformation: Peasants, Millennialism, and Radical Sects in Southern Russia and Ukraine, 1830–1917. Baltimore, 2004; Breyfogle N.B. Heretics and Colonizers: Forging Russia’s Empire in the South Caucasus. Ithaca — New York, 2005.
- Беккера С. Россия и концепт империи по причине нетипичности предложенной в ней классификации // Новая имперская история постсоветского пространства / Под ред. И. Герасимова и др. Казань: Центр исследования национализма и империи, 2004. С. 70–71.
- Там же. С. 71.
- Там же. С. 72–73.
- Илья Герасимов, Сергей Глебов, Ян Кусбер, Марина Могильнер, Александр Семенов. Новая имперская история и вызовы империи // Ab Imperio. 2010. № 1. URL: http://net.abimperio.net/files/images/introbrill.pdf
- Там же.




Комментарии