Научная политика? Критика. Самоорганизация
Формирование научной программы в ситуации политической дезориентации? Николай Плотников (Рурский университет, Германия) размышляет о трендах самоорганизации научного сообщества в России.
 3 915
3 915 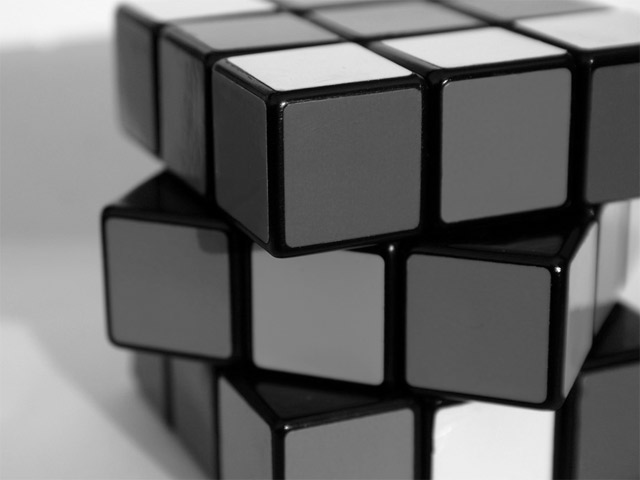
© Toni Blay
Интервью научного сотрудника Института философии Рурского университета (Бохум, Германия) Николая Плотникова интернет-журналу «Гефтер».
— Итак, Николай, первый вопрос. Вы много занимались автаркией русской мысли, ее отделенностью от актуального международного контекста и отсутствием русской гуманитарной мысли на мировой карте. Что мы наблюдаем в наши дни? Ее автаркия, изолированность уменьшается или увеличивается?
— По-моему, представление об автаркии русской мысли всегда было сильно преувеличено. Развитие русской философии настолько прочно связано с развитием немецкой, французской, а сейчас и американской философии, что спектр обсуждаемых в ней вопросов нельзя понять без знания названных традиций. Ведь сама идея автохтонного развития мысли, вырастающей из некоей почвы, — это тоже романтический миф, позаимствованный из Германии. И даже в советский период, при самом резком противостоянии идейных систем мы можем наблюдать, как основные тренды и моды советской мысли заимствуются из западной, вплоть до знаменитого спора физиков и лириков, который начинается у нас как раз после того, как на Западе отгремел «спор о позитивизме» и об отношении естественных и гуманитарных наук.
На мой взгляд, изучать русскую мысль только и интересно в таком поле интеллектуального обмена, который, кстати, почти всегда был обоюдным. Не только ведь русская мысль заимствовала из западной традиции. Интерес к русской мысли, например, в Германии на протяжении всего ХХ века был постоянный — от Макса Вебера, который добивался рецензирования сборника «Вехи» в своем журнале, до периода перестройки, когда мы наблюдали огромный всплеск интереса к гуманитарной мысли в России. То, что вы называете эффектом «отсутствия» русской мысли на мировой карте, — это ведь еще и следствие того, что и внутри России системы координат научного и интеллектуального признания разрушились, а новые все еще не возникли. Появляется соблазн сразу подключить эти системы к мировым, посредством рейтингов и индексов. Хотя для гуманитарной мысли, которая в значительно большей степени связана с национальным языком, это все равно невозможно.
А поскольку сейчас еще и мало переводов с русского, то этот эффект отсутствия усиливается. Русская мысль, как и русская литература, на Западе становится уделом русистов.
Однако помимо факта существует еще и идеология. И если по факту автаркия отсутствует, то тем сильнее заметна на этом фоне идеология самобытности, которая присутствует не только в политической риторике нынешнего режима. Я неоднократно встречал аспирантов, приезжающих из России заниматься философией и напичканных доверху этой идеологией самобытности, особого пути или цивилизационного превосходства России. А эта идеология вызывает, особенно в Германии, вполне объяснимые рвотные рефлексы. В результате, если раньше образ русского интеллектуала ассоциировался с советской идеологией, то сейчас он ассоциируется с псевдорелигиозной идеологией особого пути. И то и другое вызывает жуткий когнитивный диссонанс у представителей гуманитарного знания в Европе, потому что противоречит каким-то базовым принципам их идентичности.
— Современный молодой историк, защитивший докторат в Германии или во Франции, — это русский ученый, завоевывающий успех на Западе, или «немецкий» или «французский» историк русского происхождения? Кто он и почему?
— Это зависит от его тематических предпочтений. Вот про Александра Кожева все скажут, что это французский философ русского происхождения. Потому что он занимался философией, а не «русской философией», хотя и включал в свои исследования сюжеты из русских дискуссий. Или если вспомнить другой пример: Ханна Арендт, она какой философ — американский или немецкий? Этот вопрос интересен в лучшем случае для написания первой фразы в статье для философского словаря. Но если ваш молодой историк начинает свое исследование с догмы русской самобытности, то он никогда не станет «французским ученым русского происхождения». Впрочем, это уже Владимир Соловьев (философ) определил, сказав, что в так называемой «русской философии» все, что есть философского, — «нерусское», а все «русское» — нефилософское.
Между прочим, это и проблема определения предмета исследования в нашем Центре изучения русской интеллектуальной истории в Бохуме. Для меня это часть общей европейской интеллектуальной истории, которая разворачивается в среде русского языка и в силу процессов перевода и трансфера приобретает индивидуальную конфигурацию. Так называемая «русская специфика» — это прежде всего проблема перевода, а потом и интеллектуального контекста, в который этот перевод встраивается. Но это всегда вопрос, а не ответ на него: интересно исследовать, в чем состоят семантические, концептуальные и прочие различия, и есть ли они вообще, а не постулировать эти различия ссылками на некие мифические ментальности. Тем более что для западного взгляда русская культура слишком европейская. Если кого-то интересует «самобытность», он занимается более колоритными штудиями — Востоком или арабским миром. А в целом, в академической среде благодаря постколониальным исследованиям дискурс самобытности и представления о различных замкнутых культурах уже уходят в прошлое.
Что, однако, остается — это необходимость перевода русских текстов на немецкий или английский, потому что только так и можно формировать интерес к русской мысли за пределами узкого круга славистов. А Россия, кажется, еще не дошла до осознания того, что такого рода переводы можно и нужно финансово поддерживать. Вот, к примеру, собрание сочинений философа С.Л. Франка на немецком языке финансируется немецким Фондом Тиссена (только издательские расходы, а переводы и редактура — это все делается на общественных началах). Почему немецкий фонд финансирует издание русского философа? Потому что в России все теперь заняты борьбой с иностранными агентами.
А вы спрашиваете, автаркия усиливается или уменьшается!
— Не каждый появляющийся и на Западе ученый — «интеллектуал» по определению, не так ли? Но если речь пойдет о наших ученых, выезжающих на Запад, есть ли когорта особо приветствуемых фигур? Кроме того, есть ли здесь какие-то поколенческие или гендерные предпочтения? Будем считать, что проводим социологический анализ. Кого в большей степени выделяют, чье присутствие желанно?
— Действительно, не всякий ученый — интеллектуал по определению в том смысле, что это две разные роли.
— Абсолютно.
— Потому что интеллектуал — это действительно некий публичный деятель, который готов транслировать результаты своих научных исследований или размышлений в некую публичную сферу. В академическом сообществе, когда нужны какие-то специальные знания и исследования, интересуются молодыми учеными из России, которые уже не являются носителями советского менталитета со всеми его деформациями, но именно представителями нового поколения, имеющими опыт сотрудничества с западными учеными. Правда, в гуманитарной науке это касается в большей степени собственно сферы русистики. Гуманитарная наука из России вызывает сейчас интерес, как я говорил, лишь у специалистов по area studies. Конечно, есть замечательные специалисты, например по Шеллингу, как Петр Резвых, который наравне с другими шеллинговедами участвует в изданиях его текстов и проч. Но и в этом случае думаю, что в большей степени интерес к его работам вызван вопросами восприятия Шеллинга в России. Что касается интеллектуалов, то, конечно же, здесь в большей степени существует интерес к фигурам правозащитного дискурса, поскольку интеллектуалы — это уже не только функция, но и некоторый образ мысли, и этот образ мысли в Европе в последние десятилетия усилен именно этим направлением, то есть обсуждением вопросов прав человека и этическо-политической проблематики.
— В свое время такой интеллектуал мог быть вполне политизированным, если говорить о судьбе Льва Копелева и ему подобных фигур. Но сейчас? Насколько готовы принять русского политизированного интеллектуала, скажем, если он консерватор, а не демократ?
— Если он занимается не просто правозащитной деятельностью, а предлагает систему идей, полностью не вписывающуюся в господствующий тренд? Как-никак списки русских интеллектуалов, признанных на Западе, — это Гарри Каспаров, Евгения Чирикова, Борис Немцов, «Пусси Райот». Собственно, те, чей дискурс полностью вписан в экологический, правозащитный, гендерный мейнстрим.
— Мы все-таки об ученых говорим.
— А любой ученый никогда до конца, быть может, и не впишется во все тренды.
— Так и есть, потому что как ученый он может эти функции разводить, и даже по отношению к таким, я бы сказал, одиозным личностям, как Карл Шмитт, существует тенденция разводить его научное наследие и политические позиции в эпоху Третьего рейха. Кто-то говорит, что это невозможно, что Хайдеггер или Карл Шмитт велики или наоборот ничтожны именно в силу того, что их политическое и научное наследие слиты воедино. Но я, во-первых, так не считаю, а во-вторых, вижу, что существуют весьма продуктивные способы обращения к наследию Карла Шмитта, совершенно свободные от политических ресентиментов, и это мне кажется довольно продуктивной возможностью общения с такого рода наследием, весьма сомнительным в политическом отношении. Что же касается русских ученых, не вписанных в европейский правозащитный тренд, то я даже затрудняюсь ответить… О ком идет речь?
Есть интеллектуалы, не вписывающиеся в этот тренд. Например, Лимонов. Но его изучают как писателя, и, как правило, им занимаются слависты. Но как интеллектуала его вряд ли кто-то станет воспринимать. А, скажем, Дугиным занимаются только с точки зрения изучения каких-то патологий политического сознания. Я не встречал на Западе никого, кто воспринимал бы его как ученого. Им занимаются только как объектом исследования, его рассматривают только как симптом каких-то процессов, происходящих в России. Чтобы кого-то восприняли в качестве интеллектуала, он должен рассматриваться как субъект, как автор некоего послания, которое прозвучало в публичной сфере. Это важно. Вот «Пусси Райот» сразу были восприняты как авторы индивидуального послания. А Дугин — это лязг властных механизмов.
— А вы лично сталкивались с конкретными случаями ограничения возможности говорить на Западе, высказывать политические мнения? Насколько академический интеллектуал свободен в политическом суждении, если понимать его, например, в рамке Арендт?
— Любой академический работник в Германии, подписывая контракт на работу в университете, публично дает и скрепляет подписью торжественное обещание соблюдать Конституцию и законы ФРГ. Можно счесть это ограничением политического суждения. Но что здесь иметь в виду под политическим суждением? Если призыв к свержению государственного строя Германии, то да, это запрещено делать публично. Если же то, что касается вопросов университетской политики, а это с 60-х годов одна из областей политического, то я действительно не встречал ограничений и не думаю, что они возможны. В процессе перехода на Болонскую систему и дискуссии о реформе образования можно было наблюдать весь спектр позиций — от радикальных требований прекратить реформу и вернуться назад до самых лоялистских суждений по поводу государственной образовательной политики. Если и возникали ограничения, то в большинстве случаев имела место самоцензура. Даже в случае более сложных административных отношений в университетской политике никаких ограничений я не встречал. Напротив, есть многочисленные примеры обратного — того, что профессура нисколько не опасается высказывать совершенно свободно критику в адрес университетского или министерского начальства. В Германии это возможно благодаря статусу профессоров. Поскольку они являются государственными чиновниками, их невозможно уволить (только если они нарушают законы). Именно таким образом гарантируется свобода науки — никакая власть не имеет полномочий удалить неугодного профессора (школьные учителя, кстати, имеют тот же статус). В этом есть издержки эффективности, но, с точки зрения свободы науки, это важная гарантия, которая, правда, делает профессора в Германии представителем государственного истеблишмента, что было ярко видно в эпоху студенческих протестов.
В публичной сфере отношения более подвержены политическим веяниям, хотя и здесь гарантии свободы строго соблюдаются, в том числе и самим государством (которое борется против медийных монополий). Вам, наверное, известен случай писателя Петера Хандке, который поддержал Милошевича, выступал с критикой НАТО по поводу Югославии и в результате настолько выпал из публичного тренда, что даже возник протест по поводу присуждения ему крупной литературной премии города Дюссельдорфа. Тогда значительная группа интеллектуалов потребовала лишить Петера Хандке этой премии. Но даже и в этом случае речь шла не о каком-то законодательном или ином запрете, а о публичной критике, которая может быть сколь угодно жесткой. Притом и публичных защитников у Хандке было предостаточно, как справа, так и слева.
— Обратимся к России. Почему российское академическое сообщество вполне аполитично? Мы видим, как только сейчас, через 20 с лишним лет после освобождения, впервые предприняты попытки представителей академического сообщества говорить на политическом языке, отстаивая, скажем, права своих факультетов. Пока это все выходит плохо и неудачно. Попытки писем министрам в защиту закрываемых или сокращаемых институтов, факультетов, отделений — это все крайне наивный, примитивный в политике язык, в свою очередь, говорящий, что люди за период больше двадцатилетия вообще им не овладели. С чем это связано?
— Я думаю, что, прежде всего, это связано с совершенно чудовищной атомизацией сообщества. Собственно, упомянутая здесь Ханна Арендт понимала политическое именно как совместное действие. А вот этого как раз у нас никогда не было, поскольку та вертикальная структурированность сообщества, которая существовала в советское время и делала все зависящим от решения начальства, сыграла фатальную роль в смысле самозащиты, самосохранения сообщества, потому что сейчас только в связи с этими письмами возникает вопрос о том, что необходим реально работающий профсоюз работников высших учебных заведений, который бы отстаивал их интересы в спорах с министерской бюрократией и публично представлял бы их позицию.
— Не кажется ли вам, что они хотят отстаивать не интересы корпорации (профсоюз отстаивает всегда интересы корпорации как таковой), а какого-то абстрактного целого, условно называемого «наукой». Отстаивать интересы науки — что это значит?
— И насколько собственно профсоюз является действительно политическим агентом?
— Я не склонен рассматривать университетскую политику под углом зрения классовой борьбы, как это, скажем, воспринималось в 60-е годы. Но вот что странно: если мы посмотрим на структуру конфликта в России сейчас, то здесь выступают в качестве субъектов этого конфликта, с одной стороны, преподаватели, с другой стороны — министерские чиновники. Студенты же как субъект в нем отсутствуют.
— То есть они абсолютно аполитичны.
— А в 68-м году основная борьба происходила между студентами и профессурой, которая рассматривалась как часть государственной структуры и, собственно, ею и была. Не было конфликта между профессурой и министерскими чиновниками. Например, консервативный философ (хотя и член Социал-демократической партии) Герман Люббе в 68-м году был профессором политической философии в Бохумском университете, затем стал статс-секретарем министерства образования земли Северный Рейн-Вестфалия. Будучи резким критиком левых, он вынужден был испытать при этом страшное давление, говорят, даже вплоть до угроз об убийстве, именно со стороны троцкистских студенческих организаций, в результате чего он переехал (почти что эмигрировал) в Швейцарию. В сегодняшней России мы сталкиваемся с совершенно другой структурой конфликта. И это свидетельствует о том, что изменилась структура самопонимания университета, поскольку здесь происходит конфликт работодателей, а именно университетской и министерской бюрократии, с наемными рабочими, если говорить собственно в марксистских терминах, — то есть с профессурой. А студенты выступают в данном случае лишь как покупатели. У студентов нет сознания политического участия в этом конфликте, в отличие от периода конца 60-х, когда студенты требовали участия в управлении университетом и, в итоге, получили его.
— Жижек когда-то отметил, что в России профессора являются пролетариями.
— Получается, что мы все-таки, так или иначе, в эту классовую борьбу снова въезжаем.
— Но мы можем «въезжать» не в классовую борьбу, а в политический антагонизм, который успешно описывает Лакло. И если даже всего этого не происходит, не странно ли, что наше студенчество не встает горой за науку (говорю идеалистически), а готово участвовать в том, в чем его теперь с азартом обвиняют, — в подготовке революции, в тяготениях к «оранжевой чуме»? Почему в одном секторе политизированность студенчества существует, а в другом секторе, связанном с их судьбами, с карьерным ростом, с самосознанием, с психологией, они совершенно не выказывают инициативы в той степени, чтобы быть активистами?
— Я слабо знаю российское студенчество, чтобы здесь об этом высказываться, хотя действительно мне очень странно, что мы слышим о студенчестве даже не столько как о студенчестве, сколько о каких-то радикальных группировках, которые арестовывает ОМОН на каких-то несанкционированных мероприятиях, но голоса студенчества как субъекта в университетских вопросах я не слышал совершенно. Но это, на мой взгляд, тоже связано с проблемой атомизации. Потому что все эти советские структуры — студенческие советы, те же профсоюзы — были просто машиной государственной раздачи привилегий, пайков, доступа к властным полномочиям, а не способом самоорганизации студенчества и работников высшего образования. Но в этом и заключается проблема, которую я сейчас вижу, — проблема самоорганизации и самоуправления. Поэтому должна быть корпорация, профсоюз, назовем его так, потому что создавать политическую партию, которая борется за власть, я не вижу оснований и смысла. А вот создание профсоюза, который отстаивает интересы корпорации, действительно осмысленно, потому что он является представителем, неким субъектом переговоров с министерской бюрократией. Но тогда встает другой вопрос — ведь все говорят и отчасти справедливо: а вот как же так, там столько бездельников в этих вузах? Да, до сих пор на философском факультете сидит господин Косолапов, читает лекции о Сталине, и, в общем, я не готов солидаризоваться с господином Косолаповым и рассматривать его с содержательной точки зрения как ученого. Но, с другой стороны, если говорить о статусе, то, конечно, он относится скорее к представителям научной корпорации, а не министерской бюрократии, и это уже вопрос к корпорации, готова ли она терпеть в своих рядах таких людей, как Дугин, как Косолапов и прочие, которые, собственно, никакого отношения к науке не имеют.
— Позвольте, а что значит это витийское «не терпеть»: подвергать остракизму, изгонять из университетов или сжигать на кострах?
— Нет, не надо на кострах, просто надо жестче ставить вопрос о научной компетентности. По поводу того же Добренькова уже констатирован факт плагиата в учебниках, подписанных его именем, — группа на социологическом факультете давно уже это установила. Что из этого последовало? Ничего. Господин Добреньков продолжает быть деканом факультета, то есть принадлежать той же самой корпорации. Потому что если бы сообщество стало бы его игнорировать в том смысле, что его бы не рассматривали как члена научного сообщества, тогда, я думаю, возникли бы какие-то выводы из этой ситуации. Любая корпорация — и это знали уже Гегель с Вебером — объединена не только интересами, но и профессиональной этикой. Вот пивовары в Германии уже 500 лет блюдут «правило чистоты» — в пиво нельзя добавлять никаких посторонних примесей. И тот, кто его нарушает, подвергается санкциям не извне, а изнутри корпорации, т.к. нарушает принципы профессионального этоса. Вот и в научной корпорации должно быть свое «правило чистоты».
— Да, но если мы обращаемся к российскому академическому сообществу и к российскому академическому производству, то видим, что единственной собственно консенсусной парадигмой, простите за это выражение, является позитивизм. Он-то и есть единственное, что признано всеми без остатка гуманитариями. Необходимость фактографии, ссылок, чистоты т.н. научного аппарата. Так вот, это реальная научная парадигма или фикция, зонтичный бренд, под который подводят все, что угодно?
— На мой взгляд, позитивизм — это все-таки некое философское учение. Был в советское время такой термин — «ползучий эмпиризм» для обозначения направлений, оказавшихся неспособными подняться до уровня глобальных обобщений диамата с истматом. Для большинства гуманитарных наук это было даже почти достоинством — не заниматься вопросами теории в своих науках, потому что вся теория (марксистская, понятное дело) уже была создана без них. Результаты этого игнорирования мы видим сегодня, когда ученый, сопоставивший вместе два факта, уже считается глубоким теоретиком. У нас одни сплошные «кейсы», только нигде не видно того общего теоретического высказывания, которое эти кейсы иллюстрируют. Это одна сторона вопроса о позитивизме как этосе научности — отказ от всякой теории.
Но если под позитивизмом понимать необходимость корректно ссылаться на работы, которые цитируешь, не игнорировать чужие исследования и т.п., то ведь это элементарный критерий научной работы, которому учат (или должны учить) в первом семестре бакалавриата. Это просто некоторая научная гигиена, которая необходима на всех стадиях существования науки: на уровне написания студенческих работ, на уровне защиты диссертаций, на уровне уже книжных публикаций! А между тем, оказывается, что эту работу считают необходимой далеко не все. Потому что если мы сейчас начнем изучать степень плагиата в диссертационных исследованиях, и это уже, к счастью, начали делать в России не только ученые, но и журналисты, то, конечно, мы придем в ужас от той степени запущенности ситуации, и ни о каком позитивизме тут речи быть не может: просто не соблюдаются элементарные правила гигиены! И то же самое касается соблюдения авторского права при перепечатке текстов — все это не является нормой. Вот вам еще один «кейс»: в издании сочинений философа права Павла Новгородцева, которое мы с Модестом Колеровым подготовили в 1995 году, был опубликован перевод его немецкой статьи «О самобытных элементах русской философии права» (кстати, еще один достаточно печальный пример того, как даже у либерального философа может поехать крыша на почве «самобытности»). Так вот лет десять спустя я обнаружил массу перепечаток этой статьи, при том что никто ни разу не обратился ни к нам, ни к переводчику за разрешением на перепечатку.
— Это здесь, в России?
— Здесь, да, она была перепечатана в десятках весьма солидных антологий, по которым учатся студенты юридических и философских факультетов, не подозревающие, что изучают философию права по книгам, изданным с нарушениями авторского права. Да вот и совсем недавно, в солидной серии «Русские мыслители начала ХХ столетия» редактор книги об С.Л. Франке взял и перепечатал одну мою статью почти двадцатилетней давности о Франке и Хайдеггере, даже не спросив, а согласен ли я с перепечаткой, хочу ли внести исправления или изменения в текст (об этом я написал в «Логосе» № 4 за 2012 г.). Все эти нормы — просто гигиена, как чистить зубы по утрам. Если вы хотите это назвать позитивизмом, то я убежденный позитивист.
— На каких основаниях принимают в гуманитарное академическое сообщество в России?
— Ну, это сложный вопрос, поскольку этот процесс постоянно находится в движении. Сообщество здесь играет огромную и значительную роль, даже в существенно большей степени, чем в той же германской системе, которая на Западе считается феодальной, потому что там, как правило, всегда передается власть и преемственность от учителя к ученику и учителя пытаются своих учеников оставить на хороших позициях. Но даже при том что эту систему называют феодальной, я могу сказать, что в России она еще на порядки более феодальная, так как здесь вопрос о конкурсах на замещение вакансий не ставится: эти вопросы решаются внутри факультета, кафедры и т.д. И, соответственно, вопрос институционального вхождения в науку — это вопрос сугубо личных контактов. При том что это даже не рассматривается как некое зло, а считается даже в некотором смысле добродетелью: как, я воспитал ученика такого-то — разумеется, я его должен брать к себе на кафедру в качестве сотрудника и договориться с каким-то деканом, чтобы там его тоже взяли на соседнюю кафедру. Поэтому вопрос публичного конкурса даже не встает, вообще формально они вроде бы должны существовать, но насколько они существуют в реальности, не знаю, я, по крайней мере, ничего об этом не слышал.
— Я тоже ни разу не слышал.
— Например, в Германии, при всей ее феодальной системе, все профессорские вакансии публикуются в центральных газетах, и если открыть еженедельник Die Zeit, там каждую неделю на целой странице публикуются академические вакансии (доцентов, профессоров и др.). И каждый, кто соответствует требуемым условиям (наличие защиты второй диссертации, тематика публикаций, список работ), имеет право подавать документы на этот конкурс. И, в общем, действительно не факт, что обязательно берут «своих», как часто на это жалуются конкуренты избранного кандидата. Как раз такое происходит редко.
— В России есть еще одно крайне интересное явление! Это академические династии.
— Да, это тоже, но это фактор, который существует еще с XIX века, со времен Соловьева и Ключевского, кто-то из историков мне рассказывал об этом даже с гордостью…
— Соловьев, сын Соловьева.
— Да, это именно так, что он практически правнук или праправнук Ключевского по кафедре русской истории. Что мы можем тут сказать? Тот учился у этого, значит, стал учеником, ученик — его преемником по кафедре, потом дальше — его ученик и т.д., то есть это действительно династия, которая и занимала 100 лет кафедру русской истории и гордится тем, что осталась привержена методологическому сознанию столетней давности. Это как в царских династиях, которые вынуждены были заключать династические браки — один и тот же генетический пул, со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде увеличения числа генетических болезней и проч.
— Но и еще одна вещь. В России существует, по крайней мере, три парадигмальных паттерна — это либо продолжение старой советской модели исторических штудий, либо институционализация новых наук, появившихся с 91-го года, типа культурологии, обществоведения и бесчисленных лженаук, вплоть до «акмеологии». Я как-то шел мимо одного вуза, и там был объявлен прием на специалистов «акмеологии», то есть науки, изучающей вершинное состояние разных процессов. Значит, акмеология уже институализирована, можно созывать советы по «акмеологии», «коммуникатологии» и т.д. И, наконец, последнее: то, что у нас называют «ботать по Дерриде», т.е. быть эпигоном наиболее модных западных течений. Какой из этих трех паттернов может стать консенсусным в российской гуманитарной науке?
— Эти изменения я бы попробовал описать, сказав, что в такой замкнутой и малоподвижной академической системе — и это, кстати, действительно можно сравнить с Германией, только в России она еще более замкнутая — время от времени, каждые, условно говоря, пятнадцать-двадцать лет возникает жуткая пробка — такая, как на Ленинградском проспекте.
— Тромб.
— Тромб, да. Возникают тромбы, которые приводят к тому, что появляется огромное количество специалистов высокого класса, не имеющих возможность получить прочное место в науке. Такая ситуация, кстати, уже имела место в России. Скажем, революция 1917-го года — это, можно сказать, революция приват-доцентов. На тот момент существовало гигантское количество приват-доцентов, философ Моисей Рубинштейн (сам приват-доцент) называл их «пасынками университета». Это были люди с западным образованием, защищавшие диссертации в Германии, которые, полные замыслов, возвращались в Россию и не могли получить никакого прочного академического статуса, потому что, например, все три кафедры философии в Московском, Санкт-Петербургском и Киевском университетах на 50 лет пожизненно были заняты Лопатиным или Введенским, а у более молодого поколения никаких возможностей занять эти академические позиции не было. И вот в революцию возникают новые университеты. Тот же Рубинштейн поехал — это совершенно потрясающая история! — летом 1918 года создавать Иркутский университет, имея мандат от советской власти. А когда он приехал в Иркутск, там уже был Колчак, и оказалось, что какой-то ординарец Колчака был студентом у Рубинштейна в Московском университете. И тогда Рубинштейн засунул свой мандат от Ленина или Троцкого глубоко в карман и получил новый мандат от Колчака на создание Иркутского университета. Потом Колчака прогнали, Рубинштейн достал снова мандат Ленина и т.д. Довольно захватывающая история, она описана в двухтомнике сочинений Рубинштейна, который издал Анашвили под моей редакцией. Я ее вспомнил в связи с тем, что регулярно возникает институциональная потребность преодолеть эти тромбы. Появление разных новых дисциплин — это одна из таких попыток преодолеть институциональные тромбы в виде создания более разветвленной системы дисциплин.
— Чтобы всем кафедры достались.
— Да, чтобы каждому приват-доценту дать по кафедре. Аналогичная ситуация произошла в Германии, когда первая послевоенная реформа высшего образования 60-х годов привела к созданию десятков новых университетов. Как шутили тогда в Рурской области: на каждой остановке электрички по университету. Здесь были созданы университеты в Дюссельдорфе, Эссене, Бохуме, Дортмунде, и, кстати тоже, как в и первые постсоветские годы, некоторые из них — это были преобразованные в университеты педвузы.
— То есть на каждой остановке междугороднего трамвая.
— Да, электричка здесь называется S—bahn.
— Трамвай, собственно.
— Да, трамвай. Этот тромб преодолели, следовательно, за счет увеличения числа университетов (как в России в 1917 году). Но через 20 лет, то есть в конце 80-х годов, он здесь снова возник, потому что эта система негибкая: число ставок было заморожено на уровне конца 70-х, а за это время увеличилось не только число студентов, но также и количество претендентов на академические позиции. Тут, к счастью для (западногерманского) академического сообщества, произошло объединение Германии, и вся накопившаяся приват-доцентура, естественно, отправилась в Восточную Германию занимать там кафедры, которые как раз очистили от марксистов. Это приводило к многочисленным конфликтам между восточными и западными немцами, притом что, объективно, конечно, эти безработные приват-доценты были в большинстве своем на порядки выше по научному качеству.
— Везде свет просвещения?
— Кто-то это расценил, наоборот, как «сумерки культуры», и недостатка в критиках этого процесса не было. Но проблема все равно остается: как преодолевать возникающие институциональные тромбы, не уничтожая критерии научности и не уничтожая собственно самой дисциплинарной структуры науки. То есть если мы вводим уфологию как предмет, то, конечно, мы можем создать еще несколько кафедр уфологии и на философском факультете МГУ ввести отделение или в РГГУ сделать факультет уфологии, но это уже, понимаете, за гранью научно допустимого, то есть, конечно, кафедру мы создали, но критерии научности у нас разрушились.
— Третья парадигма — это уже совсем молоденькие приват-доценты, выступающие, наоборот, за то, чтобы отменить эту великую культурологию и ввести, допустим, cultural studies.
— Здесь уже начинается конкуренция программ, а это нормальный процесс. Недавно я принял участие в обмене мнениями по поводу первого русского журнала «Логос», возникшего в 1910 году. Там была аналогичная ситуация: появилась некая группа молодых ученых, действительно не имеющих, говоря современным языком, академических позиций или ставок. И эти молодые доктора философии, защитившиеся в Германии, вроде Сергея Гессена, пытались предложить новую программу исследований, новую парадигму: использовать неокантианскую систему философии в качестве основной парадигмы научности. Хотя, надо сказать, к 1910 году перевели на русский язык уже всех неокантианцев или, по крайней мере, их основные труды, то есть на самом деле это не было содержательной новацией, а была, скорее, конкуренция парадигм: новая парадигма состояла в том, что нужно отказаться от традиционных историко-философских комментаторских работ, штудий Платона и проч. и действительно внести в академическую науку какую-то новую философскую струю систематического исследования. Я думаю, что попытки ввести в гуманитарную науку все эти cultural studies, постколониальные исследования, гендерные исследования — это попытки парадигмальных обновлений, с которыми будут связаны и институциональные изменения. Я считаю, что консенсус должен существовать на уровне организации процедуры, например, замещения вакансии на должность заведующего кафедрой, а в смысле содержательном, то есть концептуальном, никакого консенсуса быть не должно, и, собственно, он и не нужен. Должны быть дерридианцы, которых неопозитивисты должны критиковать и подвергать ожесточеннейшей критике, и именно благодаря внутриинституциональной конкуренции, собственно, и происходит развитие науки. Скажем, в Германии сейчас можно наблюдать, что практически полностью исчезает классическая феноменология, даже в таких центрах феноменологической философии, как Бохум или Вупперталь, Кельн или Фрейбург. Ну, в Кельне остался архив Гуссерля, поэтому там продолжают заниматься ортодоксальным гуссерлианством, а в Бохуме, например, уже не осталось почти никого, кто бы мог провести семинар по Гуссерлю. Все это как раз и свидетельствует о том, что в результате конкуренции нынешних программ что-то вытесняется, что-то модифицируется, что-то трансформируется, то есть возникают какие-то новые направления исследования. На самом деле, не должно быть ситуации, что если я дерридианец и я дорвался до власти, то я имею возможность захватить все кафедры гуманитарных наук или культурологии. Подобной ситуации нельзя допускать, потому что консенсус должен быть на институциональном уровне, чтобы для всех существовали равные правила доступа, будь ты дерридианец, попперианец, карнапианец или витгенштейнианец. Это и есть институциональная предпосылка плюрализма научных программ.
И только в рамках такого «республиканского» устройства науки и удастся преодолеть ситуацию, что изучение неокантианства произвольно заканчивается условным 1914 годом, а все остальное развитие неокантианства (а, между прочим, последние представители неокантианства в Германии работали еще в конце 1960х годов) игнорируется.
— Эта тема все-таки сложнее, поскольку если возникает новая научная программа, то да, мы готовы с нею мириться. Но если на российской почве возникает имитация то дерридианства, то историографического постмодернизма, то не формируется ли консенсус на зыбких основаниях?
— Кто-нибудь выпустит несколько рецензий. Вот Александр пишет регулярно рецензии, в том числе и критические, насколько я помню.
— Да, но что делать с общенаучной работой: научные революции, как бы они ни были просты или сложны, предполагают соотнесение с реальностью, а не с иллюзиями.
— Да, но на самом-то деле кто-нибудь занимается критической работой, так сказать, отбраковки или?..
— В том-то и дело, что на кафедрах никто. Занимаются этим журналисты, заниматься этим стал бы «НЛО». Но, скажем, не философский факультет МГУ.
— Об этом и речь. Вот я и говорю, что российское сообщество не самоорганизовано, потому что кто может еще заявить о научном несоответствии? Министерский чиновник не может отличить истинное дерридианство от ложного дерридианства, у него нет критериев для этого. Самая-то проблема и заключается в том, что чиновники пытаются с помощью каких-то сугубо формальных критериев, вроде числа грантов или публикаций на Западе, отличить истинную науку от ложной и сказать, что мы финансируем только истинную науку, а ложную науку мы не финансируем. Но это же смешно, в гуманитарных науках, да и не только в них, только член сообщества может отличить и сказать: слушайте, ваше дерридианство — это просто туфта, и написать об этом публично, и тогда все увидят, что автор пишет про Деррида, а не знает французского языка или переводит все с китайского. Но для этого нужна какая-то внутринаучная конкуренция, начинающаяся уже на уровне открытого обсуждения качества переводов.
— Кстати, перевод Деррида с английского на русский существует.
— Я помню, что когда я какое-то время работал в журнале «Вопросы философии» в середине 90-х, нас заваливали такими переводами Гуссерля с английского или с испанского. Мы их сразу выбрасывали в корзину, потому что нужно соблюдать какие-то критерии научности в том, что касается переводов, издания архивных текстов или научных исследований. Нужно говорить об этом открыто. Ведь кто-то же должен сказать: слушайте, а король-то голый! Да, конечно, это болезненно, это порождает конфликты, ну а как же иначе? В научной корпорации к принципам корпоративности должны относиться и научные критерии. А политика «не трогать своих», эта установка «не выносить сор из избы» мне кажется глубоко порочной: дескать, мы все друзья (а некоторые даже и родственники), а наши враги — всегда другие. Политики, министерские чиновники, «Власть» и т.п. Но среди друзей тоже попадаются шарлатаны, и это как-то нужно озвучивать.
Беседовали Ирина Чечель и Александр Марков




Комментарии