Линда Хатчеон
Историографическая метапроза: Пародийность и интертекстуальность истории
Линду Хатчеон не стоит особо представлять, как не представляют других классиков postmodern studies. Оттолкнемся сегодня лишь от одного ее тезиса: «Пародировать — не значит разрушать прошлое; фактически, пародировать — значит, с одной стороны, хранить прошлое и, с другой, подвергать его сомнению».
 15 754
15 754 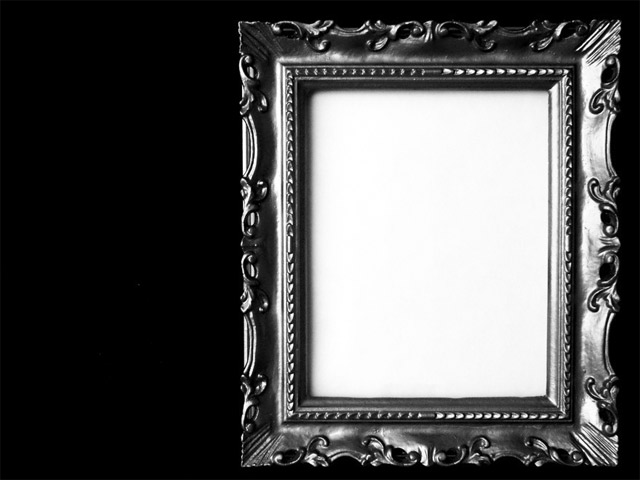
© Reilly Butler
Гораздо важнее интерпретировать интерпретации, чем интерпретировать вещи, и гораздо важнее книги о книгах, чем книги о каком-то другом предмете; наше занятие — перекрестные пояснения.
Монтень
Границы книги никогда до конца неясны: за пределами титульного листа, первых строк и последней точки, за пределами внутренней конфигурации и ее автономной формы легко заметить систему отсылок к другим книгам, другим текстам, другим высказываниям — книга есть только узел внутри сети.
Фуко
Литература постмодернизма, в том смысле, в котором мы ее сегодня понимаем, обычно характеризуется сильной саморефлексивностью и откровенно пародийной интертекстуальностью. Когда говорят о постмодернистской прозе, обычно имеют в виду метапрозу, и, в силу отсутствия четких определений этого неоднозначного периода, такое отождествление принимается, как правило, безоговорочно. Мне хотелось бы показать, что для уточнения этого определения к нему необходимо кое-что добавить: столь же неопределенное историческое измерение. На эту мысль меня навел пример из прошлого постмодернистской архитектуры, которая является открытым пародийным вызовом истории архитектурных форм и функций. Тема Венецианской Биеннале 1980 года, привнесшей постмодернизм в мир архитектуры, звучала как «Присутствие Прошлого». В литературе, по аналогии, термин «постмодернизм» следует применять для того, чтобы подчеркнуть двойственный характер метапрозы — метахудожественный, с одной стороны, и исторический (поскольку она содержит в себе отголоски текстов и контекстов прошлого) — с другой. Для того чтобы не путать этого парадоксального «монстра» с традиционной исторической литературой, я буду называть его «историографической метапрозой». В число романов, которые я причисляю к этому жанру, входят такие произведения, как «Сто лет одиночества», «Рэгтайм», «Женщина французского лейтенанта» и «Имя розы». Все это популярные и всем знакомые романы, чья метахудожественная саморефлексивность (и интертекстуальность) делает их претензии на историческую достоверность, как минимум, сомнительными.
На волне последних нападок литературной и философской теории на формалистскую замкнутость модернизма, постмодернистская, в частности американская, литература стремится открыть себя для истории, для того, что Эдвард Саид называет «миром». Но, судя по всему, это предприятие в итоге оказалось далеко не безобидным: с некоторых пор стало невозможным с уверенностью говорить о жанровой принадлежности того или иного произведения к исторической прозе или даже к нон-фикшну. В утверждении Борхеса о том, что литература и мир являются в равной степени вымышленными реальностями, также подразумевается самореферентность. Постмодернистские отношения между литературой и историей являются сложным комплексом взаимодействия и взаимопроникновения. Историографическая метапроза стремится поместить себя в рамки исторического дискурса без потери своей автономности как фикшна. Обеих целей помогает достичь что-то вроде серьезно-иронической пародии: исторические и литературные интертексты приобретают схожий (хотя и не тождественный) статус в пародийной переработке текстуального прошлого как «мира», так и литературы. Текстуальное объединение этих интертекстуальных срезов прошлого как конституирующий структурный элемент постмодернистского фикшна выступает в качестве формального признака историчности — как литературы, так и «мира». На первый взгляд может показаться, что от средневековой и ренессансной имитации (см. Green 17) постмодернистскую пародийность отличает лишь постоянное ироничное оповещение о различиях в самом сердце сходства. У Данте, считает Э.-Л. Доктороу, как литературные, так и исторические тексты являются ясным и последовательным отражением действительности.
Отличие все же не так однозначно: «По традиции сюжеты или воровались (Чосер, например, заимствовал свой сюжет); или воспринимались как общее культурное достояние… Эти выдающиеся события, вымышленные или реальные, находятся (как и положено истории) за рамками собственного языка, в сфере абсолютной случайности» (Glass 147). Сегодня наблюдается возвращение к идее «общественной собственности» на дискурс, которая выражается во внедрении в прозу литературных и исторических текстов. Данное возвращение, однако, стало сомнительным из-за откровенно метахудожественных претензий истории и литературы, которые, как и человеческие иллюзии, неизбежны, но от того не менее обманчивы. Интертекстуальная пародийность историографической метапрозы во многом соответствует воззрениям определенных современных ей историографов (см. Canary и Kozicky): она предлагает читателю ощущение присутствия в прошлом, но это такое прошлое, о котором можно составить представление исключительно на основании исторических или литературных текстов о нем.
Таким образом, то, что я называю постмодернизом, является парадоксальным культурным феноменом, который эксплуатируется в рамках многих традиционных дисциплин. В современном теоретическом дискурсе, например, мы находим сбивающие с толку противоречия: уверенные отказы от уверенности, тотальное отрицание тотальности, непрерывное подтверждение прерывности. В постмодернистском романе употребление жанровых конвенций прозы и историографии превращается в злоупотребление ими: нормы одновременно принимаются и отвергаются, утверждаются и отрицаются. Двойственная (литературная/историческая) природа этой интертекстуальной пародийности является одним из важнейших средств, с помощью которых эта парадоксальная (и определяющая) природа постмодернизма вписывается в текст. Возможно, одна из причин дебатов по поводу определения постмодернизма заключается в том, что сущностная двойственность этого пародийного процесса до сих пор не была исследована в полной мере. О таких романах, как «Книга Даниила» или «Публичное сожжение» — каким бы ни было их сложное интертекстуальное наслоение, — можно с уверенностью утверждать, что им не чужда история, социальная реальность (см. Graff 209) или политика (см. Eagleton 61). Историографическая метапроза смогла удовлетворить эту жажду «мирского», житейского основания, в то же время, сомневаясь в его значимости. Начиная с Дэвида Лоджа, постмодернизм сокращает разрыв между текстом и миром (239–240).
Дискуссии по поводу постмодернизма угрожают впасть во внутренние противоречия, в силу, возможно, парадоксальной природы своего предмета. Чарльз Ньюман, например, начинает свою провокационную работу The Post—Modern Aura с того, что определяет искусство постмодернизма как «комментарий к эстетической истории всякого жанра, на который оно распространяется» (44). Таким образом, это такое искусство, которое воспринимает историю исключительно в эстетических терминах (57). Однако, разрабатывая американскую версию постмодернизма, он отказывается от этого метахудожественного интертекстуального определения, называя американскую литературу «литературой без основы», «литературой с отсутствующим прошлым», страдающей от «тревоги, вызванной отсутствием влияния предшественников» (87). Как мы увидим дальше, по итогам исследования романов Тони Моррисона, Э.Л. Доктороу, Джона Барта, Исмаэля Рида, Томаса Пинчона возникают серьезные сомнения по поводу справедливости таких заявлений. С одной стороны, Ньюман утверждает, что, в целом, постмодернизм радикально пародиен; с другой — доказывает, что американский постмодернизм намеренно устанавливает «дистанцию между собой и своими литературными предшественниками на случай, если угрызения совести заставят порвать с прошлым» (172). Ньюман не одинок в своих взглядах на постмодернистскую пародийность как на форму ироничного разрыва с историей (см. Thiher 214), но, как и в случае с постмодернистской архитектурой, мы имеем дело с сущностной парадоксальностью этого «пост»: действительно, ирония ослабляет связи с прошлым, однако интертекстуальные отголоски текстуально и герменевтически восстанавливают эту связь.
Если под прошлым подразумевается литературный период, называемый сейчас модернизмом, то объектом одновременного утверждения и опровержения является идея, согласно которой произведение искусства является закрытым, самостоятельным, автономным объектом, чья целостность представляет собой формальную взаимосвязь частей. В характерной попытке сохранить эстетическую автономию, в то же время, обращая текст к «миру», постмодернизм одновременно утверждает и обесценивает этот формалистский взгляд. Но это совершенно необязательно влечет за собой поворот к миру «обыденной реальности», как некоторые утверждают (Kern 216); «мир», которому принадлежит текст, является «миром» дискурса, «миром» текстов и интертекстов. Этот «мир» имеет прямую связь с миром эмпирической реальности, которая, впрочем, не является эмпирической реальностью самой по себе. Существует и современный критический трюизм, согласно которому реализм — это в действительности всего лишь набор конвенций, и репрезентация реального не является собственно реальным. Историографическая метапроза подвергает сомнению и наивные реалистические концепции репрезентации, и столь же наивные формалистские утверждения о тотальном отрыве искусства от мира. Постмодерн — это скромное искусство «в архиве» (Foucault 92), и этот архив является в одинаковой степени историческим и литературным.
Глядя на произведения таких писателей, как Карлос Фуэнтес, Салман Рушди, Д.М. Томас, Джон Фаулз, Умберто Эко, а также на сочинения Роберта Кувера, Э.Л. Доктороу, Джона Барта, Джозефа Хеллера, Исмаэля Рида и других американских романистов, трудно понять, почему критики, Аллен Тиэр например, «не могут сегодня представить себе таких интертекстуальных оснований», как в случае Данте и Вергилия (189). Неужели мы действительно наблюдаем кризис веры в «возможность исторической культуры» (189)? Был ли такой период, когда этого кризиса не было? Пародировать — не значит разрушать прошлое; фактически, пародировать — значит, с одной стороны, хранить прошлое и, с другой — подвергать его сомнению. Это и есть парадокс постмодернизма.
Теоретическое исследование «нескончаемого диалога» (Calinesku 169) между литературными и историческими сюжетами, которые конфигурируют постмодернизм, стало возможным в том числе благодаря переработке Юлией Кристевой идей Бахтина: полифонии, диалогизма и гетероглоссии — разнообразных способов звучания текста. На основании этих идей она развила более строгую формалистскую теорию бесконечной множественности текстов внутри и за рамками определенного текста, тем самым перемещая основной фокус от идеи субъекта (здесь — автора) к идее текстуальной продуктивности. Кристева и ее коллеги по журналу Tel Quel в конце 1960-х — начале 1970-х начали коллективное наступление на «автономного и основополагающего субъекта» (словосочетание, используемое в качестве «романтического» клише для автора) как исходный и порождающий источник неизменных и фетишизированных смыслов в тексте. И, конечно, также ставится под вопрос сама идея «текста» как автономной сущности, обладающей имманентным смыслом.
В Америке похожий формалистский импульс спровоцировал аналогичную атаку намного раньше в форме Нового Отказа от «намеренного заблуждения» (Wimsatt). Тем не менее, даже несмотря на то что мы не можем больше спокойно говорить об авторах (а также источниках и влияниях), нам все еще необходим критический язык, с помощью которого можно обсуждать эту двусмысленную пародийность целых жанров и отдельных работ, эти ироничные аллюзии, эти реконтекстуализированные цитаты, которые пролиферируют в текстах модерна и постмодерна. В этом вопросе концепция интертекстуальности оказалась наиболее полезной. Как было позже обозначено Роланом Бартом (Ιmage 160) и Майклом Риффатером (142–143), интертекстуальность бросает вызов отношениям формата «автор/текст», замещая его форматом «текст/читатель», который помещает смыслы текста в пределы истории самого дискурса. Литературное произведение больше не может рассматриваться как уникальное; даже если бы оно было таковым, для читателя это не имеет никакого значения. Произведение становится всего лишь частью того исходного дискурса, из которого любой текст черпает смысл.
Неудивительно, что это теоретическое переопределение эстетической ценности совпало с качественным изменением производимого искусства. Постмодернистский пародийный композитор Джордж Рохберг во вкладыше к виртуозной записи своего струнного квартета № 3 формулирует это изменение следующим образом: «Я должен отказаться от идеи “уникальности”, которая подразумевает, что стиль художника и его эго являются высшими ценностями; которая предполагает определяющую для эстетики искусства ХХ века погоню за уникальной идеей, одномерностью произведения; новая идея состоит в том, что необходимо отделить себя от прошлого».
Такая же тенденция прослеживается и в визуальных искусствах. Такие авторы, как Сюсаку Аракава, Ларри Риверс, Том Вессельман и другие, с помощью пародийной интертекстуальности (как эстетической, так и исторической) своих работ первыми отказались от всяких «романтических» представлений о субъективности и креативности. Так же как и историографическая метапроза, эти художественные формы парадоксальным образом предполагают ссылки на интертексты как «мира», так и искусства и, таким образом, отстаивают те границы, которые многие беспрекословно нарушили бы. Наиболее сильная формулировка результата такой борьбы за границы звучит как «разрыв с каждым контекстом, порождение бесконечного множества новых контекстов методами, не знающими границ» (Derrida 185). Хотя и нельзя сказать, что постмодернизм в том смысле, в котором я его здесь определяю, распространяется случайным образом, в то же время идея пародийности как расширения границ текста является очень важной: среди тех многих вещей, которым постмодернистская интертекстуальность бросает вызов, встречаются как непроницаемые кластеры, так и отдельные централизованные смыслы. Добровольная и умышленная условность интертекстуальности во многом опирается на признание неизбежного текстуального проникновения предшествующих дискурсивных практик. Типично противоречивая, интертекстуальность в постмодернистском искусстве, с одной стороны, предоставляет, с другой — подрывает контекст. Как выразился Винсент В. Лейч, она постулирует одновременно и децентрализованное историческое отгораживание, и предельно размытые основания языка и текстуальности; таким образом, она подрывает всю контекстуализацию как ограниченную и ограничивающую, деспотичную и сковывающую, корыстную и авторитарную, теологическую и политическую. Однако, как бы парадоксально это ни звучало, интертекстуальность предлагает освободительный детерминизм (162).
Теперь, пожалуй, стало понятнее, почему всегда считалось, что употреблять термин «интертекстуальность» в критике — это значит не только выгодно использовать один из лучших концептуальных инструментов: это также говорит о том, что «сама занятая позиция есть поле референции» (prise de position, un champ de référence) (Angenot 122). Но полезность интертекстуальности как теоретического каркаса является одновременно формалистской и герменевтической и очевидно связана, некоторым образом, с историографической метапрозой, которая требует от читателя не только распознавания текстуализированных отголосков литературного и исторического прошлого, но также и интерес к тому, как ирония работает с этими отголосками. Читатель вынужден признать не только то, что наши представления о прошлом основаны на текстах, но также ценность и ограниченность этой неизбежно дискурсивной формы знания, расположенной «между присутствием и отсутствием» (Barilli). Марко Поло из произведения Кальвино «Незримые города» одновременно является и не является историческим Марко Поло. Как мы можем сегодня «узнать» об итальянском исследователе? Только с помощью текстов о нем (Il Milone), из которых Кальвино пародийно заимствует структуру повествования, сюжет о путешествии и описания его характера (Musarra 141).
Ролан Барт однажды определил интертекст как «невозможность жизни за пределами бесконечного текста» (Pleasure 36), таким образом, превратив интертекстуальность в само условие текстуальности. Когда Умберто Эко писал роман «Имя розы», он утверждал, что «обнаружил, что писатели всегда знали (и повторяли нам снова и снова): книги всегда говорят о других книгах и каждая история рассказывает историю, которая уже была рассказана» (20). Истории, которые пересказываются в романе «Имя розы», являются в одинаковой степени литературными (взятыми, среди прочих, у Артура Конан Дойля, Хорхе Луи Борхеса, Джеймса Джойса, Томаса Манна, Т.-С. Элиота) и историческими (средневековые хроники, религиозные свидетельства). В этом заключается парадоксальная двойственность дискурса постмодернистской интертекстуальности. Однако он представляет собой не только сосредоточенные на себе формы эстетизма: теоретический смысл такого рода историографической метапрозы соответствует недавней историографической теории о сущности исторического документа как описания (а не репрезентации) прошлого и о сущности архива как текстового остатка истории (см. White. The Question).
Другими словами, действительно, постмодернизм провозглашает определенную интроверсию, зацикленную на самом акте письма; но в то же время он представляет собой нечто большее. Нельзя сказать, что он заходит настолько далеко, чтобы «устанавливать явные литературные связи с реальным миром за пределами самого себя», как некоторые утверждают (Kirernidjian 238). Это слишком сильное заявление, хотя отношения постмодернизма с «миром» все еще находятся на уровне дискурса. В конце концов мы можем только «знать» (не «переживать») мир через тексты (прошлые и настоящие) о нем, c точки зрения постмодернизма. Настоящее, как и прошлое, всегда дается нам как уже безнадежно текстуализированное (Belsey 46), и эта очевидная интертексуальность историографической метапрозы служит одним из текстуальных сигналов реализации постмодерна.
Читателям таких романов, как «Бойня № 5» Курта Воннегута, не нужно далеко ходить за этими сигналами. Автор уже на титульном листе книги определен как «американец немецкого происхождения (четвертое поколение), который сейчас живет в прекрасных условиях на мысе Код (и слишком много курит), очень давно он был американским пехотинцем (нестроевой службы) и, попав в плен, стал свидетелем бомбардировки немецкого города Дрездена (“Флоренции на Эльбе”) и может об этом рассказать, потому что выжил. Этот роман отчасти написан в слегка телеграфически-шизофреническом стиле, как пишут на планете Тральфамадор, откуда появляются летающие блюдца. Мир». Персонаж романа пытается стереть свои воспоминания о войне и о Дрездене, разрушение которого он наблюдал со скотобойни № 5, где, будучи пленником, работал. Сам роман начинается словами: «Почти все это произошло на самом деле. Во всяком случае, про войну тут почти все правда». В этот исторический контекст помещен Билли Пилигрим, оптометрист, человек, корректирующий зрение, — включая свое собственное, которое, однако, нуждается в планете Тралфамадор как источнике нового взгляда на мир. Воображаемая жизнь Билли разворачивается как аллегория на некоторые вещи из жизни самого автора (например, на его собственные романы), которые раньше мешали ему писать о Дрездене, и интратексты романа сигнализируют об этой аллегории: сам Трафальмадор взят из произведения «Сирены Титана» самого Воннегута, дом Билли в Илиуме — из «Механического пианино», встречаются персонажи из таких произведений, как «Мать тьма», «Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер». Интертексты, происхождение которых столь же двойственно, функционируют похожим образом: подлинные исторические интертексты (документальные источники о событиях в Дрездене и т.д.) смешаны с интертекстами исторической прозы (Stephen Crane, Celine). Также имеют место структурно и тематически связанные аллюзии: от «Путешествия на Восток» Германа Гессе до разнообразных произведений научной фантастики. Интертексты популярного и высокого искусства смешиваются: «Долина кукол» пересекается со стихами Уильяма Блэйка и Теодора Ретке. Контекст обретается заново с тем, чтобы бросить вызов империалистическому (культурному и политическому) менталитету, который стал причиной дрезденских и других похожих событий в истории. В романе «V.» Томаса Пинчона используются двойственные интертексты в аналогично «перегруженной» манере для того, чтобы формально ввести в дискурс близкую автору тему энтропийной деструктивности человечества. Досье Стенсила, содержащее фрагменты исторических текстов, является смесью литературных интертекстов, будто бы напоминающей нам, что «больше не существует единственной “истины” по поводу истории и опыта — существуют лишь разные версии: истина всегда доходит до нас в виде трафаретного рисунка». Она всегда множественна, как идентичность V.
Патрисия Во отмечает, что метапроза, представленная такими произведениями, как «Бойня № 5» и «Публичное сожжение», «предполагает не только то, что писаная история является художественным явлением, упорядочивающим события концептуально, через язык, с целью сформировать модель мира, но также и то, что в саму историю, как и в прозу, вложены взаимосвязанные сюжеты, которые, по всей видимости, взаимодействуют независимо от человеческих замыслов» (48–49). Историографическая метапроза оказывается, таким образом, двойственной постольку, поскольку одновременно вписывается в исторические и литературные интертексты. Присущие ей частные и общие обращения к форме и содержанию истории нацелены на то, чтобы сделать непривычное привычным через (привычные) нарративные структуры (как утверждал Гайдн Уайт [The Historical Text. P. 49–50]), тогда как метахудожественная саморефлексивность не дает этого сделать.
Причина же схожести заключается в том, что и реальный, и воображаемый миры доходят до нас путем их собственной переоценки себя, через свои собственные отголоски, через тексты. Онтологическая линия между историческим прошлым и литературой не стерта (см. Thier 190), напротив — она ярко выражена. Прошлое действительно существовало, но сегодня мы можем всего лишь «знать» об этом прошлом через тексты о нем, в чем и заключается его связь с литературой. Если историческая наука утратила свой привилегированный статус поставщика истины, тем лучше, с точки зрения этой современной историографической теории: потеря иллюзии ясности в историческом документе является шагом навстречу интеллектуальному самосознанию, которое сопровождается вызовами, которые метапроза бросает предполагаемой прозрачности языка текстов реализма.
Когда постмодернизм критикуют за а-историчность (как это делают Иглтон, Джеймисон и Ньюман), сразу становится непонятным, что имеется в виду под «постмодерном». Историографическая метапроза, как и постмодернистская архитектура и искусство, безусловно, исторична — хотя стоит признать, что ироничность и сомнительность этой историчности свидетельствуют о том, что история здесь не является отчетом о какой бы то ни было достоверной истине. Вместо этого такая проза подтверждает мнение философов истории, таких как Доминик ЛаКаприа, которые утверждают, что «прошлое достается нам в форме текстов и текстовых напоминаний — мемуаров, отчетов, опубликованных документов, архивов, памятников и так далее» (128) и что эти тексты взаимодействуют друг с другом очень запутанно. Это вовсе не отменяет ценность истории как фиксирующей прошлое науки; просто переопределяются условия ценности в несколько менее «империалистических» терминах. В последнее время традиция нарративной истории с ее беспокойством по поводу «короткого века человека и события» (Бродель 27) ставится под сомнение французской Школой Анналов. Но эта частная модель нарративной истории являлась, конечно, также частной моделью реалистического романа. Историографическая метапроза, следовательно, представляет оспаривание этих (родственных) конвенциональных форм прозы и истории через признание их текстуальности. Как однажды заметил Барт, Бувар и Пекюше стали идеальными предшественниками постмодернистского писателя, который «может только подделывать нечто, не являющееся оригинальным. Его единственная сила в том, чтобы смешивать литературные произведения, сталкивать одни с другими, таким образом, не опираясь ни на одно из них» (Irnage 146).
Формальное соединение истории и литературы с помощью общих знаменателей интертекстуальности и нарративности обычно изображается не как редукция, сокращение, но скорее как расширение возможностей прозы. Или, если рассматривать это соединение как ограничение — в смысле сведения к использованию готовых нарративов, — это, как правило, превращается в первичную ценность, как это оказывается в случае «языческого зрения» у Лиотара, где ни у кого нет возможности породить новый нарратив, стать источником даже своего собственного нарратива (78). Лиотар намеренно вводит понятие «ограничение» как противоположность тому, что он называет капиталистической позицией писателя как источника творчества, собственника своего повествования. Постмодернистское письмо во многом разделяет эту идеологическую критику допущений, подчеркивающих «романтические» представления об авторе и тексте, и именно пародийная интертекстуальность является главным средством выражения этой критики.
Возможно, из-за того, что сама пародийность потенциально противоречит идеологическому как таковому (как «уполномоченная трансгрессия» она может рассматриваться в качестве и консервативной, и революционной [Хатчен 69–83)], она является идеальной формой критики для постмодернизма, парадоксального самого по себе в его консервативном принятии конвенций и последующей радикальной борьбе с ними. Произведения историографической метапрозы, такие как «Сто лет одиночества» Габриеля Гарсия Маркеса, «Жестяной барабан» Гюнтера Грасса или «Полуночные дети» Салмана Рушди (где первые два произведения используются в качестве интертекстов), используют пародию не только для воссоздания истории и памяти перед лицом искажений «истории забывания» (Thier, 202), но и, в то же время, для того чтобы поставить под вопрос значимость какого бы то ни было акта письма путем помещения исторических и литературных дискурсов в рамки постоянно расширяющейся интертекстуальной сети, которая высмеивает любую идею подлинности или простой каузальности.
Там, где есть связь с сатирой, как в произведениях Воннегута, Вампилова, Кристы Вольф или Кувера, пародийность, конечно, может принять более четкие идеологические черты. Здесь, однако, тоже нельзя говорить о прямом вмешательстве в мир: такое письмо работает через другое письмо, другие текстуализации опыта (Саид «Начала», 237). Во многих случаях термина «интертекстуальность» может быть недостаточно для описания этого процесса; «интердискурсивность», пожалуй, — более точный термин для описания совокупных режимов дискурса, с помощью которых постмодернизм пародийно формирует литературу, визуальное искусство, историю, биографию, теорию, философию, психоанализ, социологию — список можно продолжить. Одним из результатов этого дискурсивного умножения является то, что центр (возможно, иллюзорный, но тем не менее некогда четкий и устойчивый) художественного нарратива рассеивается. Пределы и грани обретают новую ценность. Теперь внимание привлекает «экс-центричность» — как «без-центричность» — с одной и «де-центричность», с другой стороны. То, что является «другим», переоценивается одновременно в противовес элитарной, отчужденной «непохожести» и унифицирующим импульсам массовой культуры. В американском постмодернизме «другое» стало определяться в смысле конкретизации таких категорий, как национальность, этничность, гендер, раса и сексуальная ориентация. Интертекстуальная пародийность канонических классиков — это способ пере-присвоения и переформулирования — со значительными изменениями — доминирования белых, мужчин, представителей среднего класса, европейской культуры. Она не отвергает этого доминирования, поскольку не имеет такой возможности. Обращением к теме доминирования интертекстуальность показывает свою зависимость от нее, одновременно заявляя о своем восстании через ироничное злоупотребление ей. Эдвард Саид недавно (в «Культуре») утверждал, что существуют отношения обоюдной взаимозависимости между историей тех, кто доминирует, и тех, над кем доминируют.
Начиная с 1960-х американский фикшн был, как это описывает Малькольм Брэдбери (186), особенно одержим своим прошлым — литературным, социальным и историческим. Возможно, эта озабоченность частично связана (или была связана) с необходимостью обретения собственного, американского голоса в условиях культурного доминирования европоцентристской традиции (D’haen 216). Соединенные Штаты (как и остальные государства Северной и Южной Америк) — это страна иммиграции. Как говорил Э.Л. Доктороу, «конечно, мы чрезвычайно многое наследуем от Европы, и “Рэгтайм”, отчасти, именно об этом: о средствах, с помощью которых мы начали буквально физически приносить сюда европейское искусство и архитектуру» (Trenner 58). Отчасти вся американская историографическая метапроза именно об этом.
Критики подробно обсудили пародийные интертексты произведения Томаса Пинчона, включая «Сердце тьмы» Конрада (McHale 88) и прустовский формат исповеди, ведущейся от первого лица (Patteson 37–38) в романе «V.». В частности, в романе «Выкрикивается лот 49» усматривалась прямая связь между литературной пародией на якобинскую драму и избирательностью и субъективностью того, что мы называем историческим «фактом» (Benntet). Здесь пародийность постмодерна работает во многом таким же образом, как в литературе XVII века, в обоих романах Пинчона и в пьесах, которые он пародирует («Как жаль, что она шлюха» Джона Форда, «Белый дьявол» и «Герцогиня Мальфи» Джона Уэбстера, «Трагедия мстителя» Сирила Тернера» и других), интертекстуальный «общепринятый дискурс» прочно встроен в суждения общества по поводу потери актуальности традиционных ценностей в современной жизни (Bennet).
Такой же влиятельной и возможно даже более нашумевшей является пародия на «Рождественскую песнь» Чарльза Диккенса в произведении Исмаэля Рида «Эти ужасные двухлетки», где политическая сатира и пародия встречаются, чтобы подвергнуть атаке белую европоцентристскую идеологию доминирования. Структура произведения, основу которой представляют «прошлое Рождество» и «будущее Рождество», готовит нас к исходному вызову Диккенсу — сначала метафорически («Деньги такие же хваткие, как Скрудж»), а затем напрямую: «Эбенезер Скрудж возвышается над вашингтонским небоскребом и, потирая руки, жадно смотрит сквозь свои очки» (4). Скрудж — это не только персонаж, но и дух Америки 1980 года, зародившийся в момент инаугурации президента, избранного в этом году. Роман модернизирует повесть Диккенса. Впрочем, богатые по-прежнему живут в довольстве и комфорте («Неважно, насколько высокой будет инфляция, у богатых всегда будет такое Рождество, какое они пожелают, объявляет пресс-секретарь Неймана-Маркуса» [5]); бедные — напротив. Так в 1980 году переигрывается «зима Скруджа, обычная, как дворняга» (32).
Действие «Будущего Рождества» начинается с того, что монополистический капитализм буквально захватил в плен Рождество в результате решения суда, согласно которому некая компания получила эксклюзивные права на Санта-Клауса. Одна линия этого сложного сюжета продолжает диккенсовский интертекст: американский президент — праздная модель (мужского пола), страдающая алкогольной зависимостью, — исправляется после визита св. Николая, который проводит для него экскурсию по аду, исполняя роль Вергилия для этого Данте. Там он встречает прошлых президентов и других политиков, чьи наказания (как в Инферно) соответствуют их преступлениям. Превратившись после этого в другого человека, президент проводит Рождество со своим черным дворецким Джоном и его внуком-инвалидом. Несмотря на то что он остается неназванным, этот Крошка Тим иронически отсылает к персонажу Диккенса, делая его еще более трогательным: по версии Рида, у Тима ампутирована нога, он черный, его родители погибли в автокатастрофе.
Президент предпринимает попытку спасти нацию и с этой целью идет на телевидение, чтобы сообщить: «Проблемы американского общества никуда не денутся… если мы будем относиться к бедным, как Скрудж, обманывать стариков и неимущих» (158). Финальные отголоски диккенсовского интертекста в высшей степени ироничны: президент провозглашен непригодным для работы (из-за этого телеобращения) и госпитализирован в интересах бизнеса, которые, на самом деле, являются интересами правительства. В результате такого мрачного сатирического взгляда на будущее от оптимизма Диккенса не остается ровным счетом ничего. Похожим образом в романе «Черно-Желтое радио сломалось» Рид пародийно инвертирует «Великого инквизитора» Достоевского, высмеивая социальный, моральный и литературный порядок. Пожалуй, к сегодняшнему моменту ни одна работа западной гуманистической традиции не смогла избежать постмодернистской критики: в произведении «Видит Бог» Хеллера даже священные тексты Библии стали предметом апологии и демистификации одновременно.
Примечательно, что интертексты «Писем» Джона Барта включают не только британские романы XVIII века, Дон Кихота и другие европейские работы Уэллса, Манна и Джойса, но также и тексты Генри Дэвида Торо, Натаниеля Готорна, Эдгара Алана По, Уолта Уитмена и Джеймса Фенимора Купера. Европейское прошлое сыграло не меньшую роль в формировании «непохожести» современного американского постмодернизм, чем собственное, американское. Такое же парадоксальное смешение порядка и беспорядка, употребления и злоупотребление характеризует интра-американскую интертекстуальность. Например, «V.» Пинчона и «Песнь Соломона» Моррисона пародируют, хотя и по-разному, как структуру, так и саму тему восстанавливаемости истории в романе Уильяма Фолкнера «Авессалом! Авессалом!». Схожим образом в романе «Жизнь поэтов» Доктороу одновременно принимает и отвергает идеи произведений «Моя мужская правда» Рота и «Герцог» Сола Беллоу.
Пародийные отсылки к более ранним (XIX век) классическим произведениям американской литературы, пожалуй, еще более комплексны, в силу богатой традиции взаимодействия фикшна и истории. Готорн, например, использует жанровые конвенции романа, чтобы объединить историческое прошлое и описываемое настоящее. И, без сомнения, проза Готорна является популярным интертекстом постмодернизма: в Blithedale Romance и «Плавучей опере» Барт разделяет нравственные установки с рядом писателей, которые предпочитают сохранять эстетическую дистанцию от жизни, однако наблюдается разница в структурных формах (метахудожественность бартовского романа более осознанна [Khristenen 12], что указывает читателю на ироничность в совпадении этических вопросов).
Канонические тексты американской традиции, с одной стороны, разобраны по частям, с другой — все еще являются источником пародий: таким парадоксальным способом постмодернисты «договариваются» с прошлым. С учетом этого неудивительно, что современная американская литература изобилует пародийными отголосками великого романа Германа Мелвилла «Моби Дик», где прослеживается интерес к теме знакомств и имен, нечуждый и постмодернизму: «Называй меня Смитти» у Рота («Большой американский роман»), «Зови меня Иона» у Воннегута («Колыбель для кошки») или бартовское менее прямое, но более «постмодернистское»: «В смысле, я Якоб Хорнер» («Конец дороги»). Романы, которые имеют дело с историческими или технологическими фактами и/или рассказывают о стремлении освоить казалось бы непобедимую Природу, также изобилуют отсылками к тексту Мелвилла. Например, в произведении «Огонь на луне» Мэйлера луна (кит) как объект вожделения Аквариуса (Измаила) описывается привычным (но здесь ироничным) языком, в котором смешивается техническая конкретность с трансцендентной мистикой (Sisc).
В скобках следует отметить, что, как и историографическая метапроза, произведения нон-фикшна — неважно, что они утверждают в качестве фактической достоверности исторического повествования, — открыто выстраивают свое повествование на вымышленных интертекстах: «Электропрохладительный кислотный тест» Тома Вулфа пародирует «На дороге» Джека Керуака, «Низвержение в Мальстрём» Эдгара По, а также произведения Торо, Ральфа Уолдо Эмерсона и Артура Кларка (см. Hellman 110–113); в произведении «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Гюнтера Томпсона есть отсылки к «Моби Дику», американским любовные романам и авантюрным жанрам (Hellman 82–87); интертексты «Огня на луне» Мейлера используются также в романе «Воспитание Генри Адамса (Тэйлор); «Инцидент в отеле “Алжир”» (Дж. Херси) и «Армии ночи» (Мэйлер) пародируют «США» (Джон Дос Пассос). Конечно, хорошим примером могла бы стать сама трилогия Дос Пассоса, поскольку она является ранней формой историографической метапрозы и использования жанровых конвенций истории, литературы, биографии, автобиографии и журналистики (Malmgren 132–142). Фрагментированная форма и постоянная игра с ожиданиями читателя начинают подрывать авторитет этих правил, но, пожалуй, в конце формальное и герменевтическое давление превышает то, которое позволило бы охарактеризовать это произведение как пример открытой и противоречивой художественности постмодернизма.
Историографическая метапроза, как, впрочем, и нон-фикшн, обращается и к историческим, и к литературным интертекстам. Дж. Барт в своем романе «Торговец дурманом» смог развенчать и, в то же время, воссоздать историю Мэрилэнда для своего читателя с помощью не только одноименного стихотворения Э. Кука 1708 года, но также с помощью необработанных исторических архивов Мэрилэнда. На основании этих интертекстов Барт переписывает историю, порой достаточно вольно: иногда он выдумывает персонажей и события, иногда пародийно искажает характер и формат своих интертекстов, иногда предлагает свой вариант развития событий, если обнаружит недостаток информации в документе (см. Holder 598–599). В романе «Маленький большой человечек» Томаса Бергера подробно излагаются все главные исторические события, произошедшие на американских равнинах в конце XIX столетия (от строительства железной дороги до последней битвы Кастера), но само изложение ведется от лица вымышленного 111-летнего персонажа, который одновременно возвеличивает и обесценивает исторических героев Запада как литературные штампы вестерна, поскольку литературе и истории присуща тенденция к преувеличению в описании прошлого.
Бергер не пытается прятать свои интертексты — ни исторические, ни художественные. Подразумевается, что мифическая фигура Старого Лоджа Скинса является пародией на Натти Бампо (Wilder); отчет о его смерти практически слово в слово списан из доклада Джона Нилхарда Блэку Элксу, и финальный бред Кастера взят непосредственно из его (Кастера) собственного произведения «Моя жизнь на просторах» (Schulz 74–75). Даже вымышленный Джек Крэбб определен интертекстами: историческим Джеком Клейборном и вымышленным Джоном Клэйтоном из «Никто не выжил» (Уилла Генри), каждый из которых жил в то же время и на той же территории, что и Крэбб.
Впрочем, дискурсы постмодернизма формируются не только литературой и историей. Все, начиная с комиксов и сказок, заканчивая альманахами и газетами, снабжает историографическую метапрозу культурно значимыми интертекстами. В «Публичном сожжении» Кувера история казни Розенбергов перемежается с множеством различных текстовых форм. Одной из ведущих форм являются разнообразные медиа, через которые выводится на первый план идея несоответствия между «новостями» и «реальностью». The New York Times изображается как ядро священных текстов Америки, текстов, которые предлагают «упорядоченные и разумные» версии событий, чья кажущаяся объективность, впрочем, таит в себе гегельянский «идеализм, который принимает свой собственный язык за реальность» (Mazurek 34). И одним из центральных интертекстов для изображения Ричарда Никсона в романе является его знаменитая телевизионная «Речь о Чекере», тон, метафоры и идеологическая составляющая которой стали основой для создания литературного Никсона.
Историографическая метапроза создает впечатление, что она стремится эксплуатировать любые значимые практики, которые она способна оперативно обнаружить в обществе. Она хочет бросить вызов находимым при этом дискурсам и извлечь из них все самое ценное. В произведениях Пинчона, например, такая противоречивая разрушительная тенденция часто доводится до предела: «Документация, навязчивые системы, языки популярной культуры, рекламы — сотни систем конкурируют друг с другом, отказываясь ассимилироваться с какой-либо общепризнанной парадигмой» (Во 39). Возможно. Но интертекстуальность Пинчона сверхдетерминирована, дискурсивно перегруженные романы одновременно пародируют и принимают тенденцию всех дискурсов к созданию систем и структур. Сюжеты таких нарративов, будучи качественно отличными от других, представляют собой некий заговор, цель которого — вызвать у субъекта страх перед мощью шаблона. Многие высказывались по поводу этой паранойи в произведениях современных американских авторов, но мало кто заметил, какова парадоксальная природа этого особенного постмодернистского страха: ужас перед всепоглощающим упорядочиванием, перспективой помещения в строгие сюжетные рамки вписан в тексты, которые ничем не примечательны, кроме пресыщенности сюжетами, и сверхдетерминированы интертекстуальной самореферентностью. Сам текст становится, в конечном счете, закрытой, самореферентной системой.
Возможно, это противоречивое притягательное отвращение к структуре и шаблону объясняет преобладание пародийного использования определенных привычных и загруженных (очевидным образом — конвенционально) сюжетами форм в американской прозе, если говорить о вестерне, то это «Маленький большой человечек», «Торговец дурманом», «Добро пожаловать в тяжелые времена», «Даже девушки-ковбои иногда грустят», «Желто-черное радио сломалось». Также высказывалось предположение о том, что «единственной неизменной вещью в вестернах является то, что они демонстрируют то, как Америка переписывает и переинтерпретирует свое прошлое» (French 24). Ироничное интертекстуальное использование вестерна не является, как утверждают некоторые, формой «временного побега» (Стейнберг 27), но скорее консенсусом с традициями более ранних исторических и литературных выражений «американскости». Как таковой пародии, очевидно, не чужды сатирические концовки. В произведении «Добро пожаловать в тяжелые времена» Доктороу видны отсылки к «Голубому отелю» Стивена Крэйна в изображении власти денег, жадности и силы: через интертекстуальность показывается, что некоторые благородные мифы в самой своей сути заключают капиталистическую эксплуатацию (Gross 133). Благодаря пародийной инверсии норм вестерна природа в произведениях Доктороу уже не воспринимается как некая дикая искупительная сила, а первопроходцы изображаются скорее в качестве предпринимателей, а не борющихся за жизнь трудяг. Он заставляет нас переосмысливать и, возможно, заново интерпретировать историю и делает это во многом с помощью своего рассказчика, Блю, который оказался перед необходимостью выбора — формировать историю самому или позволить истории формировать его. Для того чтобы подчеркнуть интертекстуальное переплетение дискурсов, он пишет свою повесь в гроссбухе, где также содержатся хроники города (см. Levine 27–30).
Пародия Измаила Рида на вестерны в произведении «Желто-черное радио сломалось» еще больше нагружена идеологически. Малыш Луп Гаро представляет собой одновременно черного (что добавляет ироничности) героя-ковбоя и пародию на гаитянского духа Бака ЛупГару (Byerman 222). Традиционный для жанра положительный герой, борющийся с беззакониями и коррупцией, в романе Рида превращается в демонического анархичного ковбоя, призванного бороться с репрессиями жестокого закона и порядка. Рид использует другие жанровые пародии со схожим критическим эффектом. В романе «Свободные могильщики» он перекодирует сюжет американской истории успеха (Horatio Alger) с целью обратить внимание на свою излюбленную тему человеческих отходов. В «Мамбо Джамбо» Папа ЛаБас пародирует американские детективы с их кульминационными развязками, где раскрываются мотивы преступления: в его пародии преступниками становятся аборигены, мотивом которых является возвращение к предыстории и мифу. Характер детективных сюжетов, основанный на рациональности, становится еще одним сюжетом, еще одним сковывающим, упорядочивающим шаблоном.
В своих произведениях Рид работает не только с американской, но и с расовой идеей «непохожести». Пародийно переплетая уровни и типы дискурсов, автор бросает вызов пониманию «различного» как когерентного и/или исконного. Рид опирается на «черные» и на «белые» исторические и литературные нарративные традиции, переосмысливая Зора Нила Харстона, Ричарда Райда и Ральфа Эллисона так же легко, как Платона или Т.-С. Эллиота (см. McConnel 145; Gates 314), а также на фольклор, где находит для себя множество возможностей.
Без колебания противопоставляя себя тенденциям к гетерогенному выражению единичной, фиксированной, гомогенной идентичности, эти фольклорные материалы, будучи «историчными, переменчивыми, постыдными, перформативными» (Byerman 4), являются прекрасным постмодернистским средством для преодоления универсального, вечного, внеисторичного, «естественного». В романе «Рейс в Канаду» Рида пародируются исторические и литературные версии нарративов рабства (написанных как черными, так и белыми), например «Хижина дяди Тома». Как показал Генри Луи Гэйтс-мл., «Мамбо Джамбо» представляет собой развернутую и многогранную пародийную полемику, один из главных интертекстов которой взят из стихотворения Рида, в свою очередь, являющегося пародийным ответом на эпилог «Человека-невидимки» Эллисона, где утверждается, что люди (men) [sic] не похожи друг на друга, что жизнь гетерогенна и что эта гетерогенность вполне естественна. Рид отвечает на это в стихотворении «Дуализм: в человеке-невидимке Ральфа Эллисона» (Conjure 50):
Я вне
истории, если бы только
у меня был арахис,
в ее клетке, кажется,
голодно.
Я внутри
истории. Здесь
голоднее,
чем я думал.
За своей пародийной игрой Рид, как обычно, серьезен. Это та самая серьезность, на которую критики обычно не обращают внимания, когда обвиняют постмодернизм в излишней ироничности и, следовательно, тривиальности. Видимо, подразумевается, что подлинность переживаний не совместима с двусмысленностью и/или юмором. Такая точка зрения, похоже, разделяется не только марксистскими (Джеймисон, Иглтон), но и феминистскими критиками: Элен Шоуолтер, судя по всему, видит в пародийности «Своей комнаты» Вирджинии Вульф лишь «насмешливость, хитрость, несерьезность» (284). И феминистские, и черные авторы использовали ироническую интертекстуальность в достаточно серьезных целях — с одной стороны, идеологических, с другой — эстетических (если такое разделение вообще возможно). Пародия для них — нечто большее, чем просто ключевая стратегия, с помощью которой раскрывается (Gilbert и Gubar 80) «женская двуличность», несмотря на то что именно она и является основным способом употребления, злоупотребления, подчинения и отрицания мужских традиций в искусстве. Связь между гендером и жанром ясно прослеживается в «Орландо», в пародийной игре с канонами биографического жанра, и Моника Виттиг меняет гендерный ракурс мужского приключенческого романа («Герильеры» и патриархальный Bildungsroman «Опопонакс»).
Фактически Bildundgrosman (роман о воспитании) стал наиболее популярной пародийной моделью. Мардж Пирси в романе «Крохотные перемены» инвертирует мужской нарративный образец образования с целью радикального избавления от патриархального государства (а не интеграции с ним) (см. Hansen 215–126). Главный герой «Песни Соломона» по традиции мужского пола, однако автор пародийно переключает акцент на проблему индивидуальности в мире таким образом, что мы начинаем смотреть на общность и семью совершенно по-другому (Вагнер 200–201). Похожим образом Элис Уолкер создает ироничные версии привычных сказок в «Цветном пурпуре»: «Белоснежка», «Гадкий утенок», «Спящая красавица». Но важность этих пародий не вполне очевидна до тех пор, пока читатель не замечает фундаментальной гендерной и расовой перестановки как результата авторской иронии: с тех пор как мир стал принадлежать женщинам и черным, она стала жить счастливо (см. Byerman 161).
Для Соединенных Штатов, не представляющих, по сути, экономического и социального единства, проблема экс-центричности касается не только гендера, расы или национальности, но также и классов. Даже в черных феминистских романах поднимается классовая проблема. Молочник из «Песни Соломона» (имеющий интертекстуальную связь с Айком МакКаслином из книги Фолкнера «Медведь») должен быть лишен материальных символов доминирующей белой культуры, предстать перед судом и пройти проверку на прочность для того, чтобы добиться признания. В чем причина? Черные в Шалимаре понимают классовый вопрос как расовый. Они знают, «что у него было сердце белого человека, который пришел за ними, когда появилась нужда в анонимных, безличных работниках» (269). И в том же самом романе маленькая горожанка Рут, дочь доктора, презирает своего мужа-нувориша. В «Рэгтайме» (Доктороу) вопросы этничности (Татех) и расы (Коулхаус) объединяются с классовой проблемой. В «Гагарьем озере» сюда примешивается само искусство. Джо чувствует, что от полноценного восхищения поэзией Уаррена Пенфилда его отдаляет социальный бэкграунд: «Как я могу внимательно слушать такие прекрасные слова, когда люди из моего окружения не разговаривают так изысканно, так витиевато?» У читателя может появиться соблазн установить соответствие между грамотностью и классовой принадлежностью, поскольку он замечает, что поэзия Пенфилда зачастую оставляет желать лучшего с точки зрения пунктуации.
Проза Доктороу, как и Рида, часто обнаруживает такое мощное влияние, как на формальном, так и на идеологическом уровнях, какое может оказывать только пародийная интертекстуальность. Под вражеским огнем в 1918 году Уоррен Пенфилд из «Гагарьего озера», сигнализатор в войсках связи, посылает не то сообщение, которое приказал послать командир, а первые строчки стихотворения Вордсворта «Ода: отголоски бессмертия по воспоминаниям раннего детства». В силу ироничной уместности тем прошлой славы и нынешней реальности взгляд Доктороу на войну кажется намного адекватнее любых нравоучительных интерпретаций. Этот роман открывает нам все виды интертекстуальной пародии, которые вообще можно встретить в американской прозе: пародии на жанр, европейскую традицию, канонические американские произведения (классические и современные), тексты популярной культуры, исторические тексты. На уровне жанра Джо и является, и не является литературным героем, как своих приключений в пути, так и описаний этих приключений: обычно он излагает события от третьего лица, когда рассказывает о своей прошлой жизни, но иногда в это повествование вклинивается и его собственный голос.
В этом романе в большом количестве присутствуют британские интертексты — начиная с упоминаний Вордсворта, заканчивая пародиями на роман «Сыновья и любовники» Лоуренса: например, как и Пол Морел, Уоррен Пенфил растет в угледобывающей коммуне с матерью, которая думает, что он особенный, «редкая душа, тонкое создание» (38). Доктороу демистифицирует и иронизирует по поводу такого отношения путем превращения своего поэта в неуклюжего, угловатого человека. И, как в случае с Морелом, к концу романа все еще неясно — настоящий он поэт или нет. Вступление «Портрета художника в юности» Джойса упоминается в ранних отрывках «Гагарьего озера», где говорится об отношении ребенка к своему телу и речи. Но пародийные элементы появляются тогда, когда мы осознаем различия: в отличие от Стивена Дедалуса, этот ребенок не упоминает никаких имен и, к тому же, одинок. Он не может найти себе место в собственной семье, гораздо меньшей, чем его внутренний мир. Тем не менее, оба мальчика в конечном итоге становятся поэтами. Или станут? Ни один интертекст, используемый Доктороу, не завершен. Его гагара вполне может отсылать к соловью Китса, однако известное выражение «сумасшедший, как гагара» неизменно витает в воздухе.
Один из главных героев, Джозеф Корженевски, меняет свое имя для того, чтобы стать названным сыном Ф.В. Беннета. Использование настоящего имени Джозефа Конрада, конечно, вряд ли может быть случайным в романе об идентичности и литературе. Однако Джо родом из Патерсона, Нью-Джерси, — места, которое вызывает у американцев другие литературные ассоциации. Места, по сути, повторяют интертекстуальные отголоски «Гагарьего озера». В американской литературе озера обычно символизируют чистоту природы (озеро Глиммерсглас Купера, Валден из произведения Торо (Levine 66)); здесь же — коррупцию и, прежде всего, экономическое потребление. Примечательно, что эта интерпретация вызвана еще одним интертекстом. Поместье Беннета неизбежно наводит на мысль о поместье такого же молодого Гэтсби, неимущий Джо со своими мечтами о женщинах повторяет путь классического литературного self—made man.
Но роман опирается не только на литературные каноны. Фактически, весь образ Америки 1930-х годов вырос из популярной культуры того периода: комедии Фрэнка Карма, гангстерские фильмы, романы о забастовках, мелодрамы Джеймса М. Кэйна (см. Levine 67). Это имеет не только литературную, но и историческую значимость: роман дает понимание того, что все наше «знание» прошлого мы черпаем из дискурсов этого прошлого. Это не документальный реализм (даже если бы таковой и был возможен); это роман о нашем понимании своей картины прошлого, нашего дискурса о 1930-х. Я думаю, именно это имеет в виду Доктороу, когда говорит в интервью, посвященном «Рэгтайму», что он не может «принять различий между реальностью и книгами» (см. Trenner 42). Для него нет четкой границы между историческими и литературными текстами, поэтому он не стесняется проводить свою собственную. Вопрос об уникальности очевидным образом приобретает иное значение в рамках постмодернистской теории литературного письма.
Центром «Рэгтайма» является Америка в 1902 году: президентство Тэдди Рузвельта, живопись Уинслоу Гомера, слава Гарри Гудини, деньги Дж.П. Моргана, сенсации кубизма в Париже. Но интертексты истории удваиваются интертекстами литературы, особенно такими произведениями, как «Михаэль Колхаас» Кляйста и «США» Дос Пассоса. Доктороу сам обращает внимание критиков на текст Кляйста (см. Trenner 39) и проделывает большую работу по соединению этих двух пластов интертекстов. (Levine 56; Foley 166, 176–177; Ditsky). Вкратце, история Колхауса Уокера имеет множество параллелей с историей Михаэля Кольхааса (начиная с имен главных героев). В произведении Кляйста Кольхаас — это средневековый продавец лошадей, который лишается их из-за того, что отказывается платить нечестный штраф слуге Вензеля фон Тронка. В романе Доктороу Колхаус сталкивается с похожей несправедливостью в лице Вилли Конклина, однако вместо лошадей здесь фигурирует его новая модель по получению правовой помощи от курфюрста Саксонии; жена Колхауса — как и жена Кольхааса — пытается вмешаться, но ее убивают — почти таким же образом, что и в оригинальном произведении. Читателю трудно не заметить этих очевидных сходств между коррумпированным феодальным и не менее коррумпированным современным обществом. В немецкой новелле герой руководит армией повстанцев и приговаривается к казни. Роман Доктороу иронически перекодирует этот сюжет в терминах, характерных для Америки рубежа XIX–XX веков, дополняя его отголосками кульминации другого интертекста — «Каталога» Джорджа Милбурна. В целом, мы имеем дело с людьми, которые не могут найти справедливости в обществе, которое позиционирует себя как справедливое. И в «Михаэле Кольхаасе», и в «Рэгтайме» исторические персонажи общаются с вымышленными: в первом случае главный герой встречает Мартина Лютера, во втором — Букера Т. Вашингтона. Но я бы сказала, что ни в том, ни в другом случае не подразумевается переоценка вымышленных героев (см. Foley 166). Подчеркивается именно нарративность и текстуальность наших представлений о прошлом; вопрос о первичности вымышленного или исторического здесь не ставится.
Опять же, многие критики высмеивают параллели между «Рэгтаймом» и «США» Дос Пассоса (Foley, Silye, Levine): тематические (текстильные стачки в Лоренсе, борьба за свободу слова в Сан-Диего, изображения событий и персонажей, таких как Мексиканская революция и Красная Эмма), формальные (смешение истории и фикшна) и идеологические (критика американского капитализма того же периода). Те же самые критики, однако, с большой осторожностью признают серьезные отличия, поскольку интертекстуальные отголоски сами по себе наводят на размышления. Доктороу не разделяет веру своих предшественников в объективное представление об истории, и именно его ироничное перемешивание фактов и вымысла, умышленный анахронизм его произведений подчеркивают это недоверие.
Как отмечает Барбара Фолей, в «США» подразумевается, что историческая реальность «познаваема, когерентна, значительна и подвижна по самой своей сути» (171). Доктороу, по всей видимости, думает также, но, с другой стороны, считает, что история в этой связи также подлежит пересмотру. История, превращенная в нарратив, как и фикшн, преобразует любой материал (в данном случае, прошлое) в свете современных событий, и этот процесс интерпретации является как раз тем, на что историографическая метапроза обращает наше внимание: «Встреча Уокера с Букером Вашингтоном, например, эхом отзывается в современных дебатах между интеграционистами и черными сепаратистами. Похожим образом Генри Форд описывается как отец массового общества, а Эвелин Несбит — как первая богиня массовой культуры» (Levine 55).
Идеологические, как и эпистемологические, следствия интертекстуальности еще более прозрачны в более раннем романе Доктороу «Книга Даниила». Здесь мы также находим ряд пародийных интертекстов. Невозможно игнорировать содержащуюся в заголовке отсылку к библейскому Даниилу: современные евреи, будучи отчужденными, повторяют судьбу своего предшественника (см. Stark). Первый эпиграф книги взят из Книги пророка Даниила 3:4 — ярость по поводу царского призыва к всеобщему поклонению «золотому тельцу» под угрозой «сожжения в печи огненной».
Это предопределяет судьбу тех, кто бросает вызов золотому тельцу современного капитализма, и в этом повествовании евреи не выживут в холодной войне антисемитских и антикоммунистических тенденций. Царь, который приговорил братьев библейского Даниила к сожжению, превращается здесь в государство, которое приговаривает родителей Дэниэла к электрическому стулу. Присутствует и символическое упоминание вавилонской печи в виде печи в жилом доме Айзексонов, которую обслуживает отверженный всеми черный слуга. (Причастность нацистских печей к этому историческому интертексту настолько очевидна, что нет никакой нужды упоминать их напрямую.)
Интертекстуальное использование библейской Книги Даниила все же не лишено иронии. Дэниэл называет своего библейского тезку не иначе как «Маяк веры во времена гонений» (15). Ирония здесь двоякая: сегодняшний Дэниэл преследует свою жену и ребенка, но при этом отчаянно ищет веры. Библейский Даниил тоже является маргинальным персонажем, «второстепенной, если не полностью апокрифичной фигурой», евреем в трудные времена. Он не действующее лицо истории, скорее он помогает (с Божьей помощью) людям разобраться со своими сновидениями. Таков эталон писателя для Дэниэла, который тоже пытается перечислить «тайны» и затем исследовать их и которого как единственного уцелевшего преследуют кошмары, которые он сам не может объяснить. Итоги этих двух произведений о Даниилах иронически похожи. Современный писатель говорит, что библейский текст «полон загадок», являясь смесью привычных историй и «странных снов и видений» (15), беспорядочным текстом без истины и полноценного разоблачения. То же можно сказать и о «Книге Даниила» Доктороу, чей жанр представляет собой смесь из журналистики, истории, научного труда и фикшна. Оба эти произведения посвящены проблеме интерпретации и последующей оценки. Нарративные голоса обеих книг принадлежат безлично всеведущему третьему лицу по отношению к условному первому лицу, но привычный авторитет библейской безличности подвергается иронии, превращаясь в тщетные попытки современного Дэниэла дистанцироваться и сохранять спокойствие.
Когда их родители были впервые арестованы, дети Айзексонов узнали о своей судьбе от Уилльямса, этого демонически черного слуги, следящего за печью в подвале. Затем в тексте цитируется песня Пола Робсона Didn’t My Lord Deliver Daniel? (143). Однако риторический вопрос этой песни становится риторическим, во-первых, из-за своего контекста, во-вторых, постольку, поскольку мы уже в курсе конечной судьбы родителей. Встреча с Робсоном, конечно, дала молодому Дэниэлу важное понимание убеждений и принципов его (Пола) отца, Уильяма Дрю Робсона. Сложные и запутанные отголоски указывают на разные возможные функции интертекстуальности в историографической метапрозе, поскольку она может тематически и формально укрепить общую идею текста или иронически обесценить любые претензии к заимствованному авторитету, убежденности или легитимности. «Книга Даниила» (318) по сути заканчивается тем же, чем и начинается, — неловкостью от того, что все это «написано в книге» (319). Ее финальные слова в некотором смысле «вычеркнуты» (sous rature), поскольку принадлежат не герою данной книги, а его библейскому тезке: «ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Две песни плача и пророчества (Левин 49) подходят к концу по мере того, как смысл их слов раскрывается в акте чтения.
В похожем смысле судьба Айзексонов заново «раскрывает» дело Розенбергов. Интертексты, основанные на этом событии новейшей американской истории, вписаны во множество книг (до и после рассматриваемого романа), включая произведение одного из детей Розенберга. Время так и не разрешило всех проблем и сомнений, касающихся этого дела. Аналитики, представляющие разные идеологические убеждения, по сей день выстраиваются в очередь, чтобы «доказать» правильность той или иной интерпретации. Последние, в свою очередь, варьируются, начиная с того, что Розенберги стали невинными жертвами частного (или общего) антисемитского (или даже еврейского) заговора, заканчивая точкой зрения, согласно которой Юлиус Розенберг может быть оправдан перед лицом истории только в том случае, если мы признаем его честным советским шпионом, которого поддерживала любящая и преданная жена. Многие, судя по всему, усматривают в процессе и его результатах социальные и идеологические детерминанты так называемой универсальной, объективной справедливости. Именно эту категорию Доктороу использует, когда пишет о поиске Дэниэлом своей «семейной истины». В терминах Альтюссера репрессивный и идеологизированный государственный аппарат устраивает заговор против Айзексонов и, возможно, против Розенбергов. Интертекстуальные отголоски официальных исторических текстов и трудов Карла Маркса натравливаются друг на друга в этом романе с удвоенной ироничной силой.
Сам Доктороу сравнивает параллель Айзексон/Розенберг с параллелью Робинзон Крузо / Александр Селкирк (герой/прототип) Дефо (см. Trenner 46) и критикует вышеупомянутые интертекстуальные параллели между этим романом («Робинзоном Крузо» и Гамлетом (и, через него, Фрейдом): интеллектуал-аналитик пытается наладить контакт с эмоциональными и политическими реалиями, связанными с убийством родителя; давление прошлого на будущее; текстуальная саморефлексивность (Knapp). Примечательно, что постмодернизм в версии Доктороу является пародийным потому, что в качестве злодея у него выступает не какая-нибудь известная личность, а правительство и судебная власть, и даже, пожалуй, все американское общество. Здесь мы приближаемся к главному культурному интертексту данного произведения: Диснейленд становится воплощением обесцененной интертекстуальности, которая отрицает историчность прошлого. Диснейленд также преподносится как манипулятивное и потребительское нарушение границ искусства и жизни, прошлого и настоящего. Впрочем, сам по себе, он не является критической и пародийной трансгрессией, как можно было подумать; подразумевается, что он предназначен для непрерывного потребления как олицетворения исторической и эстетической пустоты. Он превращает прошлое в настоящее. А прошлое, как литературное, так и историческое, опошляется: «Жизнь рабовладельческой Америки на Миссисипи в XIX веке сжата до размеров пяти-десятиминутной пароходной прогулки по реке шириной с детскую железную дорогу. Марк Твен, автор книги “Жизнь на Миссисипи”, наш проводник в мир подлинного исторического опыта — теперь не более чем название лодки» (304). Идеологическая редукция Диснейленда происходит за счет того, что американское общество утрачивает свою сложность и многообразие: Дэниэл отмечает, что в его воображаемой Америке нет ни хиппи, ни латиноамериканцев, ни, разумеется, черных.
Доктороу, разумеется, не единственный американский писатель, использовавший интертекстуальность в таком масштабе. Барт в произведении «Торговец дурманом» обращается к жанровым конвенциям и смыслам романа XVIII века, с его строгим, последовательным мировоззрением, и делает их объектом пародийной инверсии в рамках других интертекстов: например, девственно-чистая дикая природа, какой она представляется в культурных клише классических романов, в текстах Барта превращается в юдоль порока и предательства. Невинность здесь начинает больше походить на невежество по мере того, как Америка Джефферсона обнаруживает свое скрытое родство с Америкой Эйзенхауэра. Такая критика выходит за рамки простого желания «мифопоэтизировать» факты перед лицом утраты традиционных ценностей (см. Schulz 88–89). Являясь далеко не просто очередной рядовой формой эстетической интроверсии, пародийная интертекстуальность нацелена на то, чтобы заставить нас по-другому взглянуть на характер связи между искусством и «миром». Простое подражание замещается сложным, проблематизированным набором взаимоотношений на уровне дискурса — то есть на уровне способа нашего рассуждения об опыте, литературном или историческом, прошлом или будущем. На практике интертексты неизбежно перекликаются с контекстами: социальными и политическими, среди прочих. Эта «двойная способность контекстуализации» (Шмидт) интертекстов заставляет нас не только удваивать наше зрение, но также заглядывать за пределы центра, видеть края, пределы, экс-центричное.
Такой взгляд позволяет обнаружить, что интертекстуальная пародийность полностью разрушает границы жанров: «Дань памяти Дени Дидро в трех актах» — так звучит подзаголовок у пьесы Милана Кундеры «Жак и его господин», в которой представлено то, что автор называет «столкновением не только двух писателей, но и двух столетий. А также романа и театра» (10). В одном из последних романов американской писательницы Сьюзан Дайч предлагается еще более комплексное жанровое взаимодействие, которое напрямую связано с его интертекстуальной нагруженностью. Ядром нарратива данного романа является дневник (вымышленной) женщины, Люсьен Крозье, очевидицы (реальной) революции 1848 года в Париже. Первый из двух современных фреймов этого дневника принадлежит Вилле Рейнфилд, первой переводчице романов. Ее «введение» напоминает нам о противостоянии 1848 года с точки зрения двух символических интертекстов, «Грозового перевала» и «Манифеста коммунистической партии», изданных в том же 1848 году. На этих произведениях основаны противоречия дневника (как минимум в переводе Рейнфилд): Люсьен придерживалась радикальных социалистических взглядов, которые, впрочем, оказались бесполезными из-за того, что левые не обращали на нее особого внимания, а также по причине мелодраматического угасания (из-за туберкулеза) Люсьен, практически оставленной ее алжирским любовником. Рейнфилд считает, что личность Люсьен сформирована «Марксизмом и флаффом» (2) — то есть фельетонами тех дней.
В ее дневнике, однако, обнаруживается критика этих популярных литературных форм как не соответствующих социальным и экономическим реалиям жизни, несмотря на внешний реализм их языка (136–137). Является ли она радикализированной Эммой Бовари? Этот вопрос поднимается в самом тексте: «Мадам Люсьен Крозье была обречена со дня своей свадьбы» (207). В этом смысле она, конечно, мадам Бовари, о чем нам постоянно напоминает заголовок романа. Люсьен, впрочем, является пародийной инверсией Эммы. У них много общего — ненависть к провинции, внебрачные связи, книги, однако Эмму в итоге это все превращает в капризную, безответственную барышню, а Люсьен приводит в политику. В тексте можно проследить редакторскую попытку посредством одного жаргонного слова связать мадам Бовари с Марксом через перевод романа его дочерью Элеонорой (124). Более явный политический подтекст прослеживается в редакции второго издателя и переводчика, женщины, которая взяла себе псевдоним Джейн Аммэ. Эта фамилия, очевидно, является перевернутым вариантом имени «Эмма», но этот псевдоним означает нечто большее, раскрывая все новые и новые интертекстуальные оттенки произведения: к Эмме Бовари присоединяется Эмма Голдман и Эмма Джейн Остин. Влияние Джейн Эйр обнаруживается также в одной из сносок, где упоминается «сумасшедшая женщина на чердаке, реальном или умозрительном» (lg8n). Эта личность определяет себя как «особу, которую герои Джейн Остин назвали бы самой милой и любезной молодой леди», как минимум до момента радикализации ее феминистских убеждений, к чему привело изнасилование, а также сексистские настроения Новых Левых в Беркли в 1968 году. Отвергая (как и Люсьен — по крайней мере, в переводе Аммэ) молчаливую роль «невольного участника» (246), она взрывает дом капиталистического «глобального насильника», который был также и ее обидчиком. Она пишет свою историю, отказываясь молчать, как и другие женщины-писатели, чьи интертексты вплетены в ткань ее текста. Собственный дневник Люсьен использует визуальное искусство похожим образом. Женоненавистническая сатира Домье приводит ее в ярость, как и позиция Делакруа (ее любовника) против политической действительности за окном: он предпочитает рисовать цветы и уступчивых женщин — спиной к этому окну.
Латиноамериканская проза того времени также обратилась к новым художественным формам, отличным от литературы и истории, заставив нас пересмотреть свое понимание интертекста. Разнообразные «фильмы», описанные Молиной в романе Мануэля Пуига «Поцелуй женщины-паука», являются, с одной стороны, скорее вербальными нарративами; на другом уровне они превращаются в пародийные игры с кинематографическими жанрами (фильмы ужасов, пропаганда войны, романтическая мелодрама), которые политизируют и а-политизируют (или ре-политизируют пропагандистское) с точки зрения гендера, сексуальных предпочтений и идеологии. Английский (именно английский) заголовок романа Алехо Карментьера «Взрыв в соборе» отсылает к реальной картине и в романе, и в жизни (картине Монсу Дезидерио). Как показал Габриэль Саад, описания Мадрида в конце этого романа являются, фактически, буквальными описаниями картин и рисунков Гойя, посвященных событиям 2–3 мая 1808 года и «Ужасам войны». Карпентьер использует здесь двойной интертекст, один из которых (исторический) раскрывается через другой (эстетический): эти произведения описывают мадридское восстание, результатом которого стали войны за независимость Испании и Латинской Америки. Другими словами, здесь наблюдается огромный пласт как исторических, так и беллетристических интертекстуальных отсылок.
Но нам не нужно далеко уходить, чтобы столкнуться с интертекстуальными отголосками. В клипах многих рок-музыкантов предпринимаются попытки воскресить кинематографическую или телевизионную традицию в своем формате («Радио Га Га» группы Queen с кадрами из фильма «Метрополис» Фрица Ланга) и постановках (Manhattan Transfer использует гостиную из «Я люблю Люси» в своих клипах), но пародийная грань, которая могла бы спровоцировать критику, здесь, в целом, упускается. В художественных галереях, тем не менее, мы можем найти такие инсталляции, как «Венера в лохмотьях» и «Оркестр лоскутов» (Микеланджело Пистолетто) — произведения, которые предполагают ироничную критику. Пистолетто использует настоящие лохмотья, конечный продукт потребления: искусство демонстрирует обломки культуры внутри потребительской этики. Его слюдяная репродукция классической Венеры может парадоксально демонстрировать неизменный, «универсальный» принцип эстетической красоты, который наталкивается на огромную кучу лохмотьев и, таким образом, уничтожается. Пока многие спорили по поводу того, что все картины интертекстуально связаны между собой (см. Steiner), постмодернистская живопись становится, пожалуй, все более ироничной в своих взаимосвязях. Даже музыка, считающаяся наименее репрезентативным видом искусства, интерпретируется сегодня в смысле интертекстуальной связи прошлого и будущего как аналога необходимой связи художественной формы с человеческой памятью (Morgan 51).
Постмодернизм — не период, а скорее поэтика и идеология. Он, несомненно, пытается бороться с герметичностью модернизма, элитарным изоляционизмом, который отделяет искусство от «мира», литературу от истории. Однако зачастую он делает это, обращая методы модернистской эстетизации против себя. Автономность искусства сохраняется; метахудожественная саморефлексивность даже подчеркивает ее. Но внутрь этой мнимо интровертной интертекстуальности путем иронических инверсий пародийности входит еще одно измерение: критическое отношение искусства к «миру» дискурса и, далее, к обществу и политике. История и литература являются источниками интертекстов в рассмотренных романах; однако здесь нельзя ставить вопрос о явной или скрытой иерархии. История и литература в равной степени являются означающими системами нашей культуры, создают смысл нашего мира. Такой урок дает нам наиболее поучительная из всех форма постмодернизма — историографическая метапроза.
Литература
1. Angenot, Marc. «L’Intertextualite: enquete sur l’ernergence et la diffusion d’un champ notionnel.» Revue des sciences humaines 189. No. 1 (1983): 121-35.
2. Barilli, Renato. Tra presenza e assenza. Milan: Bompiani, 1974.
3. Barth, John. The Sot-Weed Factor. New York: Doubleday, 1960.
4. Barth, John. Letters. New York: Putnam, 1979.
5. Barthes, Roland. The Pleasure of the Text. Translated by Richard Miller. New York: Hill & Wang, 1975.
6. Barthes, Roland. Image, Music, Text. Translated by Stephen Heath. New York: Hill & Wang, 1977.
7. Belsey, Catherine. Critical Practice. London: Methuen, 1980.
8. Bennett, Susan. «Horrid Laughter.» Paper presented at the annual meeting of the Canadian Comparative Literature Association, Montreal, 2 June 1985.
9. Berger, Thomas. Little Big Man. New York: Dial, 1964.
10. Bradbury, Malcolm. The Modern American Novel. Oxford: Oxford University Press, 1983.
11. Braudel, Fernand. On History. Translated by Sarah Matthews. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
12. Byerman, Keith E. Fingering the Jagged Grain: Tradition and Form in Recent Black Fiction. Athens: University of Georgia Press, 1985.
13. Calinescu, Matei. «Ways of Looking at Fiction.» In Garvin 155-70.
14. Canary, Robert H., and Henry Kozicki, eds. The Writing of History: Literary Form and Historical Understanding. Madison: University of Wisconsin Press, 1978.
15. Christensen, Inger. The Meaning of Metafiction: A Critical Study of Selected Novels by Sterne, Nabokov, Barth, and Beckett. Bergen and Oslo: Universitetsforlaget, 1981.
16. Coover, Robert. The Public Burning. New York: Viking, 1977.
17. Daitch, Susan. L.C. London: Virago, 1986.
18. Derrida, jacques. «Signature Event Context.» In Glyph I: Johns Hopkins Textual Studies, 172-97. Baltimore: johns Hopkins University Press, 1977.
19. D’haen, Theo. «Postmodernism in American Fiction and Art.» In Fokkema and Bertens 211-31.
20. Ditsky, john. «The German Source of Ragtime: A Note.» In Trenner 179-81.
21. Doctorow, E. L. Welcome to Hard Times. New York: Simon & Schuster, 1960.
22. Doctorow, E. L. The Book of Daniel. New York: Bantam, 1971.
23. Doctorow, E. L. Ragtime. New York: Random House, 1975.
24. Doctorow, E. L. Loon Lake. New York: Random House, 1979.
25. Eagleton, Terry. «Capitalism, Modernism, and Postmodernism.» New Left Review 152 (1985): 60-73.
26. Eco, Umberto. Postscript to The Name of the Rose. Translated by William Weaver. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1983.
27. Fokkema, Douwe W., and Hans Bertens, eds. Approaching Post-modernism. Amsterdam: Benjamins, 1986.
28. Foley, Barbara. «From USA to Ragtime: Notes on the Forms of Historical Consciousness in Modern Fiction.» In Trenner 158-78.
29. Foucault, Michel. Language, Counter-Memory, Practice. Translated by D. F. Bouchard and S. Simon. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1977.
30. French, Philip. Westerns. London: Seeker & Warburg, 1973.
31. Garvin, Harry R., and james Heath, eds. Romanticism, Modernism, Postmodernism. Lewisburg, Pa.: Bucknell University Press, 1980.
32. Gass, William H. Habitations of the Word: Essays. New York: Simon & Schuster, 1985.
33. Gates, Henry Louis, jr. «The Blackness of Blackness: A Critique of the Sign and the Signifying Monkey.» In Gates 284-321.
34. Gates, Henry Louis, jr. ed. Black Literature and Literary Theory. London: Methuen, 1984.
35. Gilbert, Sandra, and Susan Gubar. The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination. New Haven: Yale University Press, 1979.
36. Graff, Gerald. Literature Against Itself: Literary Ideas in Modern Society. Chicago: University of Chicago Press, 1979.
37. Greene, Thomas M. The Light in Troy: Imitation and Discovery in Renaissance Poetry. New Haven: Yale University Press, 1982.
38. Gross, David S. «Tales of Obscene Power: Money and Culture, Modernism and History in the Fiction of E. L. Doctorow.» In Trenner 120-50.
39. Hansen, Elaine Tuttle. «Marge Piercy: The Double Narrative Structure of Small Changes.» In Rainwater and Scheick 208-28.
40. Hellmann, John. Fables of Fact: The New Journalism as New Fiction. Urbana: University of Illinois Press, 1981.
41. Holder, Alan. »’What Marvelous Plot … Was Afoot?’ History in Barth’s The Sot-Weed Factor.» American Quarterly 20 (1968): 596-604.
42. Hutcheon, Linda. A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms. London and New York: Methuen, 1985.
43. Jameson, Fredric. «Postmodernisrn, or the Cultural Logic of Late Capitalism.» New Left Review 146 (1984): 53-92.
44. Kern, Robert. «Composition as Recognition: Robert Creeley and Postmodern Poetics.» Boundary 2 26-27 (1978): 211-30.
45. Kiremidjian, G. K. «The Aesthetics of Parody.» Journal of Aesthetics and Art Criticism 28 (1969): 231-42.
46. Knapp, Peggy A. «Hamlet and Daniel (and Freud and Marx).» Massachusetts Review 21 (1980): 487-501.
47. Kristeva, Julia. Semeiotik~.. Recherchespour une semanalsse. Paris: Seuil, 1969.
48. Kundera, Milan. Jacques and His Master: An Homage to Diderot in Three Acts. Translated by Michael Henry Heim. New York: Harper & Row, 1985.
49. La Capra, Dominick. History and Criticism. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1985.
50. Lee, A. Robert, ed. Black Fiction: New Studies in the Afro-American Novel Since 1945. London: Vision Press, 1980.
51. Leitch, Vincent B. Deconstructive Criticism: An Advanced Introduction. New York: Columbia University Press, 1983.
52. Levine, Paul. E.L. Doctorow. London: Methuen, 1985.
53. Lodge, David. The Modes of Modern Writing: Metaphor, Metonymy, and the Typology ofModern Literature. London: Edward Arnold, 1977.
54. Lyotard, Jean-Francois, Instructions paiennes. Paris: Galilee, 1977.
55. McConnell, Frank. «Ishmael Reed’s Fiction: Da Hoodoo Is Put on America.» In Lee 136-48.
56. McHale, Brian. «Modernist Reading: Post-Modern Text: The Case of Gravity’s Rainbow.» Poetics Today 1, nos. 1-2 (1979): 85-110.
57. Malmgren, Carl Darryl. Fictional Space in the Modernist and Postmodernist American Novel. Lewisburg, Pa.: Bucknell University Press, 1985.
58. Mazurek, Raymond A. «Metafiction, the Historical Novel, and Coover’s The Public Burning.» Critique 23, no. 3 (1982): 29-42.
59. Morgan, Robert P. «On the Analysis of Recent Music,» Critical Inquiry 4, no. 1 (1977):33-53.
60. Morrison, Toni. Song of Solomon. New York: Signet, 1977.
61. Musarra, Ulla. «Duplication and Multiplication: Post-modernist Devices in the Novels of Italo Calvino.» In Fokkema and Bertens 135-55.
62. Newman, Charles. The Post-Modern Aura: The Act of Fiction in an Age of Inflation. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1985.
63. Patteson, Richard. «What Stencil Knew: Structure and Certitude in Pynchon’s V.» Critique 16, no. 1 (1974): 30-44.
64. Pynchon, Thomas. The Crying of Lot 49. New York: Bantam, 1966.
65. Rainwater, Catherine, and William J. Scheick, eds. Contemporary American Woman Writers: Narrative Strategies. Lexington: University Press of Kentucky, 1985.
66. Reed, Ishmael, Yellow Back Radio Broke-Down. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1969.
67. Reed, Ishmael, Conjure: Selected Poems 1963-197°. Amherst: University of Massachusetts Press, 1972.
68. Reed, Ishmael, MumboJumbo. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1972.
69. Reed, Ishmael, The Terrible Twos. New York: St. Martin’s/Marek, 1982.
70. Riffaterre, Michael. «Intertextual Representation: On Mimesis as Interpretive Discourse.» Critical Inquiry 11, no. 1 (1984): 141-62.
71. Rochberg, George. Jacket notes for String Quartet no. 3. Nonesuch H71283.
72. Saad, Gabriel. «L’Histoire et la revolution dans Le Siecle des lumieres» In Quinze Etudes autour de El Siglo de las luces de Alejo Carpentier, 113-22. Paris: L’Harmattan, 1983.
73. Said, Edward. Beginnings: Intention and Method. New York: Basic Books, 1975•
74. Said, Edward. The World, the Text, and the Critic. Cambridge: Harvard University Press, 1983.
75. Said, Edward. «Culture and Imperialism» course at University of Toronto, Fall 1986.
76. Schmidt, S. J. «The Fiction Is That Reality Exists: A Constructivist Model of Reality, Fiction, and Literature.» Poetics Today 5, no. 2 (1984): 253-74.
77. Schulz, Max F. Black Fiction of the Sixties: A Pluralistic Definition of Man and His World. Athens: Ohio University Press, 1973.
78. Seelye, John. «Doctorow’s Dissertation.» New Republic 174, no. 15 (1976): 21-3.
79. Showalter, Elaine. A Literature of Their Own: British Woman Novelists from Bronte to Lessing. Princeton: Princeton University Press, 1977.
80. Sisk, John. «Aquarius Rising.» Commentary (May 1971): 83-84.
81. Stark, John. «Alienation and Analysis in Doctorow’s The Book of Daniel.» Critique 16, no. 3 (1975): 101-10.
82. Steinberg, Cobbett. «History and the Novel: Doctorow’s Ragtime.» Denver Quarterly 10, no. 4 (1976): 125-30.
83. Steiner, Wendy. «Intertextuality in Painting.» American Journal of Semiotics 3, no. 4 (1985):57-67.
84. Tanner, Tony. City of Words: American Fiction 1950-1970. New York: Harper & Row, 1971.
85. Taylor, Gordon O. «Of Adams and Aquarius.» American Literature 46 (1974):68-82.
86. Thiher, Allen. Words in Reflection: Modern Language Theory and Postmodern Fiction. Chicago: University of Chicago Press, 1984.
87. Trenner, Richard, ed. E. L. Doctorow: Essays and Conversations. Princeton: Ontario Review Press, 1983.
88. Vonnegut, Kurt, Jr. Slaughterhouse-Five or the Children’s Crusade: A Duty Dance with Death. New York: Delacorte Press, 1969.
89. Wagner, Linda W. «Toni Morrison: Mastery of Narrative.» In Rainwater and Scheick 190-207.
90. Waugh, Patricia, Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious Fiction.London: Methuen, 1984.
91. White, Hayden. «The Historical Text as Literary Artifact.» In Canary and Kozicki 41-62.
92. White, Hayden. «The Question of Narrative in Contemporary Historical Theory.» History and Theory 23 (1984): 1-33.
93. Wimsatt, W. K., Jr. The Verbal Icon. 1954. Reprint. Lexington: University Press of Kentucky, 1967.
94. Wylder, Delbert E. «Thomas Berger’s Little Big Man as Literature.» Western American Literature 3 (1969): 273-84.
Источник: ieas.unideb.hu




Комментарии