Владимир Кантор
Реальность той стороны луны!
Мемуаристика о советском времени — никак не детектив. Но Владимиру Кантору удается заставить в это поверить.
 2 704
2 704 
© Eric Chan
Та сторона луны — это тайна, о которой знали только специалисты, космонавты и астрономы. Что уж говорить о тех, кто там провел не один день. Я говорю так отчетливо, ибо знаю, что мой родной дядя, брат отца, как раз и был человек лунной природы. Обманная, загадочная луна. Ведь Запад, где он жил годами (с тридцатых до середины пятидесятых), — это все другая сторона луны, на которую я никогда не ступлю. Не ступлю, как разведчик, как герой. А для него это была реальность. А можно и по-другому сказать: вся страна была покрыта сетью архипелагов, и кроме архипелага ГУЛАГ был и архипелаг СМЕРШа, военной разведки, ЧК и пр. Не говорю уж об архипелагах структур, работавших на власть. Все архипелаги подчинялись нечеловеческим законам, но внешне были почти как люди. Хотя, быть может, у них были свои неземные поверхности.
Не знаю, в каждой ли семье бывает любимый подростком дядя, который при этом, а может и благодаря тому, выглядит немного загадочно. Как в английских таинственных романах типа Диккенса или Уилки Коллинза, Стивенсона и Конан Дойла, в основном англичане — мастера криминального жанра и создатели самой мощной разведки.

Я даже знал от отца его разведческий псевдоним «Лео из Ла Риоха». Были еще кодовые имена — Турбан, Нарсисо, последний почему-то запомнился — «Кораблев». Лео, однако, был основной. Но дома не было принято об этом говорить. Потом уже, прочитав мемуары, где о нем говорилось вскользь, понял уже окончательно происхождение клички. Цитирую начало этих казенных мемуаров с пояснениями:
«Алексей Павлович Коробицин родился в 1910 году в Аргентине в городе Ла-Риоха. Не совсем понятно, почему по документам он значится Павлович, а не Моисеевич или Михайлович, как его братья. Отец, Моисей Кантор, был по образованию геолог, а по роду деятельности — революционер. В годы первой русской революции участвовал в экспроприациях, которые устраивали анархисты, после таких акций они раздавали захваченные средства нуждающимся. Был арестован, отсидел 11 месяцев в тюрьме. В 1909 году бежал из ссылки и вместе с женой, Лидией Коробициной, учительницей химии и тоже революционеркой, и двумя детьми эмигрировал в Аргентину. Там Кантор работал геологом, профессором университета. В Аргентине у супругов родился третий сын, Алексей.
В 1924 году семья возвратилась в СССР. Алексей пошел учиться в ФЗУ, вступил в комсомол. В 18 лет пошел служить на Балтийский флот. После службы шесть лет ходил на торговых судах. Во время испанской войны попал в Испанию переводчиком, работал с военно-морским атташе и главным военно-морским советником будущего адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. Алексей Павлович покинул Испанию одним из последних, в конце 1938 года. За проявленную доблесть и мужество в боевых операциях при оказании помощи командованию ВМФ Республиканской Испании Коробицин А.П. награжден орденом Красного Знамени. Вернувшись из Испании, попал на работу в разведку, стал резидентом в Мексике. Не отзови его Центр в 1941 году, может статься, и судьба его сложилась бы по-иному…»
Два пояснения
1. Бежали они в Константинополь на лодке контрабандиста, перед турецким берегом начался шторм, но спасать их никто не выходил. Тогда лодочник сорвал с ребенка штанишки и раздвинул ножки, показав публике, что это мальчик. И несколько лодок вышло в море. Мальчиков турки спасали. А уж оттуда через пару лет перебрались в Аргентину.
2. Об отчестве: дед ушел к другой женщине, моей бабушке, матери отца. Их брак они зарегистрировали в Эквадоре в 1923 году, когда отцу уже был год. Это свидетельство я нашел в столе, отдал папе, но он куда-то его убрал. Три сына среагировали на уход отца каждый по-своему. Дядя Саша так и остался Александром Моисеевичем Кантором, всю войну проработал диктором на радио, вещавшем на испанском языке. Дядя Лева взял фамилию матери, отчеством — имя другого деда, стал Львом Александровичем Коробициным. Во время войны капитан морской пехоты Коробицин погиб, закрыв своим телом немецкий дзот. А судьба дяди Алеши совсем другая. Он тоже взял фамилию матери, а отчество возникло как отчество его деда Александра Павловича Коробицина, старообрядческого священника. У меня есть фотография, в центре которой сидит милая высокая русоволосая интеллигентная женщина, Лидия Александровна Коробицина, первая жена деда, дочь старообрядческого попа, а вокруг нее сыновья — трое крупных парней. Дядя Алеша меньше ростом, чем два брата, взгляд лукавый и умный. Роста он и впрямь был невысокого. Если у отца был рост один метр 76 см, то у дяди Алеши был рост метр 72.
О дяде Алеше Коробицине я знал уже лет с восьми только то, что он воевал в Испании, потом надолго исчезал, отец говорил, что он служит капитаном на кораблях дальнего плавания. Моряк! Капитан! Конечно, герой! Больше ничего не знал. А потом вдруг в 1956 году, мне 11 лет, он поехал с нами (папой, мамой и мной) отдыхать в Джубгу. Маленькая деревушка на берегу Черного моря, в море впадала река, по этой реке под свисающими перевитыми ветвями мы как-то по предложению дяди Алеши поплыли на двух лодках вверх по течению. В реке шныряли рыбки, некоторые довольно крупные, мы с мальчишкой-соседом ловили их по утрам. Страшноваты были змеи, не очень большие, тонкие, гибкие, с маленькими головками, но мы их боялись, поскольку не знали, ядовиты они или нет. Сейчас иногда я думаю, что моего дядю Алешу, улыбчивого и добродушного, те, которые подозревали его профессию, тоже могли опасаться, не нанесет ли он смертельный удар. Уже потом, лет семь-восемь спустя я как-то спросил его, носил ли он оружие (мальчишке лестно видеть героя), на что дядя Алеша усмехнулся: «Как правило, нет, только если нужно было по роли» «А как же — заранее изнемогая от мальчишеского героизма, спросил я, — сражаться?» Он вдруг рассмеялся: «В моем деле сражаются умом. Я почти никогда не стрелял, если не был в бою».
Но это уже был более поздний разговор. А пока мы плыли по реке, над нами свисали ветви, похожие на лианы, тень закрывала нас от жары. А километров пять выше по реке мы наткнулись на плетеный мост, как в приключенческих книгах: деревянные дощечки днища и ветви и лианы как перила. Конечно же, мы прошли по нему: рядом с дядей Алешей ничего не было страшно. Странное спокойствие. Потом это спокойствие подтвердилось удивительным образом. На следующий день мы гуляли в парке, и вдруг на шею отца попал энцефалитный клещ. Мама первая заметила и закричала. Отец даже не почувствовал, а тут, услышав крик, повернулся, увидел клеща и попытался ударить по нему ладонью, чтобы убить его. Реакция дяди Алеши меня поразила. Он перехватил руку отца и сказал: «А вот этого делать не надо. Не тронь его!» Отец заметно занервничал. Дядя Алеша рассмеялся своим тихим улыбчивым смехом: «Когда мы партизанили в Гомельских лесах, мы нарочно ловили этих клещей, сажали на руку и смотрели, как они вгрызались и протачивали себе дорогу». Мама нервничала: «Алеша, хватит шутить! А как вы спасались?» Он провел рукой по усам и опять усмехнулся: «А очень просто. Капали на то место, куда клещ въелся, каплю керосина, он сразу и вылезал». Но керосина ведь у нас с собой не было, хотя в съемной приморской комнате керосинка стояла. Но успеем ли мы дойти-добежать до комнаты, мы далеко ушли в лес.
Родители и вправду испугались, я, глядя на них, тоже. Это была неожиданная опасность среди жаркого и расслабляющего отдыха. Хотя это казалось, если взглянуть как бы со стороны, словно рассказанная кем-то, будто безумцем, история, которой вообще-то быть не должно в этом мире. «История человеческой жизни — это история, рассказанная безумцем», — как писал Шекспир. А я был довольно начитан. Здесь немножко запахло безумием. Но родители всерьез рассуждали об опасности. Тогда дядя Алеша встал, сходил к мужикам, приехавшим на машинах, взял у них пузырек с бензином и вернулся. Несколько капель — и клещ, работая всеми лапками, начал выбираться. Дядя Алеша стряхнул его на землю и раздавил. У меня все это было в голове как-то сразу перемешано. Вроде это было, наверно, на самом деле, когда-то было страшно, а теперь это просто почти бытовая шутка. Как история из книги.
А потом пошли на пристань нырять и плавать. И опять мое представление немного сломалось. Дядя Алеша — моряк, капитан, герой. Когда к нам домой приезжал его друг Машевич из Латинской Америки, он качал меня на носке ботинка и пел: «Капитан, капитан, улыбнитесь! Ведь улыбка — это флаг корабля!» И я понимал, что это про дядю Алешу. Сам дядя Алеша относился к Машевичу немного иронически. Уже много позже сказал мне: «С ним было трудно работать. У него в каждом кармане было по пистолету на боевом взводе. Верный шанс провалиться». Я удивился: «А вы разве не отстреливались?» Надо было видеть его смущенно-ласковую улыбку: «Никогда. Мне никогда по роли не приходилось этого делать. Ведь побеждаешь умом, а не пулей. А когда приходилось стрелять, стрелял. Но это уже на Гомельщине, в партизанах».
Я ждал, как он красиво нырнет и уплывет далеко-далеко, уж во всяком случае, не хуже местных деревенских приморских пацанов. Сказать, что он разочаровал меня, было бы неправдой. Просто я тут же решил, что так и должно быть. А он как-то солдатиком спрыгнул с мостков, минут пятнадцать поплавал вокруг деревянной пристани, почти по-собачьи, потом влез на доски причала и развалился загорать. К этим доскам только раз в неделю приходил теплоход, о котором кричали рупоры: «К пристани прибывает теплоход “Агат” типа “Жемчужина”». И играли «Мишку»: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня?..» К вечеру теплоход отчаливал. Оставался просто деревянный настил.
И странное дело: вместо разговоров о военных приключениях (хотя потом я понял, что по-настоящему воевавшие не любят рассказывать военные истории) дядя Алеша рассказывал историю о том, как пытается напечатать свою первую книгу рассказов о Мексике «Жизнь в рассрочку» (1957). Как потом уже я понял, его выперли на пенсию, в отставку. Сорок шесть лет — не время даже для военной пенсии. Он как-то сам сквозь зубы бросал, что те, кто мог его поддержать, были уже в начале пятидесятых расстреляны. Новое начальство его уважало, но не могло преодолеть обстоятельства, что у дяди Алеши не было военного образования. Хотя навоевано им было на несколько генеральских званий. Без дела он сидеть не мог, видел много, писательский дар был очевиден, хотя не про все можно было писать. Но сюжеты он находил. Много видел, в любом случае можно найти нечто неожиданное. Как в любом кусочке жизни, если ее видеть.
Его хоронили в 1966 году в ЦДЛ, я еще вернусь к этому сюжету. Выступали писатели и говорили, что главную книгу Алеша не написал. И тогда генерал из военной разведки вдруг сказал: «Нет, написал, но вы ее никогда не прочтете». Название книги знал отец (хотя и он не читал). Книга называлась «Искусство перевоплощения». Никогда я ее тоже не видел.
Пока же речь шла о том, что цензура не пропускала рукопись, поскольку трудно было объяснить, почему советский капитан знает такие точные детали мексиканского быта. Дядя Алеша острил: «Я им предложил, чтобы книга вышла под псевдонимом АЛЬПАКО. То есть так якобы зовут реального автора — мексиканца АЛЬПАКО. Но дальше слова: «“В переводе Алексея Павловича Коробицина”. Смеются, но отказываются». Шутка и впрямь была прозрачна, хотя для дураков, может, и не очень понятна. Книга все же вышла под его именем, может, военное начальство прикрикнуло на писательскую цензуру — не знаю.
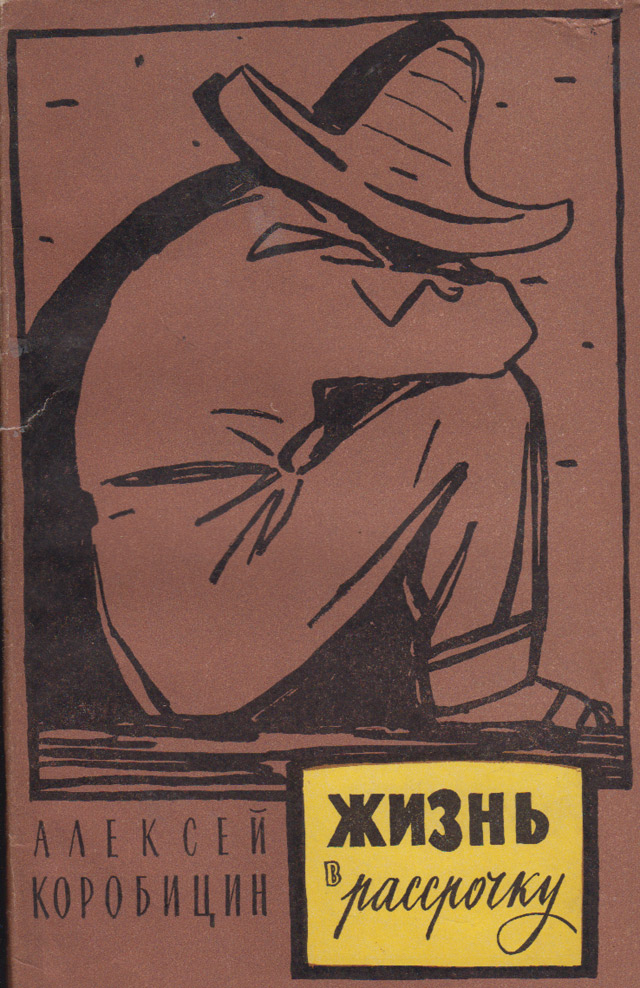
Но лето кончилось, и теперь видел я любимого дядю не чаще двух-трех раз в год. А он и вправду был любимый дядя, тот человек, глядя на которого физиономия почему-то расплывалась от удовольствия и счастья. О его военных делах мы не говорили, он выпустил новую книгу «Хуан Маркадо — мститель из Техаса» (1962), где работал сюжет двойничества, о котором я позже писал в своих литературоведческих и культурфилософских текстах. Было два брата-близнеца мексиканцы, но один — Хуан Маркадо — вырос в бедной семье, второй — Рикардо Агирре — в богатой гасиенде. Во время восстания Хуана Маркадо его богатый брат спасает близнеца. И узнает тайну. А когда в бою с американскими войсками Хуан погибает, брат называется его именем, показывая родимое пятно, которое вроде бы отличало братьев. И только верные друзья понимают героизм Рикардо, восстание Хуана Маркадо продолжается. Думаю, что книга была написана столь искренно, ибо момент мужества и самопожертвования был, конечно, у героев от автора. В этом году я оканчивал десятый класс. Оканчивал скверно, у меня было две двойки в году (то есть переэкзаменовки) и тройка в году по поведению. Литератор меня хотел перевоспитать, да и все почему-то думали о моем перевоспитании. Очень часто вместо школы я шел мимо нее в Тимирязевский парк, гулял там и размышлял обо всем сразу. О том, почему никто не желает дружить со мной так, как я хотел бы, как «три мушкетера», например. И чтобы был такой брат, как в романе дяди Алеши. Но младший хотел быть первым, а потому дружбы не получалось.

На мою удачу была введена одиннадцатилетка, поэтому у меня был шанс пересдать и остаться в школе. Двойки были по литературе и русскому языку. Идейные расхождения с учителем решались просто. Вначале он играл в свободолюбивого преподавателя, требовал, чтобы мы с ним спорили. Придумал ШПТ, что значило «школьный поэтический (потом полифонический) театр». Пытавшиеся играть в свободных приняли с восторгом полифонические представления о том, как Пушкина убил император Николай и как русская поэзия мстила за него. Правда, местный остряк, хулиган и двоечник вырезал на школьном столе: «Покупайте ДДТ и травите ШПТ». У него было много любимцев, быстро усвоивших советскую систему, его называли и называют «культовый учитель по литературе». К 80-летию выпустили книгу о нем, где я стою на первом месте среди его удач: «Его учительский путь в Москве начался в девятой специальной школе. Среди ее выпускников-гуманитариев — Владимир Кантор, Нина Брагинская, Татьяна Венедиктова, Марк Фрейдкин». Да, это была школа Юлия Анатольевича Халфина. Спорить было надо, но так, чтобы правота все равно была на стороне препа. Пока не стало ясно, что в результате спора надо было прийти к его же тезису — вполне большевистская система. Типа, считается так-то, но коммунистическая идеология все равно права. За мои несогласия я получил две двойки в году и обещание, что переэкзаменовку я никогда не сдам и пойду учиться в вечернюю школу. «Это будет для тебя хорошая школа жизни», — сказал он. Спасибо завучу, с которой я спорил, но у которой хватило соображения не давать мне волчий билет. Но на тройке по поведению в году Халфин настоял за то, что я «имел наглость временами отвечать ему резко и настраивать против него класс». Месть писателя всегда словесна. В романе «Крепость» я изобразил его как подловатого человека по имени Григорий Александрович Когрин (он же Герц Ушерович). Понятное дело, что антисемитских мотивов не было, но мне хотелось показать, как человек строит из себя русского, даже православие принял. Когрин обвинил моего героя в покушении на него, хотя знал, что булыжник в него кинул местный хулиган. А он верил, что русский народ не способен к злу, если его интеллигент не подучит, как Иван Карамазов Смердякова. Самое безумное в этой истории было, что весь класс считал, что лучше меня из одноклассников литературы никто не знает, что я больше всех читал. Такое простое нарушение логики преподавания явилось своего рода маленьким уроком жизни, что дело не в реальности, а в мозгах того, кто решает твою судьбу, в безумном решении начальника.
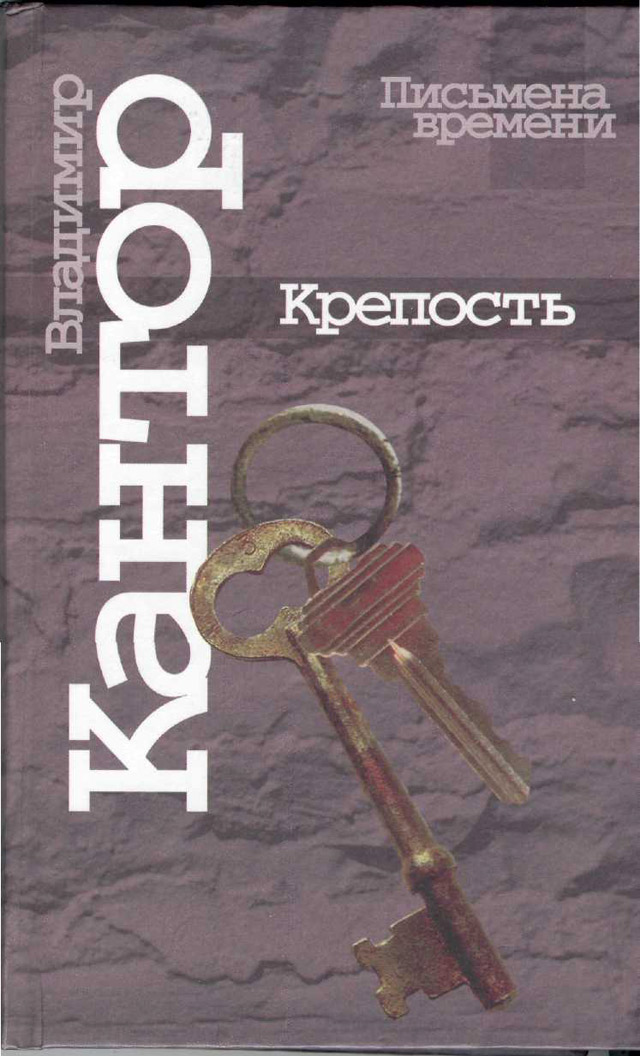
Но к этим двум двойкам решила примазаться толстая и рыжая англичанка Марья Ниловна, никем не любимая. За что меня она не любила, не знаю, я всегда был на неплохом счету. Но ведь переправить четверку на двойку в общем ажиотаже можно. Встретив меня в коридоре, спросила: «Что, Кантор, скоро расстанемся? Больше в школе не увидимся?» Уже в полном отчаянии от всех своих неприятностей, я неожиданно сострил, довольно зло: «А что, Мария Ниловна, вас из школы увольняют?» Она остолбенела, а я, получив маленькую сатисфакцию, поехал домой.
Дома ждал меня непростой разговор, хотя отец готов был меня поддержать. Но крестьянское начало мамы требовало, чтобы, даже не соглашаясь с барином, все равно участок выкосить, как надо. Изгнанная дважды с работы, она принимала как должное не протест, а противопоставить несправедливости — работу. В университете она занялась генетикой по совету друга деда и нашего соседа по дому Антона Романовича Жебрака, известного биолога. Надо сказать, мама нервничала поначалу, но дядя Алеша, который оказался в тот момент в Москве, вывезенный из гомельских лесов, сказал, что она справится, что отец (то есть мой дед) направил ее к хорошему человеку. Но мама, уже решив что-то, делала так, как, полагала, лучше никто не сделает, она, выражаясь языком характеристики, «проявила себя как хороший исследователь», ее хвалил сам Раппопорт. И потом именно за это она и была уволена как любимая ученица знаменитого российского биолога-генетика Иосифа Абрамовича Раппопорта, одного из основоположников отечественной генетики, выступившего на знаменитой августовской сессии ВАСХНИЛ против Лысенко. Надо добавить, что Раппопорт прошел всю войну, был награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова. За боевую операцию по соединению с американскими союзниками был представлен к Герою Советского Союза, вместо этого был награжден орденом Отечественной войны, а также получил американский орден «Легион Почета». Что, наверно, впоследствии вызывало подозрения. В 1949 году за несогласие с решениями сессии ВАСХНИЛ Раппопорт был исключен из ВКП(б). Он был едва ли не единственным, кто осмелился выступить против сталинского биолога Лысенко. А маму просто выгнали с работы, она пошла чернорабочей. Хотели восстановить эмнеэсом, но потом оставили в 1949 году на той же работе — копать, корчевать и пр. — за то, что не согласилась поменять еврейскую фамилию мужа Кантор на девичью русскую. И еще одно добавление. Когда мама вернулась в науку, поступив на работу в Институт садоводства в Бирюлево (НИЗИСНП), она вывела новый вид (соединение земляники и клубники) — земклунику, очень любимую одно время дачниками. Так вот, самый популярный сорт она назвала «РАПОРТ», в честь Раппопорта. Это был знак любви и признательности, мать умела быть благодарной за науку. Об этом говорится сегодня в биологических справочниках, цитирую статью под названием «Что за чудо, посмотри-ка, — созревает ЗЕМКЛУНИКА»: «В 70-х годах прошлого века селекционеру Татьяне Сергеевне Кантор удалось получить уникальный гибрид. Гибрид между клубникой мускатной и земляникой садовой крупноплодной. …Татьяна Сергеевна Кантор ушла из жизни, так и не успев официально зарегистрировать эти сорта. Тем не менее они радуют садоводов вот уже четвертый десяток лет. …Во Франции получен землянично-клубничный гибрид под названием Ville de Pari» [1]. Стоит зайти на сайт «Земклуника», где многое рассказывается. Правда, как и учителю, ей за ее открытие досталось от начальства. Когда маму начли приглашать во Францию тамошние коллеги-селекционеры, ее еще до выслуги пенсионного возраста уволили, сильно сократив тогдашнюю пенсию, земклунику объявили достижением Института садоводства, а на международные конференции начал ездить директор. Правда, названия сортов поменять он не посмел. Мама же, чтобы выработать нужный пенсионный срок, на старости лет снова последний год отработала чернорабочей. И директор Василий Григорьевич Трушечкин (кстати, тоже участник войны с наградами, о которых теперь не знаю, что и думать) не постеснялся ее взять на эту должность именно в том институте, где было сделано открытие. Начальство у нас всегда умело использовать людей, нечто сделавших, но по возможности не давало шансов на личный успех. Прямо по Высоцкому: «Кому сказать спасибо, что живой?!» В нашей истории всякое бывало. Но вернусь к своей переэкзаменовке.
Разговор получился, слава Богу, в смягченных тонах. Отец и дядя Алеша пили армянский коньяк под лимон, мама готовила чай. У обоих глаза были совсем не строгие. «Да ладно, Карл, — сказал дядя Алеша, — вспомни, какие мы были. Как ты из лесной школы в Испанию сбежать пытался. А как я в порту дрался. Меня же привезли в матросском костюмчике, и меня тут же в порту избили и раздели, а я дубиной огрел местного начальника, потом почти голышом до нашего отца бежал. А ты англичанке остроумно ответил, молодец». «Ну, хорошо, — сказал отец, уже немного хмельной, — с литературой я понимаю, но почему все же тебе чуть пару по английскому не вкатили?» Я снова пересказал свой, как мне казалось, остроумный ответ и добавил, что по-английски на уровне школьной программы я вполне понимаю. Дядя Алеша ухмыльнулся: «Ты считаешь, что это и есть знание языка? Язык требует вживания, ты в нем себя должен, как в своей одежде, чувствовать». «Как это?» Тут у меня мелькнуло соображение, что я получу сейчас какой-нибудь шпионско-лингвистический урок. Дядя Алеша сидел немного размягченный, бутылка армянского конька была наполовину выпита. «Необходимо то, что я называю лингвистическим нахальством. Надо говорить так, будто ты понимаешь. Я так немецкий выучил». «Как это? А вы разве не немца там играли?» Он покачал головой: «Иногда. А тогда я был мексиканским подданным. Да, если уж вспоминать, ситуация была плачевная. Я уплывал последним пароходом из Гамбурга. И вдруг эсесовская проверка. А документы мне приготовили немецкие подпольщики, это была такая липовая работа, что мне самому страшно было глядеть на них. Тем более показывать эсесовцам. И когда предложили сойти провожающим на берег, я вылетел на берег. Надо было что-то решать, мысль в тревоге работает быстро, если ты не трус. Я взял такси и поехал в мексиканское консульство. Там сидел как всегда пьяный консул. Он мне протянул стакан текилы (есть такой хмельной латиноамериканский напиток). Я отказался и начал орать на него, что он не исполняет своих прямых обязанностей, что на паспорте до сих пор нет мексиканской визы. А мексиканская виза со всеми ее картинками занимала как раз две страницы. Он лениво шлепнул визу, прикрыв как раз две сомнительных страницы. И я смело вернулся на корабль. Все обошлось».
Примерно на этих словах беседа переползла на другие темы. А я дал себе слово учить иностранные языки как следует. Прошла пара лет, я поступил на вечернее отделение филологического факультета МГУ, фамилия понизила мне проходной балл, вместо 20 — 18. Это тоже выглядело занятно. Я понимал, что шансов с моей фамилией попасть на филологический у меня маловато, шел 1963 год. Первый экзамен — сочинение, в этом я был уверен, с подросткового возраста заставив себя помнить всю орфографию и синтаксис, учителя говорили, что у меня абсолютная грамотность. Потом английский, который, помня слова дяди Алеши, я учил днем, утром, вечером, слушал пластинки, читал все, что попадалось под руку. И английский я сдал на отлично. История тоже — отлично. Оставалась устная литература и устный русский. Билет достался удачный, и по литературе, и по русскому языку темы я знал. Я все ответил и видел, что принимавшие были довольны. «А что у вас за сочинение?» И достала мое сочинение из лежащей стопки. Оценка была — тройка, удовлетворительно. «Ну, вы понимаете, что больше четверки мы поставить вам не можем». Следующий день был день, когда можно было опротестовать оценки. Я пошел выяснять по поводу сочинения. Доцент достала мою тетрадку, протянула мне: «Сами смотрите». Замечаний не было ни на одной странице, ни одна строчка не была подчеркнута, нигде знака вопроса, но в конце сочинения выведена красными чернилами тройка. Я ошалело показал на оценку и на отсутствие замечаний. Дама-доцент даже покраснела, взяла мой экзаменационный лист, увидела две пятерки и четверку. Очевидно, у нее было разрешение повышать на балл. И я получил четверку и так обрадовался, что дальше права качать не пошел. Опыта не было. Мог и пятерки добиться. Тогда учился бы на дневном, а так и то с помощью отцовского коллеги с трудом попал на вечерний. Просто не было указания, что брать нужно тех, кто на самом деле знает что-то.
Дяде Алеше мне рассказывать не хотелось про это. Уж он бы настоял на своем. Так мне казалось. Почему-то я не задумывался, как это он, такой умный, ловкий, еще не старый, был отправлен в отставку. Но все же разговор состоялся через месяц после поступления. Через месяц некоторых студентов начали вызывать в особый отдел на собеседование. Меня тоже вызвали, но на вопрос, кто мой любимый писатель, я, как всегда честно, ответил: Достоевский, особенно «Преступление и наказание» и «Бесы». Потому, де, что там рассказано многое, что заставляет задуматься. «Молодец, — сказал молодой чиновник в пиджаке и галстуке, — думай, это полезно. Но все же не забудь, как Фадеев изобразил в “Разгроме” интеллигента Мечика как предателя. Вот эту предательскую интеллигентскую суть должен ты в себе вытравлять». Потом ходили по очереди мои однокурсники. А вечером Мишка П., с которым я за этот месяц сдружился, родственник известного литературоведа, шел со мной до метро «Площадь Революции», все что-то хотел рассказать, наконец, у метро отвел в сторону. «Вовка, разговор есть, — он нервничал, потел, протирал очки, но хотел выглядеть значительным. — Знаешь, что мне в особом отделе предложили работать с ними, рассказывать о сомнительных разговорах и тому подобное. Представляешь, какой они нам дали шанс! Не рассказывать ничего реального, а придумывать разговоры и вкладывать их в уста сволочей. Понял? Это же удача!» Я тупо молчал, потому что растерялся. Потом сказал: «Но это же можно и невинного оклеветать!» Мишка возразил: «Не невинного, а негодяя».
Я ехал домой в смутных мыслях. В чем-то Мишка казался мне прав, но чего-то было страшновато, хотя вроде бояться было нечего. Но не хотелось только руку в пасть крокодилу вкладывать, откусит ненароком. Дома неожиданно оказался дядя Алеша, который сказал: «Слышал о твоих неприятностях. Но поверь, это пустяки, о которых не надо даже думать. Или у тебя еще проблемы?» Мама повела нас на кухню, где расставила чашки, налила чай, вынула коробку конфет, насыпала в плетеную из тонкой витой проволоки корзиночку разные сорта печенья. Прихлебывая чай, он улыбался и поглядывал на меня. «Ну?» И я рассказал про особый отдел, про разговор с Мишкой и наши рассуждения, что, вступив в контакт с органами, мы можем принести пользу друзьям. И вообще интеллигентным людям. Папа вопросительно посмотрел на брата:
— Алеша, здесь нужен твой совет. А то я такого наговорю, что лучше не надо.
Он явно нервничал.
— Карл, не суетись, на все есть житейский опыт, у меня он был неплохой. Думаю, у тебя такого не было. Из любой ситуации надо искать выход, а не идти напролом.
И ко мне:
— Вовка, ты что-то ему обещал или только слушал?
— Только слушал.
— Ну вот и молодец. Ума хватило. Теперь меня послушай. История немного другая, но важен принцип. Думаю, у тебя и здесь хватит ума этот принцип извлечь из моего.
— Я постараюсь.
Потрогал указательным и средним пальцами свои небольшие латиноамериканские усы, как он делал, когда не то нервничал, не то думал, как лучше сформулировать. «Я расскажу историю 1947 года, я только что вернулся из очередной командировки, думал пару месяцев отпуск получить, но меня вызвал командир и показал список арестованных и расстрелянных, ГБ не любило военную разведку. Но, глянув на мою усталую физиономию, сказал, что, так и быть, он мне два месяца даст, но чтобы я был осторожнее, а потом отправит сразу на следующее задание».
Вообще, сегодня, когда думаешь, как они сражались с немцами, ожидая каждый момент удара в спину от своих, и боролись, и верили… Какой-то изврат сознания! Но это пустые рассуждения в сторону. Продолжу рассказ.
В кабинете его встретил полковник из органов, называл даже не «товарищ майор», а «Алексей Павлович». И сказал, что они внимательно ознакомились с его работой и очень его работу ценят. Поэтому они хотели бы, чтобы он и с ними поработал. «Ведь на одну страну работаем!» «Я ответил, что это большая честь, но я хотел бы несколько дней для обдумывания предложения. “Конечно-конечно. Недели вам хватит?” Я ответил, что хватит. Через неделю я пришел и сказал, что абсолютно согласен. Он так посмотрел на меня и спросил: “Ваше решение серьезно? Не передумаете?” И я простодушно ответил: “Конечно, нет. Я посоветовался с моим начальством, и мне разрешили!” Он даже подскочил: “Вы что наделали! Вы же подписку давали о неразглашении нашего разговора!” Я честно ответил, что никакой подписки я не давал. “Да, — спохватился инструктор, — я с вас не брал такой подписки. Но мы же знаем, в какой структуре вы работаете, вы это сами должны были понимать!” Я пожал плечами: “Но вы же тоже должны понимать, что, работая в ТАКОЙ структуре, я не мог не поставить в известность о вашем предложении мое начальство”. Он махнул рукой: “Ладно, вы свободны!” — и я ушел, ПОНИМАЯ, что меня ждут неприятности. Но я также понимал, что предложение о совместной работе означало то, что я должен был доносить на мое начальство».
Как написано в одной из бумаг о нем, в 1947-м он вынужден был из военной разведки уволиться из-за отказа перейти в МГБ. Но ушел он позже, после 1949 года, когда космополитизм коснулся всех. Правда, дядю Алешу, по его обмолвкам, отправили в другую командировку, и до 1955 года он был мексиканским консулом в США в Кливленде. Но твердых данных на такого рода людей нет.
Дядя Алеша отхлебнул чай, потом сказал: «Дело, конечно, не в месте, где человек работает, хотя отпечаток есть. Но меня однажды спас от смерти человек, курировавший от органов советское радио во время войны. Это когда я партизанил. Как и все в жизни, начинается любой эпизод с большой неприятности. Нас должны были выбросить в один район Белоруссии, но летчик промахнулся, слишком сильно с земли по самолету немцы били, и выбросил, где смог. Это были гомельские леса. У меня был радиопередатчик и двое сослуживцев, но очень неудобные в гомельских лесах. Один немец-спартаковец, ротфронтовец, другой австриец-коммунист. И все бы ничего, но ни один ни слова по-русски не говорил, кроме “да здравствует товарищ Сталин”. Да на беду мы еще были и в форме эсесовцев. Мы даже парашюты зарыть не успели, как нас местные лесовики схватили и собирались расстрелять, а одежонку нашу поделить. Они обсуждали, не подозревая, что я-то все понимаю. Послушав, я понял, что надо что-то быстро говорить. И я сказал: “Вы, б…и, совсем оборзели? Вам давно никто м…й не драл? Хотите, сучары? Могу устроить!” Мужики опешили: “Чего? Свой, что ли? А чего фрицевские тряпки нацепили на себя?” Дело испортили немцы, закричавшие “рот фронт!” и что-то в этом духе. Мужики, называвшие себя партизанами, одетые в полушубки и валенки, с винтовками и охотничьими ружьями через плечо, скрутили их и потащили куда-то через кусты, говоря, что командир с ними разберется». Как сказал дядя Алеша, а я ему поверил, много пряталось по лесам мужиков, которые и воевать не воевали, но считали себя вправе забирать продукты от крестьян для поддержки своей боеспособности. Нас притащили в землянку, где за столом сидел уже немало выпивший командир и сказал: «Раз есть рация, пусть передадут в Москву, что отряд под командованием такого-то уничтожил столько-то живой силы, техники, пустил под откос три поезда». Дядя Алеша пытался возражать, что у них другое задание, что такой информации от них не ждут. Тогда командир приказал привязать их к деревьям и расстрелять. Стреляли, правда, над головами, а потом бросили в яму, куда два раза в день кидали им хлеб, опускали кувшин воды, а по вечерам расстреливали. И срок им дали трое суток. Если через трое суток Совинформбюро не передаст нужную информацию, их расстреляют. Радиограмму пришлось передать, и дядя Алеша подписался суперсекретным псевдонимом «Лео». Это был псевдоним на случай ЧП. Но начальство не сочло их ситуацию ЧП. «Мы Алексея с другим заданием посылали и этой информации от него не ждем». А в гомельском лесу их расстреливали каждый вечер. Иногда командир, кроме кружки воды, предлагал кружку самогона. Но дядя Алеша как начальник маленькой группы это запретил. Так и жили в ледяной земляной яме три дня. На третий день их вытащили в землянку, посадили за стол со связанными руками. Перед ними сидел густобородый командир с помощниками, стояла бутыль самогона, лежали пласты сала, а еще перед каждым лежали пистолеты. В центре стола стоял радиоприемник, рядом радиопередатчик разведчиков. Как говорил дядя Алеша, все они были бледные и напуганные: разведчики — ожидая близкой смерти, а партизаны не были до конца уверены, тех ли они собираются расстрелять и не придется ли отвечать за это собственной шкурой, если приедут другие представители с Большой земли. Уже после рассказа я вспомнил роман Хемингуэя «По ком звонит колокол». Как американец попадает в испанский партизанский отряд, где оказывается чужим, хотя пришел с заданием от республиканского руководства.
Пробило двенадцать часов. Последняя сводка от Совинформбюро. И вдруг голос Левитана сообщает, что в гомельских лесах такой-то партизанский отряд под командованием такого-то командира уничтожил … живой силы, техники и пр. Произошло волшебное превращение, им развязали руки, принялись лебезить, кормить и поить. Это было чудо, но созданное человеческими руками. Когда радиограмма была получена в Ставке, начальство учитывать просьбу Лео не пожелало. На счастье в этот момент в кабинете был друг дяди Алеши, который осмелился вмешаться в разговор: «Но раз Алеша просит, значит, это ему нужно для какой-то игры. Мы все его знаем и знаем, что попусту он такой текст не пошлет». Говорившего не послали, поскольку он принадлежал другой организации, которая по негласному соглашению была выше других. И дядя Алеша сказал: «Дело не в организации, а в человеке. Организация портит, но человек может оказаться сильнее. Вот и подумай, сможет ли твой друг сделать то, что сделал Митяй? Что же о начальстве, то у начальства всегда мозги плохо вращаются. И начальство сказало Митяю, что его ведомства эта проблема не касается, что они сами разберутся. Единственное, что сумел сделать Митяй, — переписать радиограмму и с тем уйти. А потом он пошел в контору Совинформбюро и стал просить их передать текст. От себя, по его просьбе, без разрешения начальства. Разумеется, те отказали. И тогда Митяй купил себе батон и несколько пачек кефира и остался жить на лестнице Совинформбюро. Постелил газеты на ступеньки — на них и жил, ел, спал, ночевал. Конечно, его давно бы выгнали, если бы не удостоверение Органов. Но и то — они звонили регулярно его начальству. Но там махнули рукой: дружбу, как ни странно, и они уважали. Но Митяй не просто спал: четыре раза в день он заходил в рубку Совинформбюро и снова выкладывал перед ними записку с данными. Каждый раз усиливая натиск, понимая, что время уже делится не на дни, а на часы, даже минуты. И он победил. В последние минуты передача была сляпана, а мы были спасены.
Дальше начались другие проблемы. Нам пришлось влиться в отряд, где командир хотел прятаться, а не фашистов убивать. Но пришлось, отряд окружили. Воевать он не умел, в первом бою и погиб. Большая земля потребовала, чтобы я принял командование. Если ты когда-нибудь прочтешь роман “По ком звонит колокол” Хемингуэя, там был американский разведчик Роберт Джордан, которого послали к партизанам помочь в борьбе с франкистами, — история романтическая, но невеселая. Мост он взорвал, но погиб. Я не погиб, но еле живой был вывезен на Большую землю. А моя “Мария”, майор медслужбы, ты ее знаешь, стала моей женой». Да, ее звали очень строго: Виолетта Николаевна. Вообще, имена жен моих дядей были экзотические. Скажем, у старшего была Зумруд.
А вот данные об этом из одной из его характеристик:
«А в апреле его, в звании старшего лейтенанта, включили в разведывательную группу “Лео”, которая должна была действовать в немецком тылу. Командовал группой Алексей Коробицин, его старый знакомый еще по Мексике. В ее состав, кроме Коробицина (“Лео”) и Кравченко («Панчо»), входил радист Г. Антоненко (“Поль”) и два австрийских антифашиста — И. Штейнер (“Тарас”) и М. Ляйтнер (“Максим”). Это их едва не погубило.
В июне 1942-го группа была сброшена в районе Чечерска Гомельской области. После высадки “Лео” должен был встретиться с командиром партизанского отряда. Однако группа сбилась с дороги и вышла хоть и к партизанам, да не к тем. Узнав, что среди разведчиков есть австрийцы, партизаны арестовали группу. Двенадцать дней их держали под арестом, требуя признаться, с какой целью немцы забросили их в лес. Все утряслось, после того как партизаны связались с Москвой.
Восемь месяцев и одну неделю отряд успешно действовал в тылу врага. Так, например, 15 ноября 1942 года “Лео” передал в Центр: “Группа под командованием моим и Панчо совместно с отрядом Федорова занимается диверсионной работой. Пущены под откос 11 воинских эшелонов, уничтожено 5 грузовых, 11 легковых машин. Убито 1485 солдат и офицеров, ранено 327 офицеров, в том числе генерал войск СС и подполковник”.
Непрерывные бои с врагом поставили группу в тяжелое положение. 10 февраля 1943-го “Лео” радировал: “Ежедневные бои не позволяют дать координаты. Макс ранен. Тарас ранен. Есть обмороженные”. Последней каплей стало “тяжелое отравление во время голодания” (из рапорта майора медслужбы). 5 марта 1943 года группу вывезли на самолете в Москву».
История ГБ с моим однокурсником так ничем и не закончилась (или закончилась). Но я про это не знал. Во всяком случае, на эту тему мы с ним не говорили больше. Потом были всякие истории, политические на Западе и у нас. То убили Джона Кеннеди (потом, когда я был в Штатах, мне рассказали местные, что он не выплатил долг мафии), то наши монстры разобрались с Никитой, стоило ему прижать партаппарат. Но не расстреляли. И это считалось большим завоеванием хрущевской демократии. Помню разговор Наума Коржавина (Эмки Манделя) и дяди Алеши. Эмка все время повторял, что Никита крови не хочет, что с ним можно договориться, я бы с ним за рюмкой посидел. «Посидеть можно, — отвечал дядя Алеша, — но в некоторых случаях в дело все равно вступают другие обязанности. Если надо, то и застрелить придется». Я сразу сообразил, что он говорит о своей истории в партизанском отряде. Но разговоры разговорами, а Никиту все же сняли. И тут все начали вопросительно смотреть на Мишку П. Очевидно, он многим уже трепанул о предложении, которое ему сделали. А Мишка старался выглядеть загадочным, важным и неприступным.
К власти пришел Брежнев, интеллигенция стала говорить о том, что брови Брежнева — это усы Сталина, поднятые на должную высоту. Что говорило о равнодушии образованного общества к идеологии, за которую дядя Алеша воевал в Испании. Думаю, ему было грустно, хотя понимал он многое, а уж видел и того больше. Но каким-то образом люди его опыта и закала, не совершавшие при этом подлостей, знавшие, что они сражаются не только за идею, а за нечто другое, которое казалось важным для спасения мира в человечестве, удивительно умели хранить и нести в себе чувство человеческого достоинства. Качество, в ХХ веке редчайшее. Говорю это, не преувеличивая. Напомню хотя бы Сахарова. Сегодня вроде тоже политические игры, но они какие-то не всерьез. Те люди тоже играли, но очень всерьез, поскольку, прошу простить за банальность, ставка в той игре была уж больно высока.
В 1964 году в «Юности» (очень престижный по тем временам журнал) вышел в трех номерах последний роман дяди Алеши «Тайна музея восковых фигур». Книжный вариант вышел уже после его смерти в 1968 году.

Роман читался, был популярен, поскольку была там не только криминальная линия, но и символически-мистическая — опять о двойниках. Сторож при входе был копией восковой фигуры, как бы два привратника при входе. И когда преступник по ошибке свернул голову кукле, то умер и настоящий живой человек: пропала возможность зарабатывать на кусок хлеба. Кто был всю жизнь его двойником, не знаю, но тема такая зря писателя не волнует. В последнем романе вижу некую разгадку. Он сам был своим двойником — разведчик, который переиграл сам себя. Убили его двойника, умерла идея, выхода не было — надо было умирать. Он и умер в 1966 году.
Фотографий от него в семейном архиве сохранилось очень мало. Две я привожу, есть еще среди братьев в Аргентине. Но та фотография уж слишком домашняя. Поразительные глаза везде — внимательные, но без вызова, все видит, но ничего не скажет.

Умирал он от рака легких. Знаю, что навещали его родственники, очень часто ходила моя бабушка, та самая женщина, что увела отца у Алеши. Но так случилось, что они подружились, вместе воевали в Испании, где бабушка была военной переводчицей в Барселоне у нашего командования, получила за Испанию орден Боевого Красного Знамени. Сама иронизировала, что, когда франкисты неожиданно атаковали Барселону, все республиканское и советское военное руководство, бросив карты и бумаги, тем более переводчицу, попрыгало в машины и умчалось. Бабушка как преданная делу коммунистка, к тому же аккуратная женщина, собрала все бумаги, спрятала их в ридикюль и спокойно (со своим блестящим испанским языком) миновала франкистские посты и несколько дней прожила у своей испанской подруги. Когда франкистов выбили, наше командование, зная, что оно побросало все карты, и не найдя их, могло ожидать только расстрела. И тут переводчица приносит пропажу. Кто-то сгоряча предложил ее расстрелять, чтобы она не проболталась. Горячего человека уняли, а бабушку представили к ордену. С тех пор с Алешей она дружила. Он ее уважал. Умирая, просил о помощи, просил принести яд. Видимо, боли были невыносимые. «Ида, ты же сильная, дай мне яд. Большевики должны помогать друг другу». Это она рассказывала, но она не дала, сказав ему: «Существует партийная этика. Нельзя». А он заплакал. Она его жалела, но яду не дала: «Алеша, ты сильный, ты должен все выдержать». Сама она была сильной. Уже после смерти дяди Алеши были торжества по поводу испанской войны — она все же воевала, имела орден Боевого Красного Знамени, несколько медалей. И бабушку пригласили. Она умела сидеть на собраниях. И слушать партийную болтовню. Но тут по ошибке после директора института, говорившего о героизме республиканцев, о первой победе в схватке с фашизмом и т.п., слово дали ей. И она простодушно, но внятно произнесла: «Чего мы торжествуем? Я вот ехала и думала, газеты читала… Война-то была проиграна, проиграна позорно. Все про это знают, знают и про сталинские лагеря, которые прошли интербригадовцы и наши офицеры. Я ведь чудом уцелела. Повиниться бы надо перед памятью погибших». Никто тронуть ее не посмел: старый большевик, участник испанской войны, орденоносец, и речь ее кое-как замотали. Бабушка умела заботиться, когда видела шанс на борьбу с болезнью, но здесь шанса не было, и к дяде Алеше относилась она как к человеку, который должен был выдержать реальность.
Хоронили его в ЦДЛ. Почему в ЦДЛ, не знаю. Наверно, потому, что его уже приняли в Союз советских писателей, и он очень этим гордился, а писатели хоронили своих. Пришел и я с женой. Спустя годы могу сказать, что я настолько ему верил, что его слов хватило на четверть века моей первой семейной жизни. Мы поженились в 1965 году, дядя Алеша приехал к нам с отцом в гости. Посидел молча, послушал молодые перепалки, а потом, уходя, сказал: «Вовка, проводи меня». Когда мы шли к метро «Войковской», он помялся, но сказал: «Поверь мне, человек к человеку долго притирается. Не наделай по горячности глупостей. Поживи год-другой, тогда и решай». Прожил я, как уже писал, много дольше, с 1965-го по 1988-й. О чем не жалею. Было всякое, хорошего больше, а в плохом и моей вины было немало, а может и много. Но дело не в этом. Мы в первый раз попали в ЦДЛ и разглядывали с любопытством писателей. Пожалуй, впервые тогда я понял, что писатели, ставши массой, толпой, — такая же масса, какая создавала имидж вождям народов, масса, которую боялся Элиас Канетти. Почему-то не было на лицах писательской одухотворенности, а почти каждый, понимая, что хоронят человека необычного, старался несколько слов об этой необычности сказать, говоря, что главной книги Алексей Павлович написать не успел, но вот выступающему что-то из нее рассказывал. Я, не зная никого, шатался по углам, ожидая момента, когда позовут прощаться. И вдруг в соседней маленькой комнате я увидел группу сравнительно молодых генералов, которые препирались, что именно надо сказать. Судя по форме, которую я тогда уже немного различал, это была военная разведка. Слушать их разговор было неудобно, да и как-то не по-советски. И только я пошел назад в переполненную залу, как один из генералов отодвинул сослуживцев и решительно подошел к гробу. И сразу заговорил, буквально перекрыв предыдущего оратора: «Вот все вы смотрели только что фильм “Кто вы, доктор Зорге?”. Это и вправду был один из крупнейших наших разведчиков, но его позиция была сложная: ему приходилось работать сразу на три разведки — советскую, немецкую и японскую, поэтому его роль была как бы исходно разоблаченного разведчика. Вы говорите, что Алеша не написал своей главной книги, что его жизнь — целый роман. Это так, но даже больше, чем так. Так вот, Алексей Павлович по своему масштабу был много крупнее Зорге, он был ни разу не разоблаченный советский разведчик. Понятно ли вам, что это значит? К сожалению, награды не всегда догоняют героев. Алексей Павлович помимо орденов был представлен к Герою Советского Союза, но так и не получил» Он мял в руках бумажку, которая, как потом выяснилось, была рабочей характеристикой. Он оставил ее на краю гроба, а я подобрал. В этой характеристике его еще называют капитаном. Потом стали писать — майор. Впрочем, вот эта характеристика:
«КАПИТАН Коробицин Алексей Павлович — 1910–1966.
Алексей Павлович Коробицин родился в 1910 г. в Аргентине в городе Буэнос-Айрес. Его отец был политический эмигрант, бежавший из царской ссылки в 1907 г.
Вместе с семьей в 1924 г. Алексей Павлович вернулся на родину в Советский Союз. Товарищ Коробицин А.П. член КПСС.
С 1936 г. по 1938 г. Алексей Павлович находился в Испании, где принимал участие в операциях против фашистских мятежников.
В 1939 г. был отправлен на ответственную работу за рубеж. Будучи в спецкомандировке, т. Коробицин решал сложные разведывательные задачи.
В период Великой Отечественной войны Коробицин А.П. работает в тылу немецко-фашистских войск на территории Белоруссии.
Там он руководит действиями разведывательно-диверсионных групп и партизанских отрядов.
В 1943–45 г. разведывательно-диверсионными группами под его командованием подорвано и уничтожено 13 вражеских железнодорожных эшелонов с живой силой и боеприпасами, десятки автомашин, ликвидирован генерал войск СС, добыт ряд ценных сведений о противнике.
Коробицин А.П. является одним из лучших советских разведчиков. Разносторонне образованный, смелый, инициативный, беззаветно преданный родине и делу нашей партии.
Капитан Коробицин не щадя своей жизни боролся против врага и везде, куда бы ни направляло его командование, образцово выполнял поставленные задачи.
За боевую работу в тылу противника Алексея Павловича награждают орденом “Красная Звезда” и медалью “Партизану Отечественной войны” I степени, а за активное участие в боях против фашистов в Испании — орденом “Красное Знамя”».
Это была обычная характеристика, к которой в начало приляпали даты жизни. Это было очевидно. Здесь ни звука о том, что он работал консулом Мексики в американском штате Кливленд (откуда и возник роман «Тайна музея восковых фигур»). Ни слова о спасении нашего флота, который он сумел заснять и показать переделку наших кораблей на американский лад. Ко мне подошел Мишка П.: «Ну вот видишь, порядочность и разведка совместима. А я не знал, что Алексей Коробицин — твой дядя. Никогда никому не рассказывал. Молодец!»
Прошло года два. Если честно, я жил с каким-то странным ощущением, что дядя Алеша жив, просто уехал надолго, как часто уезжал. Разговоры о нем были нечастые. Один — неожиданный. Сестра моей мамы была замужем за контр-адмиралом, который, с одной стороны, был немножко антисемитом (не верил, что евреи умеют воевать, поэтому с дядей Алешей и отцом о войне разговаривал в ироническом тоне), с другой — по долгу службы был связан с военной разведкой. Помню их неожиданный приход к нам в гости, уже после смерти дяди Алеши. Настоял на приходе дядя Витя (Виктор Александрович Петров) — стройный, похожий на молодого Утесова бравый военный в морской форме. Настоящий морской капитан. Мы сели за стол, и вдруг он предложил выпить за героическую жизнь дяди Алеши, повинившись, что не подозревал, что бывают такие смелые люди. Сам был тоже неробкий мужик. Во время войны им выстрелили из торпедного аппарата, так спасся он и еще трое. А тут он рассказал, что его и еще нескольких начальников из того же ведомства водили в контору, где вывешены фотографии выдающихся советских разведчиков. «И знаешь, Карл, — сказал он, — фотография Алеши была второй или третьей в ряду. Я горжусь, что я его знал».
Такова была одна из посмертных встреч.
Но затем произошло нечто необычное. В декабре 2012 года я был на международной конференции по Достоевскому, которую регулярно проводит Игорь Волгин. Там я абсолютно случайно в номере у Волгина на небольшом застолье познакомился с замечательной во всех смыслах писательской парой — Еленой Черниковой и Ефимом Бершиным. Мы разговорились. Поскольку все свои книги я раздарил, у меня для подарка оставался только Мемуар о моем отце, где поминался и Наум Коржавин, и Алексей Коробицин… Я рассказал также, что почти сорок лет прожил неподалеку от пруда, где Нечаев утопил студента Иванова.
И вдруг получаю мейл, да не один, привожу их по порядку:
«Читаю журнал с огромной радостью и с изрядным ужасом убеждаюсь в миллионный раз, что в определенном возрасте и определенным людям случайно даже за столом посидеть невозможно. Пересечения, слова, топонимы, мысли, даже мелькнувший Иванов (жертва Нечаева) — все так вовремя, будто мне лично писали Вы эту работу.
…А Людмила Коробицина (Иерусалим) не знакома Вам?
Елена Черникова»
Я ответил:
«23.12.2012, 17:48
Дорогие Лена и Ефим,
это и вправду просто чудеса. Кто она и что она? Вы давно ее знаете?
А что с ее мужем Левой? Ее не знаю, а его помню. Очень давно это было. Женат он был тогда на девушке из медицинского. Как-то глухо прозвучало в ее тексте что-то об органах в связи с ним…»
И далее ответ Лены:
«Были мы в октябре в Израиле. Ефима пригласили читать стихи в Иерусалиме вместе с Игорем Иртеньевым, Аллой Боссарт, Галиной Климовой, Сергеем Надеевым и Александром Грицманом (США). Он прочитал, а после выступления на него накинулся народ. И даже на меня (типа “легко ли быть женой гения”). Я как-то вывернулась, а его затискали. Потом ко мне подошла женщина (это была Людмила) и попросила разрешения выразить Ефиму свой восторг. Он ей надписал свой сборник стихов. Она дала нам свой иерусалимский телефон и пригласила звонить ей наутро, чтобы как-нибудь еще пообщаться. Наутро не сложилось звонить-общаться, но адреса были даны, а позже она прислала нам в Москву свою книгу (оказалось, превосходные очерки русской деревенской жизни). Я ей обещала переслать книгу Ефима “Маски духа” (роман), но еще не выслала. Она, музыкант по основному образованию, сейчас пишет песни на его стихи. Прислала черновые наброски.
Сегодня утром она прислала Ефиму поздравления с праздниками — строго в тот момент, когда я получила от Вас вопрос, не Львовна ли она.
Совместив одно с другим, я поняла, что вот они чудеса и есть.
Ее адрес у Вас там в моем письме.
Елена Черникова»
И, наконец, третье письмо, которое я осмеливаюсь процитировать:
«Владимир, сегодня утром мы с Ефимом (Бершиным, моим мужем) написали Людмиле, а она в ответ прислала ссылку (см. ниже), из которой следует, что именно по линии Алексея Коробицина она и является Коробициной. Такие чудеса».
Далее была ссылка на Livejournal Людмилы.
И вот как развернулась судьба семьи великого разведчика:
25 Ноябрь 2011 20:56
ОТРЫВОК ИЗ ЕЩЕ НЕ ЗАКОНЧЕННОЙ КНИГИ
Разрозненные, несвязанные отрывки не очень твердого на голову человека:
«Алексей Павлович Коробицин прожил замечательную, поистине героическую жизнь, полную борьбы, захватывающих приключений и самоотверженного служения воинскому долгу. Многие годы он посвятил отважному делу советского разведчика.
Видимо, и сейчас не пришло еще время до конца рассказать об Алексее Павловиче Коробицине. Солдаты невидимого фронта долгие и долгие годы остаются неизвестными, но не пропавшими без вести героями.
…Сейчас на ленинградской верфи строится большой океанский корабль, который будет носить имя Алексея Коробицина. Скоро корабль спустят на воду, и теплоход “АЛЕКСЕЙ КОРОБИЦИН” уйдет в свой первый рейс. Он станет бороздить морские просторы. А на флагштоке океанского судна будет гордо реять красный советский флаг, под которым боролся Алексей Павлович Коробицин. Для него этот огненный стяг был дороже всего на свете». Юр. Корольков, 1968 год (предисловие к книге А. Коробицина «Тайна музея восковых фигур»)
Надо сказать, что, насколько мне известно, такой корабль так в море и не вышел.

Алексей Павлович остался «пропавшим без вести героем». …А зачем ворошить память? Сын А.П. Коробицина уехал в Израиль, друг — Наум Коржавин (Эмка Мандель) — в Америку… (В книге Коробицина его стихи помещены, по дружбе…) Да к тому же Коробицин, в прошлом АЛЕКС ОСКАР КАНТОР из Буэнос-Айреса, с отчеством МОИСЕЕВИЧ, которого родители-коммунисты привезли в Советский Союз, был уже никому не нужен. В январе 1975 года я воссоединяюсь со своим мужем Левушкой Коробициным, которого органы, по просьбе матери, 2-го профессора кафедры психиатрии в Москве, Виолетты Николаевны Фавориной, «упросили» «подписать документ о сотрудничестве…» и отправили в Израиль на девять месяцев раньше меня, которую срочно положили в больницу лечить туберкулез, объяснив, что ситуация с моим здоровьем катастрофическая… «Охранял» меня в больнице от этой болезни и «дружил» со мной плюгавенький коммунист из Перу, которого навещала Ибарури. Отправив Левушку, органы забыли нас развести, так спешили. Оставаясь официальной женой, я имела право на выезд за мужем, для воссоединения… Вот только меня «забыли» ввести в курс дела, связанного с заданием Родины моему мужу, а также взяли с меня положенные деньги за вынужденный, насильственный отказ от гражданства. Два билета на самолет в Тель-Авив (через Вену), мне и дочери, оплатило Голландское посольство…
Таковы последние известия об Алексее Павловиче Коробицине, дошедшие до меня. Но, кажется, люди, долго ходившие по той стороне луны, продолжают жить немного по-другому, чем все люди, уходящие на тот свет. Их след незаметен, как лунная дорожка. Только чудится, что она есть, но есть ли она на самом деле?
Именно такую лунную дорожку я и хотел показать читателю.
Примечание




Комментарии