Владимир Максаков
Встреча без последствий
Платить за себя в истории: «несчастненький интеллектуал» и раскрепощение революцией
 4 892
4 892 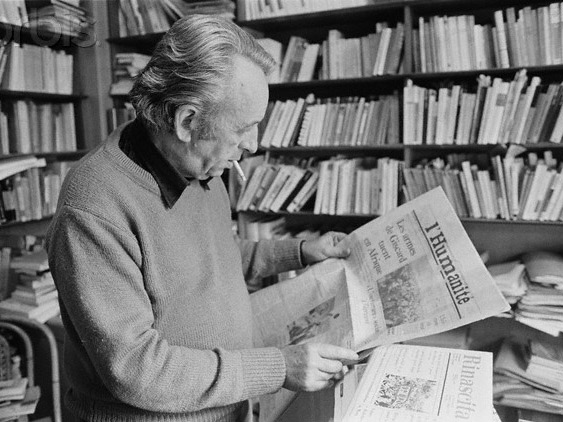
© Jacques Pavlovsky / Луи Альтюссер, 19 мая 1979 года
От редакции: Эссе в связи с выходом в свет издания: Встреча: Мераб Мамардашвили — Луи Альтюссер. М.: Фонд Мераба Мамардашвили, 2016. 184 с.
Встреча Мераба Мамардашвили и Луи Альтюссера — одно из удивительных философских событий в ушедшем столетии, в общем-то щедром на не-встречи. Несколько десятков страниц их переписки стали цельной и ценной главой в истории современной мысли. Возможность познакомиться с этим диалогом представилась и российскому читателю — вышла в свет книга «Встреча: Мераб Мамардашвили — Луи Альтюссер». «Вначале корреспонденция доставлялась официально, почтой, по месту работы: Альтюссеру — в Высшую нормальную школу в Париже, М.М. — в Институт рабочего движения в Москве. Впоследствии, когда поездки в СССР стали более частыми, письма передавались через частных лиц, что обеспечивало относительную свободу высказываний», — пишет Анни Эпельбоэн, давний и близкий друг французского и советского философов, помогавший и в передаче посланий из рук в руки.
Переписка, охватывающая примерно десять лет (составившие целую эпоху с 1968 года, за которые, как думал Луи Альтюссер, «во Франции что-то серьезно изменится с точки зрения интеллектуальной жизни») и насчитывающая всего пятнадцать писем, начинается с взаимного признания «радости снова обрести друга». А в единственном публиковавшемся по-русски письме — от 16 января 1978 года, когда уже была «относительная свобода высказывания», — французский философ признается: «Если ты сможешь мне писать, то я арендатор твоих “метафизических глубин”: из любопытства и чтобы знать, как ты это делаешь, и угадывать через ответы, которые ты ищешь, вопросы, которые тебя мучат» (с. 37).
Собеседники погружены в стихию мышления, и на страницах писем события современной истории упоминаются лишь мельком, как еще одна причина для мысли. Парижский май 1968 года Альтюссер назвал «квазиреволюцией», но и на нее Франции необходимо «решиться», а нехватка «решимости» ощущается в мире с особенной остротой, ибо, как писал Мартин Хайдеггер, «решимость означает допущение-вызвать-себя из потерянности в людях». Проект революции оказывается обречен, его «никто не предвидел и не направлял»: «Как я им ехидно говорю — это способ вести классовую борьбу в домашних условиях» (с. 24).
Упоминая о своих друзьях в письмах к Мамардашвили, Альтюссер, увы, ни разу не называет их по имени, так что впору задаться вопросом без ответа — а были ли они вообще? По крайней мере, в ключевой для современного мира революционной ситуации решения — в мае 1968 года — Луи Альтюссер оказывается не просто один, но еще и в психиатрической лечебнице. И не кроется ли за его неприятием бунтарских настроений «красного мая» горечь от собственного исключения из политической реальности за больничными стенами? «…Я стал объектом крайне воинственных нападок со стороны моих прокитайски настроенных молодых друзей и бывших учеников, которые, вооружившись опытом майских событий, развивают — подумать только — некую неоанархистскую теорию, опирающуюся на “подавление Авторитетом Знания”» (с. 24).
Это далеко не первое (и не последнее) самоисключение Луи Альтюссера из актуального «политического», проявление своеобразного марксистского страха перед «безыдейностью» и стихийностью революции, за которым кто-то угадывал коммунистический догматизм, а кто-то прозревал стремление к «идеальной Революции», оставшейся утопией и темой для ностальгии («будто какой-то несчастненький интеллектуал может “делать” историю — уничтожить или поддержать Ревизионизм», даже эта «практическая» задача — вне области приложения сил «теоретика»).
Через десять лет, накануне очередной несостоявшейся революции — 1978 года — Альтюссер будет писать уже по-другому: «Все начинает приходить в движение повсюду, и это очень интересно. По-моему, это происходит впервые в нашей истории… Но я не уверен, что все будет происходить обычным путем, хотя придется подождать, чтобы увидеть это» (с. 38). Здесь уже нет ни намека на «предвидение» или «направление» революции, главное — чтобы она просто была. В свою очередь, молчит о событиях «Пражской весны» и Мераб Мамардашвили, ограничиваясь упоминанием даты 21 августа — введения советских войск в Чехословакию. В общем, левая альтернатива, как ее ни называй, терпит поражение и там, и здесь. «Единственный ответ, который я сейчас нахожу, — это молчание. И, несмотря на все различия, я понимаю твое молчание, у которого совершенно иные причины» (с. 35), — свидетельствует об экзистенциальной немоте французский философ.
Оба мыслителя в какой-то момент попадают в духовный вакуум, но у Альтюссера это связано с развивающейся психической болезнью, а Мамардашвили тонет в болоте эпохального застоя. В своем новом друге Альтюссер обрел не только единомышленника, но и человека, которому обязан пониманием, — тон некоторых его писем почти исповедальный, и складывается впечатление, что во Франции Пятой республики оригинально мыслящий философ-марксист существовал в одиночестве («вопреки видимости, все здесь крайне мертво и стерильно»). Положение стремившихся к независимости левых было очень сложным: им приходилось удерживаться между Сциллой «догматизма» и Харибдой «ревизионизма» и выбирать для себя «третий путь».
Платой за свободу мышления была оторванность от «жизни», и Альтюссер не раз сетует на приносимые жертвы ради сохранения статуса «философа партии», в которой, правда, его ограничивали ролью «теоретика», чьи функции не пересекались с «практикой» и чья линия была нужна для оттенения «генеральной». Он опишет пройденный путь только накануне выхода из партии: «Для меня ясно как день, что все, что я делал вот уже пятнадцать лет, было созданием мелкотравчатого, очень французского оправдания в рамках доброкачественного, но малозначительного рационализма, подпитываемого некоторыми авторитетами (Кавайес, Башляр, Кангилем, а за ними — традиция Спинозы – Гегеля), претензии марксизма (исторического материализма) представлять себя наукой». Сводя счеты (или, точнее, платя по счетам), Альтюссер предельно четко обозначил ту линию флажков, за которую он так и не смог вырваться — ни в «теории», ни в «практике». «Из этого тебе должно быть ясно, что я “не продвинул вперед науку” (что было нашим ироническим лозунгом в 50–60-е гг.) и не занимался философией» (с. 41).
Нет нужды напоминать о том, что для советской философии французский марксист был слишком радикален — и Мамардашвили дает понять другу, что тот должен переписать свои работы, если хочет увидеть их напечатанными в Советском Союзе, а в ноябре 1968 года пишет открытым текстом, призывая Альтюссера отказаться от политики в пользу философии: «Для нас хорошая политика — это деполитизация философии, поскольку у нас нет возможности (цензура, идеологическое давление, тоталитаризм и т.п.) создавать, излагать, публиковать хорошую политическую критику, действовать политически в хорошем смысле, мы воздерживаемся от критики как таковой, в общем и в целом. По той причине, что она может быть только плохой. Поэтому долой политику!» (с. 20). «Политика» здесь может быть только предикатом: она всегда уже политика чего-то, самой по себе ее нет — как, впрочем, и критики.
Казалось бы, монополия на «канонического Маркса» не должна распространяться за пределы государства: в самом деле, чего стоит опубликовать профильные и специальные статьи Луи Альтюссера в сопровождении «правильного» объясняющего комментария? Но взрывная сила французской мысли опасно велика — вдруг не выдержит фундамент официального учения? — и в публикации отказывают, признаваясь в собственных страхах и теоретическом бессилии. С другой стороны, и сам Альтюссер не решается философствовать о марксизме в полную силу, боясь отвержения и пожизненной приписки к «неомарксистам», с которыми ему почему-то не по пути. Эту его близость к классическому марксизму признает и Мамардашвили в ходе обсуждения статьи французского философа: «Современные общественные науки через ряд блужданий и окольных путей, через сложную эволюцию отношений пришли к выявлению проблем, тождественных тем, которыми занимался Маркс. Это можно было бы доказать, и это дало бы Альтюссеру ответ. Оказывается, чтобы ответить на некоторые проблемы социальной науки и человека, надо сделать некоторый ход назад, прийти к ним через Маркса, обогатившись рядом понятий и схем, которые содержатся в работах Маркса».
Альтюссеровские работы тех лет во многом призваны проложить дорогу между советским и европейским социалистическом опытом и вернуть Марксу в Европе статус мыслителя — но в своей попытке Луи Альтюссер по-прежнему одинок, не желая присоединиться ни к «экзистенциальным», ни к «евромарксистам» («В любом случае приходится платить и за себя (что само собой разумеется), и за других, да еще каких Других!» — пишет Альтюссер Мамардашвили, делая недвусмысленный выпад против Сартра). Одной из групп, мимо которых французский философ промахивался, был и структурализм, развивавший в том числе и психоанализ («никудышная концепция, которую представляет собой бессознательное»), чуть ли не единственное направление в психотерапии, внушавшее Альтюссеру доверие и надежду на излечение.
Альтюссер, как известно, не оставлял членства во Французской коммунистической партии до 1980 года — и после того, как партийные ряды покинул даже Жан-Поль Сартр. И без того мучительное желание опубликовать свою работу в СССР превращается почти в навязчивую идею, стремление к признанию в «стране победившего социализма» становится насущной необходимостью. «Не возражай: я верю в то, что это даст какие-то результаты» (с. 23), — пишет Альтюссер о своей деятельности, заранее представляя сомнения, которые вызовут у Мераба Мамардашвили его чрезмерно серьезные и увлеченные идеологические построения. Такой поворот событий мог бы спасти от экзистенциального (и философского) одиночества здесь, во Франции («остальное время я выживал как мог, вокруг меня образовалась пустыня»), а признание открывало долгожданную возможность для авторской интерпретации Маркса. За десятилетие с 1968 года левая альтернатива в Европе трижды несла тяжелые потери (в том числе и в альтюссеровском понимании марксизма): неудача «Красного мая», поражение Союза левых сил (Коммунистической и Социалистической партий Франции) на парламентских выборах 1978 года, наконец, и вся «постреволюционная ситуация», о которой сам Альтюссер выступил с докладом «Наконец-то кризис марксизма!». Скептицизм ученого превращается в жизненный пессимизм.
Мераб Мамардашвили становится своего рода проводником по шаткому мосту, ведущему в неведомую и непонятную советскую реальность и грозящему обрушиться в пустоту лишенности смыслов: «Да, издалека ситуация в СССР меня очень беспокоит. Я боюсь, как бы все это не закончилось катастрофой, и я даже задаюсь вопросом, не произошли ли уже эти катастрофы (возможно, что их постепенно можно обнаружить в некоем горьком опыте, образ которого можно найти в “Феноменологии духа”)» (с. 27). Альтюссер вдвойне неслучайно обращается к Гегелю: кроме очередной отсылки к VI Международному гегелевскому конгрессу в Париже (1969), на котором он имел возможность познакомиться с советской философией «в лицах», он вспоминает известную работу Александра Кожева «Введение в чтение Гегеля» и свою рецензию на нее — «Человек, эта ночь» (обе опубликованы в 1947 году, в период условного «гегельянства»). Альтюссеровское пророчество советскому строю тяжко: «Я думаю, что нельзя безнаказанно претендовать на историческое существование, волоча за собой (за собой — на себе) (в себе) такое прошлое — столь же мрачное, как ночь». Философ сплавляет воедино индивидуальную экзистенцию и историю, которая вдруг оказывается бесконечно тянущейся к современности, врастающей в нее и переплетающейся с нею, — здесь и возникает образ груза истории с характерными оборотами «самости» из «Бытия и времени». История не кончается, ее воплощение возможно только с концом мира, и неслучайно даже свою собственную автобиографию Луи Альтюссер мыслил в рамках «длинного (длительного, длящегося) времени» истории, связывая его с будущим: «L’Avenir dure longtemps: Suivi de Les Faits» («Будущее длится вечно: По следам событий»). «Вопрос в том, как лучше “распорядиться” этим предполагаемым или заранее известным прошлым в той ситуации, которую мы сейчас переживаем» (с. 35).
В своем толковании марксизма Альтюссер продолжал оставаться радикально политическим мыслителем — в отличие от преходящей моды на марксизм среди левых интеллектуалов. Благодаря такому серьезному отношению («мне следует быть серьезным») сохранилось одно из важных (профессиональных?) качеств — описание и объяснение мира через систему философских категорий и понятий, в том числе и марксизма. «Анализ в терминах классов (необходимый во всех отношениях) условий моего падения, то есть провала первой фазы лечения = мелкобуржуазное идеологическое желание перещеголять других, в котором соревновались молодые сотрудники госпиталя, — это выглядит потешно, (но) это очень серьезно = троцкистское леваческое состязание» (с. 17). В этом месте, как и во многих других, ирония неотделима от «делового», с примесью «мелкобуржуазной» научности, подхода к жизни и революции — впрочем, адресат писем умел читать между строк и в совершенстве владел ироническим дискурсом.
Альтюссер пишет с постоянной оглядкой на французских и советских коллег, с которыми — как и с Мамардашвили — он мог встречаться только на различных философских конгрессах, ревниво следит за появлением публикаций о себе и даже отмечает студенческий плакат «Альтюссер = Плеханов», о котором признается с глубоким пониманием: «Бедняга Плеханов! Для меня это скорее комплимент, ибо он сделал все, что мог, с философской точки зрения» (с. 24). Любопытно, что Альтюссер удостоился упоминания именно на плакате: все-таки основной визуальной практикой «Красного мая» были граффити, а транспарант с лозунгом принесли в здание Высшей нормальной школы отдельно.
Личное бытие Луи Альтюссера оказывается под таким ударом, что ему не остается ничего иного, как эмигрировать в марксизм, чтобы искать в нем уже произошедшую — и потому вызывающую ностальгию — настоящую Революцию. Увы, его случай как нельзя лучше подходил к прокрустову ложу советской идеологии: мол, жил и действовал в отрыве от рабочего класса, вот и ошибочные идеи без критики товарищей, вот и депрессия, и мания, вот, наконец, безумие и смерть.
Обидно неожиданным стало для Альтюссера открытие, что в самой советской России марксизм уже давно выхолощен в догматы, лишенные даже намека на связь с реальной жизнью. Отсюда искреннее удивление французского философа, который прозревает непонимание его «коллегами» связи между теорией и практикой революции. Уж не потому ли он не оставлял упорных попыток ре-анимировать (то есть во-одушевить), казалось бы, и сфальсифицированный наукой, и скомпрометированный опытом марксизм? Эта «часть о философии, которая на самом деле политически уравновешивала весь текст», представляющая сердцевину «филополитики» Луи Альтюссера, была просто выброшена советскими редакторами.
Именно в письмах к Мамардашвили, занявшего в переписке положение старшего и мудрого друга (и символического «отца»), Альтюссер, кажется, впервые в личном общении обозначает радикальный «эпистемологический разрыв» со сталинизмом: «Пока не будет пролит свет на весь сталинский период, невозможно будет врываться из этого (имеется в виду ситуация в СССР 1970 года. — В.М.)» (с. 28). Это признание тяжело далось французскому философу после многих лет ожесточенной борьбы с еще влиятельными идейными сталинистами в Французской коммунистической партии, и для оценки Сталина здесь неслучайно выбрана позиция незаинтересованного отстранения, с которой только и можно говорить о «периоде» и его «освещении»: «Ограниченность или безумие, которые неотступно преследуют сознание, можно увидеть не в нем самом, а только с определенной дистанции» (с. 33). Как обычно, не обошлось и без тесного переплетения экзистенции и идеи: жена Луи Альтюссера, Элен Ритман, оставалась убежденной сталинисткой и была исключена из партии, причем среди голосовавших «за» был и ее муж.
Иногда Альтюссер пишет Мамардашвили так, будто пытается понять его лучше, чем он сам понимает себя: «Я не раз размышлял над твоими словами “Я остаюсь, поскольку именно здесь можно видеть обнаженную суть вещей”. Долг интеллекта, за который приходится дорого заплатить» (с. 31). И вновь индивидуальное существование «интеллектуала» замещается инстанцией «интеллекта», и трудно не думать, что Луи Альтюссер на самом деле пишет о себе, находя в собеседнике своего рода «упреждающее понимание»: «Когда теория становится автобиографичной, это плохой знак» (с. 23). Не проскальзывает ли здесь горькое сожаление о собственной и судьбоносной встроенности в теорию, лишающую подлинной свободы? Ведь в границах того марксизма, который Луи Альтюссер выбрал для себя сам, ему было не просто тесно и больно, нет — он обрекал себя на позицию маргинала ради служения идее, повторяя путь не столько интеллектуала, сколько «проклятого художника».
Узор подтекста в письмах Альтюссера прихотлив и сложен: «И мало кто из них (уехавших из СССР. — В.М.) может выдержать повсеместное давление со стороны сил, которые стремятся выставить их как “детей волков”, от которых ожидают рассказов о нравах лесных жителей». Взаимодействие с «детьми волков» (образ, отсылающий во французской культуре и к оборотням — loup-garou) ущербно из-за невозможности найти с ними общий язык, а сами «уехавшие» могут представлять интерес для «сил» только как свидетели против марксизма. Наконец, и сам Альтюссер попадает в схожее положение, но плата за уход во внутреннюю эмиграцию для него слишком высока: «Настанет день, когда незамечаемые маленькие счета предстанут длинным списком, и, как правило, платить придется не тем, кто тратил, а несчастным типам вроде нас с тобой (и многим другим, еще более потерянным)» (с. 32). В альтюссеровском дискурсе «экономические» метафоры марксизма — «цена», «трата», «накопления», «счета», «недостаточность» — обретают уже экзистенциальное измерение. «Это мелочь для времени, когда требуется быть вооруженным конкретными познаниями, чтобы говорить о таких вещах, как государство, экономический, организации, “социалистические” страны и тому подобное», — с горькой откровенностью пишет Альтюссер об «отрыве теории от практики».
«Общая эпистолярная память» (термин Ю.Л. Троицкого) участников переписки исчерпывается двумя встречами по нескольку дней в Париже и Москве, но ее нехватку с лихвой восполняет воображение: и Альтюссер, и Мамардашвили гиперлокализуют в письмах как хорошо знакомые места своего пребывания, будь то психиатрическая лечебница, университет или курорт на берегу моря — адресат ясно представляет себе обстановку письма. Воображая себе Грузию, французский философ пишет: «Самое забавное, что участники (Международного конгресса по бессознательному в Тбилиси в сентябре 1979 года. — В.М.), которые мне о нем рассказывали, ни словом не упомянули красоту края, где это все происходило, страну и людей, тогда как я, будь я там, только бы и делал, что гулял. Они будто провели десять дней взаперти в каком-то помещении “нигде”» (с. 42), а характеризуя «стратегическую перегруппировку» своего мышления, приводит знаковый пример из эпохи 1812 года: «Следовало бы быть Кутузовым и уметь спать верхом на лошади в мороз во время грандиозного отступления» (с. 33). Не остается в долгу в этом культурном обмене и Мамардашвили, не только свободно изъясняющийся по-французски, но и вплетающий в тексты своих писем аллюзии на поэзию Гийома Аполлинера и прозу Марселя Пруста.
Что же остается между строк, о чем говорится намеками или умалчивается? Прежде и после всего: критика советского опыта, трагичная у Луи Альтюссера, ироничная у Мераба Мамардашвили. Под некоторыми строчками могли бы подписаться оба мыслителя, столь велико их взаимное понимание в кажущихся такими разными жизненных и исторических обстоятельствах: «Ты говоришь об “отвращении”: я слышу это слово вокруг меня от лучших. Между тем здесь — все не так, как у тебя, хотя слово то же самое» (с. 36). Разочарование от обмана всей советской ситуации может вызвать или депрессию — или горький сарказм. В том, что собеседники говорят обиняками на больную и острую тему, к которой относятся всерьез и критически, есть и своего рода психологическая защита: мы наблюдаем, как трудно дается признание очевидных фактов французскому философу, вынужденному прощаться с идеалами и иллюзиями и каждый год приближающему духовную катастрофу. Само «отвращение» прямо отсылает к названию фильма, с которого началась европейская карьера Романа Поланского, поставившего психоаналитический диагноз современному обществу: «Это слово, которое громко заявляет о том, что никто не находит себе места во всем этом дерьме, что бесполезно искать, ибо все места смыты бессмысленным ходом вещей». Не потому ли, находясь на топких берегах утопии-Революции, Альтюссер и Мамардашвили так отчаянно искали тверди в сверхточном обозначении мест, откуда писали свои письма?
Альтюссера спасает философское вечное возвращение — пересмотр своих взглядов, переоценка ценностей, инвентаризация идей, которую обязан время от времени устраивать себе любой настоящий мыслитель: «Но я полагал, что должен оставаться приемлемым…» Другое дело, что при этом Альтюссер сохраняет верность не только марксистским принципам, но и пытается еще связать их с политикой Французской коммунистической партии (чей теоретический уровень неудержимо падал). Одно из закономерных возражений, которые вызывала эта позиция Альтюссера среди французских интеллектуалов, сводилось к требованию чистоты теории (за нее понятным образом ратовал и Мамардашвили) — или же полного погружения в практику. «Но на этот раз, даже если реальности предостаточно и она повторяет себя, то чего нам не хватает, это прежде всего ориентиров. Другое впечатление: так долго сражаться на фронте, чтобы потом обнаружить, что его больше нет, а вместо него повсюду, и прежде всего за твоей спиной, идут сражения (или то, что их заменяет)» (с. 33). Встать на отстраненную и незаинтересованную «точку зрения Сириуса» было невозможно. По сути, это означало превращение из философа-марксиста в ученого — исследователя марксизма, а Луи Альтюссер слишком хорошо знал великую французскую эпистемологию в лице своих учителей Жана Кавайеса и Жоржа Кангилема, чтобы быть нечестным с собой — от советского варианта развития «науки» истмата, диамата и истпарта он был застрахован.
Возможно, соверши Альтюссер выбор в пользу «чистой» философии («соблазн и возможность ухода в “метафизические глубины”, помогающие бороться с одиночеством», — перефразируя Мамардашвили) или политики («мы занимаемся историческим материализмом, вовлечены в анализ реальных предметов (система школьного обучения и др. вещи, среди которых — экономика)»), и последние годы его жизни сложились бы иначе. Трагическая вера Альтюссера в возможность современной философии оказывать определенное и определяющее идеологическое влияние на партийную программу роднит его с Лениным.
Увы, казавшийся ортодоксальным марксистом французский мыслитель оказался прав в другом: «Невозможно выпутаться из ситуации со сталинским периодом (и его последствий в настоящем) с помощью текстов или “либерально-буржуазных” требований, таких как опубликованный здесь “образчик” (манифест Сахарова и др. — ты должен его знать?)» (с. 28). Альтюссер ставит в кавычки «образчики» «либерально-буржуазных» требований не только потому, что, будучи марксистом, не верит в их действенность, для него здесь гораздо важнее возможность осуждения сталинизма изнутри коммунистической теории. Тогда и только тогда общество в целом сможет двигаться дальше. Пока сами коммунисты не сделают этого, их движение обречено — и в институциональном (скомпрометированном), и в теоретическом (сфальсифицированном) аспекте.
Нет никаких сомнений в том, что на свой лад Альтюссер последовательно выступает за чистоту идеологии — но в отличие от советского марксизма он не устает повторять требование необходимости четкого соблюдения границы между теорией и практикой, мужеством мысли и смелостью на баррикадах. Ценой этого разделения для французского философа стала духовная катастрофа и одиночество. «Что я могу для них сделать? Для того-то и того-то? Чтобы им помочь?» — спрашивал Луи Альтюссер у Анни Эпельбоэн о советских людях, «формах свободы и радости жизни, и о препятствиях и драмах». «Понимать и говорить. И подвергать эту действительность теоретическому осмыслению», — был ответ. И если этот огромный труд критики и мог быть в принципе осуществлен, то только уникальным альтюссеровским интеллектом.
Последнее письмо Луи Альтюссера Мерабу Мамардашвили завершается так: «Ладно, я заканчиваю, поскольку не нахожу никаких оснований для того, чтобы закончить, и я тебя обнимаю за то, чем ты для меня был и есть, за те вещи и за те слова, которые ты мне послал, и за все то, что понял из них о тебе. Обнимаю тебя как понимающего брата».




Комментарии