Энцо Росси
Морализм и утопия в политической философии
Политический реализм между возможным и допустимым: без статус-кво
 4 861
4 861 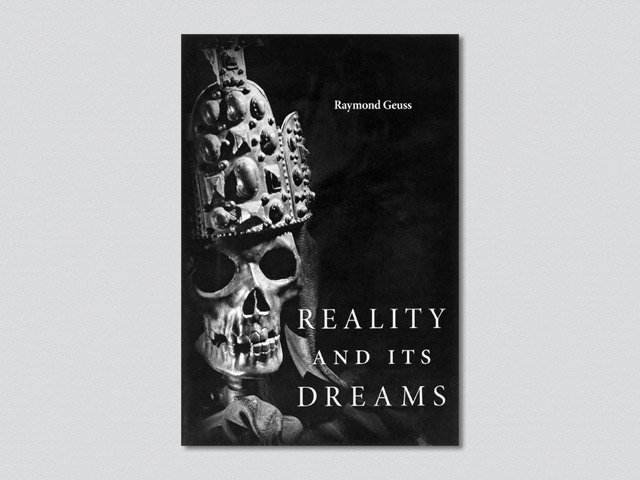
Рецензия на книгу Рэймонда Гойса «Реальность и ее сны» (Geuss R. Reality and Its Dreams. Harvard University Press, 2016. 300 p.).
Рэймонд Гойс — один из двух авторов, ключевых для происходящего сейчас нового подъема реализма в политической философии. Другой такой автор — это Бернард Вильямс, и его работы до сих пор в большей мере повергались конструктивной критике и встречали меньшее неодобрение, чем работы Гойса. Это не удивляет, если учесть, с какой неохотой Гойс следует правилам «профессионального» академического письма. Но об этом нельзя не пожалеть, поскольку Гойс явно воплощает собой гораздо более драматический разрыв с мейнстримом, и в методологии, и в содержании своих работ: содержательно — поскольку он не приемлет либерализм, методологически — поскольку он не приемлет (стандартное) нормативное теоретизирование.
В этой не совсем стройной книге собраны очерки, которые должны в первую очередь привлечь внимание тех, кто стремится выяснить предпосылки радикальных течений в современном реализме [1]. Гойс не «приносит извинений за то, что как минимум дюжина или больше разделов книги имеет дело с предметами, не входящими в перечень “стандартных тем политической философии”», поскольку «считает традиционный подход слишком узким» (p. ix). На самом деле соображения о релевантности политической философии встречаются почти в каждом очерке, хотя чем дальше, тем реже. Об этих соображениях далее и пойдет речь. Самым важным в этих очерках я считаю то, что их автор сосредоточен на контринтуитивном преобразовательном потенциале реалистического подхода, противопоставляемого им фальшивым обещаниям витиеватого морализма. Я также намерен специально обсудить некоторые открытые вопросы реализма Гойса, касающиеся в основном его контекстуализма и представления о границах возможного.
Реализм Гойса и деструктивен, и конструктивен, одно тесно связано у него с другим. Начнем с деструктивности Гойса. Невозможно не распознать полемичность многих его очерков. Некоторых читателей она может раздражать, особенно когда Гойс, мягко говоря, недоброжелателен в интерпретации взглядов своих оппонентов. Поэтому восприятие работ Гойса поляризовано. Те, кто симпатизируют Гойсу в его сражении, читают его внимательно и находят в его текстах важные прозрения. Я отношусь к числу таких читателей. Те, кто привык видеть в политической философии прикладную моральную философию, предсказуемо раздражаются, когда Гойс своими эффектными тирадами покушается на разных священных коров. Скажем, он утверждает, что сходства позиций Джона Ролза и Айн Рэнд существеннее различий между ними (p. 83) или что «Революция» британского комика Рассела Бранда — это более важна работа по политической философии, чем «Теория справедливости» или «Анархия, государство и утопия» (p. 64).
К этому недостатку доброжелательности можно всерьез придраться [2], хотя можно спорить, достаточно ли этого, чтобы сбросить Гойса со счета. Тут приходится иметь дело с уже привычной теперь реалистической критикой морализма мейнстримной политической философии. Эта критика обычно предстает как методологическая, но на самом деле ею движет принципиально иное понимание природы политики [3]. Суть ее в том, что мейнстримный подход, который выводит политические предписания из дополитических моральных предпочтений, несостоятелен: «“Морализировать” — значит выносить моральные суждения в неподходящем для этого контексте, то есть наделять или нагружать их чрезмерной и неверно понятой действенностью или эффективностью» (p. 960). Грубо говоря, политика начинается там, где исчерпалась мораль. Политика была бы не нужна, обладай морализм той действенностью, какой от него ждут политические моралисты. «Морализм сосредоточен на индивидуальных решениях» (p. 34), но «политика — это не приложение индивидуальной моральности» (p. 48). Насколько я понимаю подход Гойса, он состоит из трех взаимосвязанных принципов. Во-первых, Гойс отказывается от методологического индивидуализма в политической философии, так же как отвергает методологический индивидуализм в социальной науке (p. 103, 105). В-вторых, он полагает неприемлемым, возможно, даже извращенным стремление использовать мораль для регулирования отношений между людьми с существенно разным представлениям о благе, а также — это важно для реалистов — об интересах. Упоминание «интересов» позволяет перейти к третьей линии аргументации, особенно существенной для тех реалистов, кто, как Гойс, мыслят в рамках критической теории. Эти аргументы в какой-то мере позволяют понять неприязнь Гойса к политическим философам-моралистам. Опора на моральность подразумевает стремление к уравновешивающему примирению конфликта ценностей и интересов, а оно, в свою очередь, предстает чем-то вроде идеологического политического квиетизма, камуфлирующего структурный социальный конфликт. Гойс пишет о столь повлиявшем на англо-американскую политическую философию кантианском морализме, что он «весьма… продвинулся на пути искусства всепринятия. [Кант] предлагает деятелям не руководство к действию, но нечто, что он сам называет “утешением”» (p. 59). Возможно, порой требуется чрезмерный, безудержный критицизм, чтобы пробить наслоения академического политеса, чья первичная социальная функция состоит не в поиске истины, но в усилении структур власти. Впрочем, Гойс оставляет без ответа вопрос, не является ли сама эта дихотомия ложной.
Также стоит обратить внимание, и это важно в связи с нашей основной темой, на то, что Гойс вообще отрицает способность моралистической политической философии давать руководство к действию. Не противоречит ли он сам себе, отрицая сосредоточенность современной политической философии на нормативности — ее нормативизм, если воспользоваться термином, взятым Гойсом из недавней критической теории в стиле Франкфуртской школы [4]?
«Множественные социально-экономические изменения периода 1970–1981 годов в академических кругах выразились в постепенной маргинализации серьезной социальной теории политической философии, особенно это касалось “левой” мысли. Выход “Теории справедливости” не означал возрождение политической философии, но скорее стал знаком наступления ее старческой немощи и поворота от реального мира институтов, политики и истории к небывальщине исключительно нормативных теорий» (p. 81).
Поэтому классический трактат Ролза — это не более чем «упражнение в попытке мобилизовать несколько плохо понятых фрагментов Канта, чтобы наконец-то снабдить американскую идеологию основанием, несколько лучшим, чем то, которое ей до сих пор давал утилитаризм» (p. 82). Ведь «“Нормативный поворот” вернее всего понимать как контрреволюцию против проверенных историей и социологией воззрений на этику политики, развитых во времена Гердера и Маркса… Успеху “нормативных подходов” способствовали поражения движений за социальные, политические и экономические изменения 1960-х, а также особая пригодность нормативизма в качестве идеологии для устоявшихся экономических и политических структур, которые, пережив вызовы 1960-х, оказались способны укрепиться еще лучше, чем прежде» (p. 82).
Можно подумать, что «нормативизм» столь востребован именно потому, что руководства к действию предпочтительней понимания и критики социальных и политических структур. Идея Гойса состоит в том, что подобную позитивистскую дихотомию между предписанием и описанием нужно отвергнуть. Чисто описательная, моралистическая политическая философия лишь внешне напоминает руководства к действию, в то время как ее действительная социальная функция состоит в усилении доминирующих социальных структур посредством убеждения нас в их моральном совершенстве — и в этом как раз укоренена его враждебность к Ролзу и другим откровенно прогрессивным либеральным мыслителям, которые «тешат себя комфортным, расслабляющим чувством собственной правоты, пребывая при этом внутри границ, установленных самовоспроизводством основных социально-экономических рамок, и в общем-то даже укрепляя эти рамки» (p. 99).
Принимая или не принимая эту критику — и тот факт, что Гойс не утруждает себя упоминанием более экстремистского, нетипичного морализма, такого как у Джеральда Коэна, называвшего себя марксистом, — нужно отметить, что она не опускается на уровень соучастия в актуальных дискуссиях академической политической философии. Критика подобного рода — это критика идеологии. Она указывает на то, что работы по современной политической философии вне зависимости от намерения своих авторов вовсе не являются тем, чем претендуют быть. Так что это эмпирическая работа, но эмпирическая не в том узком смысле, который допускают нормативисты, требуя строго отличать факты от ценностей. Ибо само разграничение фактов и ценностей оспаривают друг у друга политики и философы.
Гойс не отождествляет предпочитаемый им альтернативный подход с наивным, сколь угодно прозрачным «такие вот дела-с». И теперь мы переходим к конструктивному аспекту его реализма. В проницательном очерке о наследии Маркса Гойс излагает свои эпистемологические воззрения и предлагает бросить вызов методологическому индивидуализму и возродить более критическую, антипозитивистскую философию социальных наук (p. 103–105), которая в свою очередь преобразует саму нашу практику политической философии. Здесь важнее всего, возможно, перестать ставить в центр внимания моральные интуиции как основоположения политических предписаний, «не оставляющие места для сколь-либо серьезного идеологического критицизма» (p. 115).
Такое разъяснение Гойса, как подобные ему эссе в других очерках, не удовлетворят того, кто ищет систематическую, глубинно проработанную теорию. Тем не менее, кроме провозглашенной антинормативистской промарксистской критики идеологии, можно выявить еще два столпа радикального политического реализма Гойса. Первый — это контекстуализм в вынесении политических суждений:
«“Моралист” думает, что можно достичь некоей абсолютности, аподиктичности, полной определенности суждения, а “реалист” отрицает возможность этого. В особенности, “реализм” привержен неопределенности, незавершенности, зависимости от обстоятельств и, во всяком случае, агностицизму относительно абсолютных и категорических утверждений» (p. 28).
Здесь очень важен контраст между «нормативистской» политической философией, напоминающей прикладную версию морали как «специфического института» у Уильямса, и контекстуализмом, который Гойс склонен отличать от релятивизма, этого философского козла отпущения: «Можно сказать, что некоторые варианты реализма подчеркивают “относительность” суждения, но даже эта “относительность” — это вовсе не та “относительность”, которую анализировали и критиковали традиционные философы начиная с Платона» (там же).
Гойс специально хочет усилить и насыщает этот последний тезис. Здесь надо отметить, что, хотя его рассуждения обычно насыщены аргументами, у него таким образом появляется свой «мальчик для битья», очень похожий на того, какой, по утверждению Гойса, как раз и был у Платона. Кроме того, неясно, почему надо избегать позиции философского релятивизма, если она уже переформулирована и реабилитирована в многочисленных философских сочинениях по «новому релятивизму» [5]. А это, в свою очередь, позволяет не быть столь пессимистичным, как Гойс, насчет «прозелитического конформизма» аналитической философии (p. 8), особенно потому что «новый релятивизм» концептуально связан с недавним развитием критики идеологии в рамках самой аналитической философии [6].
Второй столп — это убеждение, что в противоположность тому, что под «реализмом» могу подразумевать обычные люди, равно как и его моралистические критики, политические реалисты вовсе не обязаны смирять себя перед лицом статус-кво. Им следует отдавать себе отчет в силе квазитехнократического дискурса о возможном и допустимом, поскольку наше представление о возможном не может полностью освободиться от идеологических соображений о том, что «факты — вещь упрямая» (p. 44–45). Антипозитивизм здесь опять становится очень востребован, но на этом шаге рассуждений очень важно соотнестись с тем различием, которое другие реалисты проводят между своими концепциями и «неидеальной теорией» [Джона Ролза] [7]: реализм — это антиморализм и опора на ряд предварительно отобранных фактов, но в этот ряд не включаются факты, касающиеся пределов возможного [8]. Однако не всегда ясно, хочет ли сам Гойс придерживаться фактов и какого именно рода эти факты. Время от времени кажется, что он нуждается в критически обоснованном понятии допустимого и даже в утопии: вместо того чтобы удерживать себя в рамках наших текущих нужд, желаний и мотиваций, нам нужно сосредоточиться на том, чем мы могли бы стать, — но при этом нужно избегать и того сорта утопизма, который удовлетворяется только картинкой прекрасного итогового состояния, пренебрегая рассмотрением шагов, необходимых для достижения этого состояния, сколь бы решительными они ни были (p. 47). Повсюду в своей книге он проявляет склонность к пессимистическому квази-адорнианскому негативизму, который столь совместим с отвержением любого понятия достижимости: «Если кто-то действительно считает, что общество полностью коррумпировано и скоро разрушит само себя, пожалуй, нельзя считать такого человека менее разумным, чем того, кто предъявляет к обществу требования, которые не могут быть удовлетворены» (p. 143).
Эти две позиции, очевидно, вовсе не исключают одна другую. Урок контекстуализма Гойса состоит именно в том, что разные посылки влекут за собой разные политические суждения. Во всяком случае, напряжение между критическим утопизмом и пессимистическим негативизмом может быть потенциально продуктивным. Работы реалистов в политической философии наконец стали уходить от методологических дискуссий к более широкому кругу нормативных вопросов, или, как предпочтут точнее выразиться большинство реалистов, к вопросам политического суждения [9]. Но большинство из них основано на либерально-реалистической повестке дня, предложенной Бернардом Уильямсом. «Реальность и ее сны» представляет собой довольно мощный стимул к раскрытию радикальной стороны политического реализма.
Примечания
↑1. Prinz J. Raymond Geuss’ radicalization of realism in political theory // Philosophy & Social Criticism. 2015. doi: 10.1177/0191453715583711.
↑2. Finlayson L. The Political Is Political. Rowman and Littlefield, 2015. P. 3.
↑3. Sleat M. Realism, Liberalism and Non-Ideal Theory, or Are There Two Ways to Do Realistic Political Theory? // Political Studies. 2016. Vol. 64. No. 1. P. 27–41.
↑4. Jaeggi R. Kritik von Lebensformen. Suhrkamp, 2013.
↑5. См.: MacFarlane J. Assessment Sensitivity. Clarendon Press, 2014. И это только лишь одна, хотя и наиболее влиятельная работа такого рода в аналитической философии.
↑6. Haslanger S. Resisting Reality. Oxford University Press, 2012; Stanley J. How Propaganda Works. Princeton University Press, 2015. Об отношении между аналитической теорией идеологии и радикальным политическим реализмом см.: Prinz J. and Rossi E. Political Realism as Ideology Critique // Critical Review of Social and International Political Philosophy (forthcoming).
↑7. Non-ideal theory — понятие из «Теории справедливости» Дж. Ролза, означающее метод построения социальной теории, при котором сначала находится теоретическое решение какой-либо проблемы при наилучших условиях (идеальная теория), а затем рассматриваются «отклонения» от этой теории, возникающие при нарушении этих условий (неидеальная теория). — Прим. пер.
↑8. Rossi E. and Sleat M. Realism in Normative Political Theory // Philosophy Compass. 2014. Vol. 9. No. 10. P. 741–744; Rossi E. Being Realistic and Demanding the Impossible. 2015.
↑9. Hall E. How to do realistic political theory (and why you might want to) // European Journal of Political Theory. 2015. doi: 10.1177/1474885115577820; Jubb R. The Real Value of Equality // Journal of Politics. 2015. Vol. 77. No. 3. P. 679–691; Rossi E. Understanding Religion, Governing Religion: A Realist Perspective // C. Laborde and A. Bardon (eds.). Religion in Liberal Political Philosophy. Oxford University Press, forthcoming; Sleat M. Liberal Realism. Manchester University Press, 2013.
Источник: Academia.edu
Читать также





Комментарии