Кто читает русские романы в американских университетах?
Между ностальгией и травмой: «Россия» в Америке Дональда Трампа
 8 034
8 034 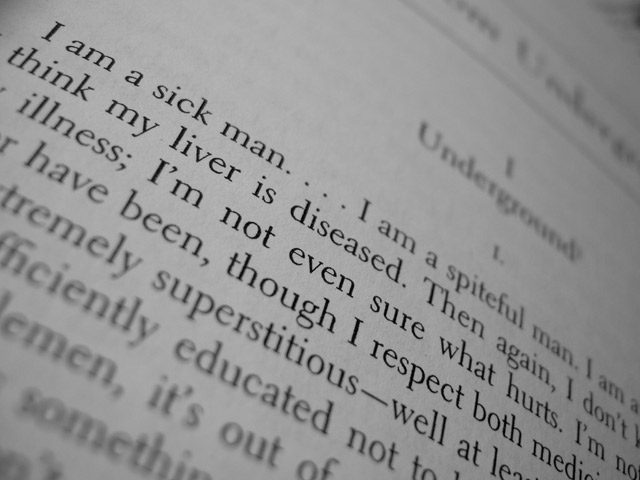
© Оригинальное фото: Doctor Yuri [CC BY 2.0]
— Мы беседуем с Людмилой Федоровой, профессором Джорджтаунского университета, о русской культуре и русской литературе в современной Америке, об их месте в современной американской культуре и в академической среде. Этот разговор по моему замыслу продолжает цикл бесед о «русскости» и возобновлении русского, опубликованных «Гефтером» в прошлом году, которые связаны с необходимостью нового переопределения или нового понимания содержания категории «русский» — освобождения русскости от имперского содержания, которое почти неминуемо ей приписывается, и попытка представить «русское», русскую культуру и русский язык среди других культур и языков и жизни современного мира. Поэтому важно поговорить о роли и месте русскоязычной литературы в современном американском университете.
Но хочу я начать с вопроса о твоей личной истории: как ты собственно оказалась здесь? Мне кажется, что очень нетривиальный путь для русского гуманитария, именно для гуманитария, — оказаться профессором одного из ведущих американских университетов. Насколько твоя история вообще показательна, типична, на твой взгляд?
— Моя история совсем нетипична. Я приехала по личным причинам, еще учась в аспирантуре Московского университета. Это было еще во время написания диссертации, после того как все необходимые курсы мы прослушали и сдали экзамены. Вначале я думала, что вообще еду на один год, но постепенно сложилось по-другому. Собственно, в этот первый год я писала диссертацию и изучала, как устроена американская жизнь, я тогда была в Чикаго. Но потом решила попробовать, может ли сложиться жизнь специалиста по русской культуре не в России.
В России мне были более-менее понятны все возможные карьерные пути: работа на кафедре — преподавание где-нибудь на филфаке или в какой-нибудь хорошей гимназии, или редакторская работа в журнале. Более-менее было понятно, в какие московские вузы я бы пошла. Но хотелось чего-то совсем другого — такого, чего никто из моих ровесников не пробовал. Если у тебя будет совершенно новая жизнь, то как ее можно обустроить?
Уже потом я написала книжку про Америку в русской культуре и увидела, что это мое представление, что здесь заканчивается старая жизнь и начинается совершенно другая, новая, довольно характерно для русских писателей, которые приезжают в Америку, и вообще для русского сознания. В повести Тана-Богораза «Авдотья и Ривка» приезжает женщина из России, и ей говорят: выходи замуж. Она отвечает: я не могу, у меня муж в России. На это ей говорят: это же там, в России, а здесь у тебя новая жизнь, это все равно что ты родилась бы заново. Сначала я хотела любую работу, которая так или иначе была бы связана с языком, русским или английским, и литературой. Я работала переводчиком и социальным работником, какое-то время работала экскурсоводом. Но потом я поняла, что, чтобы работать переводчиком с английского на русский, необязательно уезжать и жить в Америке.
В конце концов я стала преподавателем, адъюнктом в Университете Иллинойса. Оказалось, что получить первую работу в академической среде — это самое важное, и, в общем, это было самое трудное. Я подавала заявления в разные университеты, которые объявляли позиции, но в области русской литературы открывается, наверное, не больше пяти-шести позиций в год. Мы приехали в 1998 году, и в это время уже сократилась необходимость в специалистах по русской культуре. Тогда интерес к России уже довольно сильно упал, при этом было явное перепроизводство специалистов, и одновременно появилось довольно много людей из России. Те считали, что из-за того, что они хорошо знают русский язык и русскую литературу, они естественным образом могут преподавать их в Америке. А это совершенно не так, потому что хорошо знать что-то почти с рождения и уметь это преподавать — не одно и то же. И более того, иногда трудно преподавать именно то, что ты очень хорошо знаешь, потому что трудно представить, как это слышится и видится другому. Требуется особое ментальное упражнение. Для меня в преподавании русского языка это один из самых интересных моментов: я каждый раз должна отстранять это свое знание, чтобы понять, что я должна объяснить американскому студенту и в какую его систему представлений я это вписываю.
— То есть ты приехала в поиске возможности попробовать пожить другой жизнью?
— Безусловно, это было приключение. Но при этом я пыталась встроиться в местную систему, занимаясь именно тем, чем я хотела заниматься с самого начала, — изучением и преподаванием русской литературы. Многие мои коллеги значительно сильнее меняли сферу деятельности, развивались в пограничные области. Кто-то стал программистом, и для тех, кто учился на отделении структурно-прикладной лингвистики, это довольно логичный путь, кто-то из филологов стал юристом и профессором права. И с одной стороны, я знаю, что я нахожусь здесь на своем месте, с другой стороны, прекрасно осознаю, что в этом есть огромный элемент везения и чудесного совпадения именно с моими коллегами, с моей кафедрой.
— Можно ли сказать, что русский филолог в Америке — это ориентализованный представитель экзотического предмета? Есть африканские исследования, есть китаисты, а есть и специалисты по России — в качестве экзотики, необходимой университету, чтобы нарастить культурное разнообразие. Это уравнивает позицию русской литературы, албанской, африканской и так далее. Есть ли какие-то особенности у русской культуры или русской литературы, если начинать говорить именно о литературе, которые выделяют их из ряда других незападных или неанглоязычных культур и литератур, делают ее особенно интересной или важной?
— Именно наш университет специализируется на международных отношениях, и русская литература — важная часть образования специалистов по России, наряду с российской историей, экономикой и политикой. Но в принципе для меня именно маргинальность русской литературы для здешнего читателя, для здешнего студента оказалась новостью, которую мне было вначале трудно пережить. Притом что все равно существует это стереотипное представление о какой-то высокой духовности русских и особенной их загадочности.
Считается, что американские студенты очень практичны. Но наши выпускники довольно часто не могут объяснить, почему пришли изучать русскую литературу. Никакой практической причины не было, говорят они, это какая-то магия. И это именно магия русской культуры. Я могу засвидетельствовать, что они приходят, потому что хотят читать Достоевского, Толстого и Булгакова. У меня сейчас есть студент, который хотел выучить русский язык, чтобы прочитать «Мастера и Маргариту» в подлиннике. Таких за все время было у меня двое.
— Но Толстой и Достоевский — это XIX век. Достоевский вошел в число тех авторов, вокруг которых в современной академии существует самодостаточная исследовательская индустрия, скажем, как в философии вокруг Канта. Но ведь все равно это XIX век. Современная русская литература, похоже, не сводится к Достоевскому? Можно любить современную русскую литературу и читать ее, при этом не интересуясь Достоевским?
— Что меня как раз привлекает в американской филологической жизни — это как раз постоянное открытие Достоевского «для людей» и стремление связывать его с современной литературой. Вообще-то я читаю курсы в основном про ХХ век, но сейчас очень популярен курс «Тюрьма и изгнание». Мы начинаем его с «Записок из Мертвого дома». И кроме того, данная индустрия оказывается полезна для привлечения студентов. Они приходят, потому что у них уже есть некоторое представление о великих писателях XIX века, но потом они начинают читать и любить все остальное.
Интересно, что, обсуждая здесь Достоевского или Толстого, ты все время переключаешься на современные проблемы. Мое последнее обсуждение современной американской внешней политики и запрета въезда в Америку для жителей мусульманских стран произошло, когда мы сравнивали «Кавказских пленников»: мы читали Толстого, смотрели фильм Бодрова и читали «Кавказского пленного» Маканина. И когда мы обсуждаем проблему терроризма, в том числе исламского, начинать нужно с русской литературы XIX века, с «Путешествия в Арзрум», с «Хаджи-Мурата», опять же с «Кавказского пленного». Писатели XIX века — совершенно полноправные и современные участники диалога на эту тему. История с «кавказским пленным» показывает, что от этой войны, которая началась несколько столетий назад и до сих пор продолжается и где обе стороны оказываются пленниками, никто не может уйти, и вполне современный Маканин как раз спорит с Достоевским.
— Насколько русская литература востребована во внутриамериканских дискуссиях об американской жизни? Помогает ли русская литература что-то понять в происходящем сейчас? Приведу пример: для моего поколения жителей России в свое время очень важным оказалось творчество Джима Джармуша, как ни странно. Видимо, Джим Джармуш для людей моего поколения каким-то образом помогал дооформить наше собственное самовосприятие. Не так важно, что это не литература, а кино, но это неплохой пример. Фильмы Джармуша, снятые для американцев и про американцев, удивительным образом оказались востребованы в России конца 90-х — начала 2000-х, потому что они каким-то образом помогали нам сформировать наше самочувствие и самоощущение. Можно ли сказать, что сейчас в Америке каким-то образом русская литература кому-то помогает что-то понять в американской жизни?
— Безусловно. Я уже отчасти упомянула это, когда говорила о Маканине и о том, как связанные с исламом проблемы рассматривались в этой литературе. Моя коллега Ольга Меерсон ведет курс «Ислам versus терроризм», и это курс по русской литературе. Мне кажется, что сейчас русская литература особенно важна, потому что у американцев в последнее время появилось какое-то общее и новое, непривычное ощущение жизни. Такое было после атаки 11 сентября, после которой был всплеск интереса к русской литературе. После последних выборов многие мои студенты оказались в ситуации, где все, что они знали об этом мире, стало нерелевантно. Все вдруг поняли, что нужно заново начинать строить свое представление о мире, возвращаться к основным этическим вопросам. А русская литература совершенно естественно формирует у них новые представления и учит выстраивать собственную систему ценностей в голом мире.
— Это может делать и любая другая литература? Кто-то читает русских писателей, кто-то других. А есть ли какие-то особенности именно у русской литературы?
— Особенность русской литературы, важная для нашего преподавания, состоит в том, что Достоевский определил как «всемирную отзывчивость».
— Что это?
— Внимание к культуре другого, к другой субъективности и к сознанию другого. Как русская литература в какой-то момент восприняла английский сентиментализм, немецкий романтизм.
— Хорошо, а если сравнить… всемирно-отзывчива ли, скажем, японская литература? Кто может быть более японским писателем, чем Юкио Мисима, который пишет роман из древнегреческой жизни и пьесу «Мой друг Гитлер»? Тот же Акутагава в общем-то очень многим обязан Достоевскому, как и вообще поколение Акутагавы, — несмотря на то что это поколение победителей над Россией, они «обязаны» русской литературе XIX века. Да и американская классическая литература тоже заимствует и переваривает все что угодно. Любая национальная литература сейчас в принципе постоянно что-то заимствует — тем и живет. При этом в России распространен тезис, который восходит, как мы знаем, к Достоевскому, а до него, видимо, к славянофилам, о том, что русская душа как-то по-особому восприимчива и как-то особенно всемирна. Может быть, в XIX веке людям радовало слух осознание такого рода избранности, но сейчас-то на это разве можно смотреть без иронии?
— Конечно, можно идти к этому вниманию к другому, к попыткам увидеть себя с точки зрения другого разными путями, через разные литературы.
Мне как раз в таком самопредставлении и самопозиционировании важна не избранность, а наоборот, что оно не подразумевает исключительности и изоляции.
— Можно ли считать, что для современной американской гуманитарной среды русская литература обладает неким особым качеством всеобщности и всеотзывчивости?
— Можно. И этим представлением о многообразности субъекта она привлекательна именно для американской культуры и американской литературы. Потому что действительно и американская литература строит себя подобным образом, вбирая в себя разные культуры и разные влияния. Русская литература отзывается именно у американского читателя, во многом благодаря одновременному притяжению и отталкиванию этих культур, их утопичности. Ведь и Советский Союз, и США возникли как попытки построения утопии. Русская литература говорит о том опыте травмы и ее преодоления — личном и историческом, который американская культура, не испытав в явном виде в собственном опыте, смутно предчувствует. Очень важными темами, альтернативным опытом оказываются темы революции, коллективности, тоталитаризма и сопротивления ему, человека и власти.
— Современная, точнее, актуальная русская литература — кто это? Если сейчас человек хочет здесь преподавать актуальную русскую литературу, то на ком останавливается взгляд? Конечно, важны личные пристрастия, но, наверное, есть и некоторое ощущение мейнстрима или репрезентативности. Кто наиболее репрезентативен?
— Можно смотреть на русскую поэзию и составить целый курс по современной поэзии, он, наверное, и был бы самым репрезентативным для нынешнего времени. Я согласна с Ильей Кукулиным в том, что поэзия и проза в 2000-х как бы обменялись ролями, и поэзия более глубоко и интенсивно пытается работать с историческими травмами современного сознания. И именно в поэзии происходит важное разрушение литературных иерархий. Но когда я строю курс, я ограничена тем, что значительная часть моих студентов может читать только переводы. Так что если все-таки смотреть на русскую прозу, то в курс войдут Виктор Пелевин, Владимир Сорокин, Михаил Шишкин, нужен будет Захар Прилепин — он, безусловно, репрезентативен. Владимир Маканин, Юрий Буйда, «Географ глобус пропил» Алексея Иванова. Надо будет включить Ольгу Славникову, Татьяну Толстую, Анну Матвееву — мне симпатична ее книга про 90-е «Девять девяностых». В последнее время русская литература, которую я читаю, оказывается женской литературой. Из последних это была именно Матвеева, «Завидное чувство Веры Стениной», Елена Чижова «Время женщин», Катишонок «Жили-были старик со старухой».
— И теперь, как и 10 лет назад, Сорокин и Пелевин остаются лидирующими авторами?
— Все равно остаются — но они же и развиваются.
— Это очень интересно. Можно сказать, что, конечно, современная внутренняя политика России устроена «по Пелевину», эту фразу все понимают, но это не значит, что к текстам Пелевина обращаются для понимания происходящего. Его почти не обсуждают.
— Пелевин довольно честный и точный историограф того, что происходит в России, и очень реалистический писатель. Удивительно, что современные американцы понимают происходящее в американской политике, читая «Generation “П”».
— Читают?
— С нашей помощью иногда читают.
— Рассматриваешь ли ты в своих курсах русскоязычную литературу, созданную не в России?
— Собственно, Шишкина я с самого начала назвала.
— Михаил Шишкин — эмигрант. А если говорить о происходящем, например, в Украине, или в Средней Азии, или на Кавказе?
— Мне ужасно интересно, что происходит в Казахстане — и казахстанская поэтическая школа, и их попытки найти свое место в мировой культуре. Они настолько боялись оказаться на краю этой мировой культурной жизни, что прочитали абсолютно всю современную философию и литературу и интеллектуально оказались в центре. Я знакома с алма-атинским кругом поэтов, и у меня с ними произошло моментальное узнавание, это люди какого-то интеллектуально совсем близкого круга. Это культуртрегер и поэт Павел Банников, это очень интересная поэтесса Мария Вильковиская. Для них обостренное ощущение своей крайности, маргинальности — то ли просто заброшенности, то ли заброшенности вперед, отсюда их мерцающая идентичность — языковая, национальная, гендерная — как уже следствие, как попытка, по-видимому, внешне воплотить, материализовать эту непринадлежность. Потому что это главное, что они про себя знают, — про то, кем они не являются. Они ощущают себя стоящими на пересечении культур — отсюда их проект креолизации.
Об эмигрантах. Если смотреть на русскоязычную литературу в Америке, это как раз вовсе уже не литература очередной волны эмиграции. Здесь в среде молодых поэтов, часто нью-йоркских, вырастает какая-то собственная литература, совершенно не озабоченная эмигрантскими проблемами, и она как раз очень вписана в американский круг чтения. Они ведут какие-то совершенно свои диалоги с разными частями мировой культуры, больше, чем даже с русской литературой. И для Анны Глазовой, например, Пауль Целан является одним из самых важных поэтов. Это, безусловно, Полина Барскова, из молодых поэтов — Григорий Стариковский, тоже живущий в Нью-Йорке.
— Можно ли говорить о русскоязычной, но не российской литературе как о литературе все-таки уже немного другой? (Это болезненное разделение, но как-то оно должно все равно формироваться.)
— Я думаю, что теперь не так важно, где именно эта литература создается.
— Но то, что называется «гений места», атмосфера, воздух, по-прежнему важно?
— Важно, и нью-йоркская поэтическая школа очень интересна как раз как попытка обжить американскую реальность на русском языке. Для меня очень важно, что я здесь — не на голой земле, но есть люди, которые именно на моем литературном и поэтическом языке воспринимают и описывают окружающую меня реальность, увеличивая количество важных для меня культурных слоев. Нью-йоркская школа очень выделяется: они работают со сложно устроенной структурой городского пространства. Это Ирина Машинская, Хельга Ольшванг, Бахыт Кенжеев, Алексей Цветков.
Мне ужасно нравится, что пишет Евгений Сливкин, например, про жизнь в американской глубинке на русском. Эти стихи вдруг оказываются частью той русской поэзии, которая развивалась в 1920-е годы, потому что в них есть какая-то явная связь с литературой модернизма, с андеграундной поэзией 60–70-х. Но при этом настоящим-то домом и гением места все равно является сам диалог с мировой литературой. Укорененность в культуре более важна, чем место в пространстве. Этот диалог явно происходит поверх границ. Часто, читая поэта, я не знаю на самом деле, где он пишет. Марию Степанову я, например, легко могу представить в Нью-Йорке. Вообще, это как раз особенность современной русскоязычной литературы. Да и кроме того, современные поэты часто путешествуют, и эта реальность тоже становится частью их поэзии. С другой стороны, я говорила про Казахстан: для этих поэтов очень важна их привязанность к конкретному месту и проблемы перевода — они создают новую литературу Казахстана и ищут свое место в мировой культуре.
Интересно, что в Америке есть писатели — дети эмигрантов или приехавшие сюда в раннем возрасте. Они пишут по-английски, но часто они пишут о России, — например, Лара Вапняр. Их герои русские, у них детство русское и более того, видно, что авторы читали русские книги и воспитывались на них, при этом они пишут на прекрасном английском языке и обращаются к англоязычному читателю. Хотя я думаю, что идеальный их читатель — это двуязычный русский читатель.
— Можно ли проводить какие-то параллели, строить аналогии в этом смысле, например, с другой мощной региональной литературой, с индийской? Есть авторы, выросшие в Индии, они пишут на индийском материале, но явно обращаются к не индийскому читателю в первую очередь. Таким образом они встраивают индийскую тематику в глобальные дискуссии о происходящем в мире. Скажем, Салман Рушди.
— Да, я думаю, что возможны такие аналогии. Но большое различие с индийцами в том, что в них нет постколониального смысла. Русская литература встраивается как полноправный участник диалога, тут нет сложных отношений бывшей вины и общего прошлого. Но в принципе мне как раз ужасно интересна именно эта линия — Гарри Штейнгарт, Ольга Грушин, Лара Вапняр. Да, это обращенность к разному типу читателя и возможность работать на разных уровнях. Они одновременно держат в уме и американского читателя, не знающего почти ничего о России, и при этом этот текст особенно отзывается у русского читателя, который совсем иначе его понимает — через намеки, но чаще через какие-то узнаваемые психологические детали детства. Но это как раз тоже общий тренд — писать об эмигрантском детстве в экзотической стране человека, уже живущего в этом американском новом мире.
— Тут важно, что речь идет именно о детстве как о потерянной стране. Понятно, что все мы родом из детства. Детство — это место чистых лирических переживаний, неважно, в какой стране.
— Есть разные традиции писания о детстве. Да, одно из направлений — это ностальгия по детству и его идеализация. Но есть и довольно страшные детства, взять хоть повесть Санаева «Похороните меня за плинтусом».
— У этих писателей, о которых ты говоришь, какого рода детство в России, детская сторона какой России предстает глазам американского читателя? Положительная или отрицательная? Каков ее знак?
— Детская сторона России все-таки для них ностальгическая и предстает явно со знаком плюс. При этом герои иногда ездят в современную Россию и видят разницу между Россией их детства и этой Россией, которая уже совсем необязательно такая. То есть знак плюс больше связан с детством, чем собственно с Россией.
— Мила, как раз я хочу спросить тебя о жанре путешествий в Россию. Новосибирский Гёте-институт время от времени приглашает европейских авторов в Россию. Они совершают путешествие по Транссибу, едут, приезжают в Новосибирск и описывают все, что видят из окна поезда, события в поезде, потом они описывают, как приезжают в сибирский город, обычно там либо летняя жара, либо зимняя вьюга, ходят по этому городу, общаются с яркими представителями местного населения и потом уезжают. И удивительно, что этот жанр практически не изменился за последние сто с лишним лет. Как американские или европейские туристы приезжали в Сибирь на рубеже XIX–XX веков, так они и сейчас приезжают, так же общаются с местной творческой интеллигенцией, так же ходят по городу и удивляются странным вывескам и прочее. Поездка в Россию — что это за литературное явление? Чем отличается поездка в Россию от поездки в Сенегал, в Мавританию, на остров Таити?
— Здесь важно различать путешествия иностранцев вообще и путешествия американцев. Для американцев такая поездка — как бы попытка взглянуть на своего близнеца, который воспитывался в другой семье, с очень отличающимися принципами. Эта традиция сопоставления и противопоставления стала особенно популярной со времен Токвиля. Две большие страны, занимающие огромные территории, претендующие на особую роль в мире, обе противопоставляющие себя Европе, причем обе — все-таки с европейским типом культуры, обе начали развиваться сравнительно поздно; техническая революция в одной соответствует по масштабу социальной революции в другой. Александр Эткинд писал об этом в работе «Россия и Америка в травелогах и интертекстах», я — во вступлении к книге «Янки в Петрограде». Путешествие в Россию так привлекает американца, потому что для него это опыт альтернативной истории, попытка что-то понять о себе через свою противоположность. Ну, и еще примерить более экстремальный образ жизни и по-новому оценить свой собственный, с гарантированными правами и удобствами.
А описания путешествий, травелоги, складываются уже в отдельный жанр, с устоявшимися канонами: на выбор маршрута влияют путешествия предшественников, и видят авторы, как правило, то, что уже готовы увидеть. Этим похожи американские авторы, ездящие по России, и российские, путешествовавшие по Америке.
— А как российские писатели путешествовали по Америке?
— В американских путешествиях русских писателей Америка была адом, куда советский писатель спускался, чтобы потом в новой славе воссиял их социалистический рай. Это было в 20-е годы, но здесь важно, что эта линия все равно никуда не делась. Когда советские писатели описывали американцев, которые приезжают в советскую Россию, то они часто представляли себе их как людей, ожидающих увидеть ад, но на самом-то деле обнаруживающих: то, чего они боялись, — это рай. Потом парадигма сменилась. Во второй половине XX века самая интересная литература об Америке создается русскими писателями-эмигрантами. Они вдруг узнают в Америке тот самый рай, который они потеряли в России. Таков, скажем, «Пнин» Набокова. Позже появляется другой сюжет, например у Игоря Ефимова в романе «Седьмая жена». Там человек, выросший в Америке, вдруг едет в Россию, которая там называется «Перевернутая страна», и его представление об аде и рае совершенно меняется, он попадает в какой-то хаос и понимает, что там не работают знакомые ему законы и привычные представления. И вся эта бинарная оппозиция начинает разрушаться.
Мне это как раз интересно в современной литературе о поездке эмигранта в Россию. Герой Игоря Ефимова осознает, что нет никакого идеала ни в том, ни в другом месте, никакого утешения в России он все равно не находит.
— То есть приехал он, а там в общем все то же, и люди так же ходят, живут, встречаются с какими-то проблемами, но в общем все то же самое? Не рай, не ад, а по-прежнему земля…
— Из-за того, что ты-то ожидал рая, все равно случается разочарование. Обычно присутствует мотив неоправдавшихся ожиданий. Но часто также он сопровождается мотивом разрушения иерархий, привычных систем. Выясняется, что границы, на которые ты рассчитывал, не существуют. Бывает, конечно, и ад: это скорее так, например, у Валерия Бочкова. Он вообще-то пытается создавать нового русского героя в Америке, который здесь уже укоренился. Однако когда его эмигрант в «Коронации зверя» едет в Россию, то там как раз наступает ад и реализуется кошмар русского эмигранта: выясняется, что режим пал, и он сразу попадает в военный переворот.
В целом, это очень сложная тема, здесь нужно действительно анализировать тексты, потому что, когда ты, приезжая, видишь произошедшие изменения, а какие-то куски, которые существовали в твоей памяти, исчезли, это уже само по себе воспринимается как катастрофа. Не нужно никакого политического переворота: ты уже видишь разрушение временем. Интересно будет посмотреть на литературу людей следующего поколения, которые вырастут здесь, будут знать о России только по рассказам родственников и, наконец, поедут туда. На самом деле, в таком положении сейчас находятся мои студенты.
— Многие из них имеют русские корни?
— Необязательно, у меня есть армянские студенты, украинские студенты. И для них как раз очень важны именно их культурные и этнические отличия. Студенты с русскими корнями тоже есть, но их, пожалуй, столько же, сколько студентов из бывших союзных республик.
— Хорошо. Ты говорила о «тюрьме и ссылке». Тема заключения очень важна для русской литературы, русского самосознания в целом, поскольку, как сказал философ Олег Генисаретский, Россия — «страна условно расконвоированных». И, например, в Европе, в европейских интеллектуальных кругах такие люди, как Варлам Шаламов или Евгения Гинзбург, являются в некотором смысле стандартным чтением. В разговоре о тюрьме Варлам Шаламов или Примо Леви — это стандартная ссылка. И сейчас Россия остается страной с чрезвычайно развитой тюремной инфраструктурой, с сильным влиянием тюремной субкультуры на массовое сознание. Это ее роднит с Америкой, кстати. Насколько в этом качестве русская литература востребована как презентация ссылки, тюрьмы и вообще темы неволи?
— Это традиционно очень популярный курс; как мне кажется, потому, что он — об исследовании человеческой природы на каком-то самом глубоком уровне, в крайней ситуации. Что позволяет человеку оставаться человеком, когда, кажется, все человеческое у него отобрано, как в шаламовском лагере? И за счет чего возникает катарсис даже в шаламовских рассказах?
Сейчас в Америке происходит рост литературы и сериалов о тюрьме — «Оранжевый — новый черный», например. Это, в общем, ожидаемо, что в культуре, так завязанной на идею прав и свободы, есть интерес к теме бесправия и несвободы. Тюремной литературой может оказаться даже литература про подростков — Holes, например. Часто мои студенты проецируют на эту тему свой собственный опыт службы в армии.
Удивительная особенность именно русской литературы тюрьмы и ссылки в том, что из этих текстов я могу составить довольно полный курс истории литературы. Они не принадлежат к какому-то одному периоду, и при этом главные авторы будут охвачены. Но, конечно, важно дать понять, что вообще литература шире одной этой темы, что она ей не исчерпывается.
Моя задача изначально и была — сделать курс по истории литературы. Но в Америке студенты скорее всего не запишутся на курс, который называется «История русской литературы XX века». В нем нет проблемы. Их интересует какая-нибудь одна тема, или направление, или какой-то принцип, вокруг которого все строится, нужна концептуальность. Сами по себе история и фактология никого не интересуют.
Поэтому, кстати, у нас аспирантура теперь строится не вокруг кафедр и дисциплин, а вокруг проблем. Например, берется проблема старения, и ей занимаются с разных точек зрения медики, философы, экономисты.
И я думаю, кстати, что все свои курсы я веду именно из-за актуальности их тем для современных американских студентов. У меня есть несколько таких центральных тем, вокруг которых я могу выстраивать историю русской литературы XX века. «Тюрьма и ссылка» — отличный пример. Здесь главные имена — это опять Достоевский, Платонов, Мандельштам, Ахматова, Шаламов, Солженицын, Гинзбург и Синявский. При этом у нас есть Довлатов, у которого взгляд наоборот со стороны охранника, и заканчиваем мы Пелевиным, «Затворником и Шестипалым».
— А почему, скажем, не перепиской Ходорковского?
— Можно было бы, но мы литературными текстами занимаемся, а его письма — это все-таки не художественная литература. Хотя, на самом деле, мы иногда обсуждаем Ходорковского и все время связываем литературу, которую мы читаем, с современными событиями. Да, это хорошая идея.
Я думаю, что в конечном счете мы же не воспитываем здесь филологов, но часто — будущих политиков, а чаще всего просто людей, которые еще толком не знают, чем они будут заниматься. Поэтому на самом деле воспитание как подготовка к жизни в той реальности, в которой они будут жить, чуть ли не более важная наша задача, чем именно филологическое воспитание. Совсем не все из наших студентов идут потом в аспирантуру, поэтому я пытаюсь строить курсы вокруг важных для них этических проблем. И главное, что мы обсуждаем в этом «тюремном» курсе, — является ли выживание высшей ценностью. И мы спорим весь семестр, чем можно пожертвовать ради выживания и помогает ли сохранение человечности в выживании или просто является тем условием, на котором мы в принципе и согласны выжить. И это всё для них ужасно актуальные проблемы.
— Будет ли востребована литература, посвященная невозможности сопротивления, проигрышу, коллективной беспомощности?
— Нет, на это американцы, я думаю, никогда не согласятся.
— Это не американский опыт?
— Не в этом дело. Скажем, Шаламов — это литература не беспомощности, а того, каким образом в человеке сохраняется что-то человеческое, несмотря на то что, кажется, у него все отняли. И это литература сопротивления, да, но не поражения. Каким образом, несмотря на все внешнее поражение, ты можешь оказаться в выигрыше. Не в совершенном выигрыше, но одержать какую-то внутреннюю победу.
— Когда я учился в школе и потом, меня учили, что в классической русской литературе XIX века есть тема «маленького человека». Опять же, насколько она, на твой взгляд, характерна или уникальна для русской литературы, учитывая, что, конечно, то, что здесь известно под русской литературой, это не вся русская литература, и читается ли она таким образом, востребована ли эта тематика?
— Востребована. У меня даже пару лет назад студентка писала диплом на эту тему. В частности, сравнение маленького человека в русской и американской литературе XX века. Интересно, что маленьким человеком оказывался, к примеру, Великий Гэтсби.
— Тема «маленького человека», беспомощности, невыносимой необходимости постоянного коленопреклонения перед неведомой, но грозной начальственной силой?
— Но ведь тема маленького человека в русской литературе другая. Этот «маленький человек» все равно может оставаться человеком, и как маленький человек может даже вступать в противостояние с этой официальной властью. Собственно, русская литература тем и хороша, что она дает возможность маленькому человеку сохранить свое внутреннее достоинство, и она говорит о субъективности и важности маленького человека, несмотря на то что в противостоянии с государственной властью он вообще кажется ничем. А маленький человек в американской литературе и американской жизни не менее актуален — работающий в корпорации, например.
— Еще какие «русские» темы актуальны? Революция и революционная утопия?
— Да, и это тоже — как раз тема одного из моих курсов. У меня есть курс «Литература и революция: между бинарных оппозиций», и мне ужасно важно показать недостаточность этой суммы бинарных оппозиций, в которых часто рассматривается русская литература.
— Что нужно сейчас читать «о России», чтобы лучше понять происходящее?
— Боюсь, это все равно будет не современная литература — это будет XIX век и та литература XX века, которая в очень большой мере выросла из него, — Булгаков, Платонов, Шаламов, Солженицын.
— Шаламов свое родство с XIX веком отрицал, он создавал новую прозу.
— Отрицал, но при этом он постоянно находится в диалоге с тем же XIX веком, и «Колымские рассказы» во многом построены как диалог с Достоевским. И это вообще удивительно, насколько видно различие между тем, что Шаламов сам заявляет про свою прозу и что он реально делает, когда пишет. Поразительно, насколько эта «новая проза» все равно интертекстуальна.
— Авторы, которых ты называешь, писали в условиях советского закрытого общества и некоторой изолированности от так называемой мировой культуры — и с той стороны тоже была эта изолированность. И в этом смысле они как бы выражали некоторый аутентичный опыт жизни в закрытом обществе. С тех пор как свобода их встретила всех у входа, на руинах Берлинской стены, так сказать, русская литература вышла из своего кокона. Сейчас его обсуждение — это все не более чем ностальгия и рефлексия ностальгии. Авторы, которые писали уже в 90-е годы, например Пелевин, уже не то что не советские или постсоветские — они просто вне того контекста борьбы за свободу, они занимаются другими темами.
— Пелевин с «Омоном Ра» все-таки еще очень сильно про это… И он как раз по-прежнему очень востребован американским читателем. Вполне возможно, что эта литература про опыт выживания и сохранения человечности в условиях закрытого общества актуальнее для американского читателя, чем то, что создавалось после 91-го года.
— Можно ли это утверждение о росте ее актуальности как-то проверить?
— Надо посмотреть на количество переводов, хотя бы изданий и переизданий книг. Притом что университеты очень стараются популяризовать современную постсоветскую русскую литературу — переводят короткие рассказы и читают курсы по русской литературе XXI века. Но то, что востребовано американским читателем, — это действительно та самая литература закрытого общества, потому что этот опыт был уникален. На самом деле, произошла большая перемена. Опыт тоталитарной культуры для современного американского читателя — это безусловно уже не то, что никогда не может произойти с американцами. Самые интересные мои собеседники очень интересуются именно механизмами сопротивления тоталитаризму и условиями выживания в тоталитаризме.
Но очень часто я наблюдаю, что мы сразу реагируем на какие-то идеи, даже на построения фразы, на какие-то логические ходы, и некоторые риторические стратегии собеседника или власти являются для нас безусловным сигналом опасности, а мои американские коллеги часто не опознают их как таковые. У нас все же есть та самая прививка, и в русской литературе есть эта прививка, самые дальновидные читатели как раз это про нее знают.
Один из главных методов, которым я учу студентов, — это учиться распознавать в тексте, который они читают, механизмы манипуляции и учиться их деконструировать. Из-за этого, например, так важны наши антиутопии. Мы читаем «Мы» Замятина, и разговор главного героя с Благодетелем, который собственно является примером соблазнения, для них ужасно важен. Можно ли что-то возразить на обоснование необходимости сильной власти? Мы смотрели знаменитый ролик «Я русский оккупант», и я видела, как мои студенты, начинающие, посмотрев его, совершенно не знали, что возразить, весь месседж показался им ужасно убедительным. А уже немного более продвинутые и имеющие опыт в том числе чтения русской литературы студенты уже могли этому что-то противопоставить.
— Что можно противопоставить?
— В частности, один сказал: предположим даже, что все так и есть, как показано в этом ролике, хотя смешение правды и лжи и изменение пропорций правды и лжи — очень сильный, очень влиятельный инструмент манипуляции, но даже если Россия была такой великой, означает ли это, что любые средства хороши для того, чтобы добиться величия и экономического процветания?
— Это ведь как раз очень американская тема.
— После наших уроков они вдруг задаются вопросом: а может быть, не все средства хороши ради достижения цивилизационного успеха и процветания?
Беседовал Михаил Немцев




Комментарии