Историографическая анкета Гефтер.ру. Часть вторая
Мы продолжаем активно заполнять графы нашей «историографической анкеты» с помощью отечественных историков-профессионалов. Сегодняшние ответы принадлежат нашему давнему партнеру — новосибирскому историку Наталье Палишевой и московской исследовательнице, просившей у нас сохранения ее анонимности.
 2 020
2 020 
© zaveqna
Анонимный историк
Какое определение «исторической политики» в России Вы дали бы по ее состоянию на 1988–1989, 1993, 2012 годы?
Не могу ответить на этот вопрос. Могу, наверное, сильно напрячься, подумать и попытаться сформулировать, но это потребует от меня больших усилий, а смысла я в этом не вижу, потому что всегда мне была интересна историческая наука и никогда — историческая политика. Возможно, я заблуждаюсь, но мне кажется, что я всегда была сама себе идеологический отдел ЦК КПСС. Попрошу при обобщении результатов опроса учесть и такую профессиональную стратегию — партизанскую, позволявшую себе роскошь независимости.
Методы и модели исторического знания менялись за последние десятилетия не раз. Насколько Вы переживали эти изменения как крушение старых идеалов, как вызов или как необходимость по-новому проработать старый материал? Были ли у Вас кризисы, связанные с изменением моделей исторического знания?
На мой взгляд, вопрос сформулирован не вполне корректно. Менять можно то, что существует в единственном экземпляре и является безальтернативным. Слава Богу, наша наука давно уже устроена не так. Во всяком случае, вся моя профессиональная жизнь прошла в условиях методологической свободы. При мне ученые уже не ходили строем и не поворачивались по команде. Идет нормальный живой процесс развития науки, появление новых методов и моделей не отменяет старые, если они еще сохраняют научную плодотворность, а дополняет их. Поэтому я не вижу никакой болезненности в этом процессе. Если тебя устраивает твоя методология, ты продолжаешь работать в соответствии с ней, и ничто не заставляет тебя меняться. Лично у меня никаких драм такого рода не было.
Какие авторитетные имена советского и русского исторического знания для Вас по-прежнему притягательны и почему: благодаря профессионализму, гражданской позиции и проч.
Возможно, я нетипичный пример, но имена никогда ничего для меня не значили. Я понимаю и признаю, что личность ученого играет большую роль в истории науки, но специальным изучением историографии я не занималась, а для практических нужд я читаю любые труды с совершенно одинаковой степенью критицизма.
Конечно, есть классические труды и авторы их — классики. И про этих классиков многое известно, в том числе и такое, что вызывает уважение к ним как к личностям и как к ученым. Но для нужд конкретного исторического исследования неважно, классиком ли сделано важное наблюдение или никому не ведомым аспирантом. В общем, история всегда была и остается для меня интереснее, чем историки.
Что для Вас «современность», как Вы ее локализуете, с каких годов она для Вас начинается, с каких событий, как характеризуется географически и почему?
Формально нижней границей современности я считаю, конечно, 1991 год (с подготовительным периодом в виде второй половины 80-х), когда были заложены основы существующей сегодня системы общественных отношений. Разумеется, в первую очередь революционные изменения затронули крупные города. В общем, все достаточно очевидно, так что неинтересно разжевывать.
Насколько принципы историзма значимы для Вас при оценке современных политических явлений? Какое из мировых политических событий последних лет Вы считаете самым значимым историческим событием и как об этом событии написал бы беспристрастный историк?
По-моему, принципы историзма вообще лежат в основе восприятия мира образованным человеком. Соответственно, их нельзя включать при оценке одних явлений и отключать при оценке других. Не понимаю, как для современных политических явлений может быть сделано исключение. Вообще меня удивляет такое отношение к политическим явлениям современности, как будто изобретение политики произошло только что и происходящее с нами происходит вообще впервые. Да, конечно, каждый человек проживает свою жизнь с чистого листа, но человеческое общество в целом имеет некоторый опыт, поэтому я не понимаю истерического отношения некоторых наших деятелей к истории, как у африканца — к неожиданно павшей ему на голову русской зиме. Возвращение нашего общества в нормальное течение исторического процесса (т.е. формальный отказ от инфорсмента исторического утопизма) произошло достаточно давно, так что мы все могли уже привыкнуть к тому, что такое жить на ветру истории.
Крупнейшие события в истории человечества, на мой взгляд, в последние 10–20 лет происходят в сфере международных отношений. Изживание бинарной системы «Запад – Восток», формирование (еще далеко не завершенное) совершенно новой конфигурации сил, формирование нового действующего фактора — внегосударственного, не привязанного к национальному суверенитету (тут и транснациональный бизнес, и мощная гражданская активность, и массовая культура), дополняющего такие традиционные факторы, как военная и экономическая мощь государств. У нас на глазах действительно завершает свое существование мир, принципы которого сформировались в XIX веке, достигший пика своего развития в середине XX века, и формируется совершенно новый мир, мир нового человечества.
Остаетесь ли Вы историком в повседневной жизни или область профессиональная и область бытовая для Вас строго разграничены? Может ли оптика историка что-то дать для повседневного опыта, для практического общения с другими людьми?
Историк — это не профессия, а образ мыслей и способ видения мира. От этого невозможно избавиться, чем бы я ни занималась. В быту это дает широту оценки ситуаций, стойкость и стремление просчитывать события на несколько шагов вперед.
Кто для Вас пример идеального историка России? Какими качествами он должен обладать?
У меня нет персонифицированных идеалов. Профессионал, он и в России профессионал. Ум, усидчивость, настойчивость, добросовестность, широта охвата различных процессов, эрудиция, творческая способность самостоятельно ставить перед собой задачи, любовь к сложности, мужество, позволяющее смотреть в глаза историческому процессу… — эти качества нужны историку России, как и вообще совершенно любому ученому.
Что нужно, чтобы историческое знание не превратилось в поддержку аморальной политики: создавать новые тексты или учить интерпретировать старые?
По-моему, тут ошибочная постановка вопроса. Аморальная политика всегда сама конструирует себе поддержку из подручного материала. Помешать ей это делать невозможно, потому что она сама ставит себе цели, исходя из собственной аморальности. Наука же должна жить своей жизнью и стремиться быть субъективно честной. Опыт показывает, что аморальное падет, а честное останется. Нужно честно делать свое обычное дело — создавать новые тексты и интерпретировать старые. И не поддерживать ложь, когда ее провозглашают перед тобой… Делай, что должно, и совершится то, что должно быть.
Какая тенденция в развитии современной исторической науки Вам представляется доминирующей? Вы согласны с этой тенденцией или противодействуете ей?
У меня нет ощущения доминирующей тенденции (возможно, просто потому, что я выпала из контекста текущей историографии).
Как Вы оцениваете т.н. кризис историзма? Каковы методы противодействия ему и возможны ли «защиты истории», значимые не только для историков, но и для широкой общественности?
Для меня никакого кризиса не существует, я его не чувствую. По-моему, все разговоры на эту тему не имеют отношения собственно к историзму и к исторической науке. Это явление кризиса роста общественного самосознания, которое перестает вмещаться в жесткие рамки авторитарного историзма XIX века (по инерции принимаемого за историзм как таковой) и с перепугу приходит к выводу, что историзм вообще мертв. Возвращение обществу чувства истории, понимание того, что история не прекратилась позавчера, а продолжает твориться в эту самую минуту, привитие обычному человеку ощущения собственной включенности в исторический процесс и личной повседневной исторической ответственности весьма полезно и желательно. Это и есть гражданское воспитание народа — то, в чем крайне нуждается наша страна. Как это происходит, я вижу на примере деятельности общественного движения «Архнадзор».
С чем связано падение престижа отечественного исторического знания?
Наше общество воспитано на представлениях об исторической науке как об инструменте идеологии, как об аппарате для промывания мозгов, поэтому смена идеологической парадигмы вызвала, естественно, агрессивную реакцию общества в отношении тех, кто ранее компостировал ему мозги. Для того чтобы восстановить престиж, историческая наука должна полностью изменить способ своего позиционирования. Даже если допустить, что она вернет себе положение привилегированного прихвостня власти, это уже не даст ей общественного престижа, потому что отношение к прихвостням у общества вполне определенное. Нужно представлять собой что-то важное и нужное для общества — тогда тебя будут уважать. Учитывая, что большая часть общества не только никакой наукой не интересуется, но и вообще не умствует, позиционирование исторической науки должно происходить в расчете на достаточно узкий слой независимых интеллектуалов и образованных людей. Быть малоизвестной и маловостребованной — участь любой науки в современном мире, где перестали насильно делать из каждого человека Леонардо да Винчи. Это медицинский факт, с которым нужно смириться. Что касается немногочисленных интеллектуалов, то они уважают науку тогда, когда она уважает сама себя, стоит на своих собственных позициях, а не бегает, задрав штаны, за властью и за идеологией. Ну, и, конечно, интеллектуалы уважают науку за качество ее продукта, т.е. за соответствие интеллектуальной продукции критериям научности.
Актуальность научной тематики — категория более популистская, это уже на грани собственно науки и в большей степени вообще за гранью. Это работа уже не на интеллектуалов, а на широкие массы населения. Тут и задачи, и критерии оценки совершенно другие.
Почему в отечественной историографии оказались менее значимыми, чем на Западе, такие области историографического интереса, как многочисленные методологии исследования холокоста, постколониальные и субалтерные исследования, устная история как широкое направление, история понятий, история режимов историчности, интеллектуальная история? Почему прижились, прежде всего, социальная история и цивилизационный подход, история тоталитаризма и империй?
Я думаю, это определяется тем схематическим «образом Родины», который играет роль матрицы, формирующей научные интересы ученых, изучающих эту самую Родину. То есть все зависит от того, что в Родине, по мнению ученых, есть (и, соответственно, это можно изучать) и чего в ней нет (потому что ученые этого не видят и, соответственно, не считают возможным изучать).
В самом общем виде можно ответить так: принимается и приживается в первую очередь то, что: 1) привычно и понятно, наследует тематику традиционных для русской и советской науки исследований (социальная история, история империй, цивилизационный подход); 2) направлено на исследование явлений и процессов, которые ранее не принято было изучать, но осознаваемых как несомненная часть исторического опыта народа (история тоталитаризма, история империй). Трудно приживается то, что связано с нетрадиционной для отечественной науки тематикой и с такой номенклатурой проблем, которая не укладывается в заскорузлую матрицу (постколониальные и субалтерные исследования).
История понятий, интеллектуальная история и т.п. требуют достаточно высокой философской культуры и культуры междисциплинарности, которой наша историческая наука не блещет (тяжелое наследие советского прошлого! Описывать и делать простейшие выводы наши историки более-менее умеют, а умствовать категорически отучены).
Устную историю в большей степени практикуют смежные науки — этнология и социология. Традиционные представления о предмете исторической науки не предполагают работы с живым объектом изучения, соответственно, инструментарий таких исследований принадлежит «наукам о современности».
Что касается неразвитости у нас темы холокоста, то для меня это большая загадка. По-моему, это геноцид как геноцид. Не вижу причины как-то по-особенному относиться к этой теме и бояться ее изучать. С учетом всех психологических отягчающих факторов изучение темы холокоста методологически ничем не отличается от изучения темы Большого террора. Если и есть на свете люди, которые питают практически религиозное отношение к этой действительно чудовищной трагедии и на этом основании считают возможным цензурировать научные работы, то для серьезной науки, по-моему, их позиция не должна иметь значения. То же относится к позиции людей, которым трудно признать, что в нашей стране, декларировавшей интернационализм, практиковался вполне отчетливый антисемитизм. Нельзя оскорблять ничьи чувства, поэтому в таких лично чувствительных для миллионов людей темах нужна осторожность в выражениях и взвешенность выводов; однако правда как таковая не может быть оскорбительной. Функция и, пожалуй, даже миссия историка состоит в том, чтобы нести правду обществу и приучать общество к правде.
Как Вы трактуете констатируемый западными историками «рост исторического сознания» — смену парадигм истории и памяти в мире?
К сожалению, я не знаю, что имеют в виду западные историки. Но мой личный опыт говорит о том, что только сейчас, на глазах у нас, через 20 лет после падения советского режима, когда в жизнь входит поколение, родившееся и выросшее после совка, к гражданам нашей страны начинает возвращаться чувство исторической ответственности. Для молодых людей, которых я наблюдаю в связи со своей градозащитной деятельностью, чувство наследования от прошлого и ощущение себя обязанными обеспечить непрерывность трансляции накопленного опыта в будущее является совершенно естественной, недекларативной частью мировоззрения, базой для активной гражданской позиции.
В развитых странах, насколько я могу судить, в образованной части общества также происходит процесс, если так можно выразиться, вхождения человека в историю. То есть вхождения отдельного человека в исторический процесс как актора, а не в качестве песчинки в составе некой «массы», которая несет его куда-то, которая не всегда действует самостоятельно и может подвергаться манипуляциям. Человек-актор осознает себя таковым благодаря современным технологиям, позволяющим развивать и закреплять свою индивидуальность тем людям, которые к этому стремятся.
Существенно ли для Вас различение «профессиональной» и «социальной» историографии, т.е. историографии как истории Профессии и историографии как истории социального знания с ее прогностическими и политическими, просвещенческими функциями?
Не думаю, что эти две стороны единого явления следует разрывать. В сущности, профессия и заключается в продуцировании социального знания, даже если конкретный научный продукт прямо не применим для конкретных политических функций.
Каковы опасности исторических фальсификаций?
Я предпочитаю с осторожностью употреблять термин «фальсификация». На мой взгляд, следует отличать сознательное конструирование ложной картины исторических событий от искренней политической или иной ангажированности историка, подобно тому как в суде отличают лжесвидетельство от добросовестного заблуждения свидетеля. Есть еще и такое явление, как низкая квалификация исследователя, которое на выходе дает такой же результат.
Ложные представления об историческом процессе, как бы они ни возникали, опасны тем, что лишают историческое знание его познавательной ценности и операциональной пригодности для анализа текущих процессов. Неадекватное представление о прошлом лишает нас возможности исследовать влияние на сегодняшние процессы фактора, который в экономике называется path dependence, то есть существенно снижает качество анализа и прогнозирования.
При этом сознательные фальсификации создаются с целью манипулирования ими в определенных политических ситуациях. По мере изменения ситуаций надобность в них отпадает, однако в сухом остатке остается, к сожалению, засорение исторического сознания.
Считаете ли Вы, что историческая публицистика играла со времени перестройки роль псевдоисториографии, а историография становилась с конца 1980-х — начала 1990-х годов более публицистичной?
Да, я с этим согласна. Думаю, что это был неизбежный процесс (особенно в том, что касается первого тезиса — о псевдоисториографии). Это было естественным следствием наложения эффектов от общей резкой политизации общественной жизни того времени и от резкого методологического провала, постигшего существовавшую на тот момент статусную историографию. Кроме того, в этот период происходил процесс весьма интенсивного ввода в оборот огромного количества нового исторического знания, что требовало первичной систематизации и интерпретации. Рассчитывать на надлежащее научное качество в подобных условиях было бы наивно.
Эта эпоха прошла. Она сделала свое дело — очистила воздух в науке и открыла горизонты. После нее в общественном сознании и в науке остались определенные проблемы, но главное приобретение того времени — свобода мысли — позволяет квалифицированному, добросовестному исследователю при желании преодолевать их.
Какие историки-профессионалы влияли начиная с конца 1960-х и до настоящего времени на формирование политической повестки? Как Вы оцениваете их активность?
Не могу назвать ни одного имени. В советские времена политическая повестка влияла на науку, а не наука на повестку. В наше время ученые занимаются наукой, а не политикой, а люди с историческим образованием, не работающие в науке, а занимающиеся политическим консультированием, на мой взгляд, не должны числиться по цеху историков-профессионалов.
Вообще историческая наука, на мой взгляд, представляет собой совершенно самостоятельную и самодостаточную область знания, а не вспомогательную политологическую дисциплину (то же можно сказать об академической социологии). Сходство предметов изучения и единство терминологии не должны нас обманывать. Актуальная политика и историческая наука — два параллельных потока, которые имеют разные предметы изучения, разные цели и разный инструментарий. Попытка смешивать их и рассматривать науку как инструмент решения политических задач представляет собой рудимент марксистских представлений о гуманитарной науке.
Считаете ли Вы, что в России существует сплоченная научно-историческая корпорация?
Нет, и, наверное, к счастью.
Каковы критерии объективности в современном историческом знании?
Критерии объективности (настолько, насколько вообще можно говорить об объективности в гуманитарных науках) сформировались достаточно давно. Главный критерий, на мой взгляд, один (двуединый) — опора на источники и методологически грамотная критика источников.
Считаете ли Вы, что отсутствие в советологии прогноза о падении СССР было результатом ее недостаточной научности?
Да, безусловно. Я не вижу причины идеализировать западную советологию. Она существовала в условиях такого же давления идеологизированных стереотипов, как и советская историческая наука того времени. Политическое противостояние двух систем самым отрицательным образом сказывалось на научности соответствующих исследований обеих сторон. При этом преимущество бОльшей интеллектуальной свободы западной науки нивелировалось скудостью источниковой базы вследствие закрытости советского общества. Невозможно качественно изучать предмет, не имея о нем достаточно глубоких и разносторонних представлений. Отдельные интуиции наиболее чутких исследователей не делают погоду в науке в целом.
Кроме того, распад СССР пришелся на период существенной методологической перестройки западной гуманитарной науки, которому предшествовал явственно ощутимый кризис исследовательского аппарата. Устаревшие исторические концепции были неспособны адекватно интерпретировать те процессы, которые знаменовали завершение того цикла развития человеческой цивилизации, в рамках которого они сами были созданы.
Можете ли Вы наметить этапы эволюции за последние 27 лет восприятия профессиональными историками и политиками теорий тоталитаризма и авторитарности?
Я бы не решилась это делать, поскольку не занималась специально этими вопросами и не следила за соответствующей литературой.
Считаете ли Вы, что в истории России можно выделять т.н. «долгие века»?
Можно (и не только в истории России), но достаточно условно, в двух больших, жирных кавычках. В России ситуация осложняется тем, что историческое время расслоено в пространстве, так что отдельные территории и в наше время продолжают еще жить в определенных отношениях жизнью первой половины ХХ века, а некоторые и более раннего времени.
Можно ли говорить о типологии русского лидерства, ее константах при всех режимах?
Не думаю, что в этом есть какая-то особая русская специфика. Типология лидерства как политическое явление, на мой взгляд, в большей степени связана с типом государственности и в меньшей — с культурой и религией. Что касается государственности, то она в нашей стране весьма стабильна на протяжении очень длительного времени (более полутысячелетия) и, вероятнее всего, останется стабильной до тех пор, пока действуют природно-географические факторы, способствовавшие ее формированию. Кстати, хочу заметить, что эта модель, на мой взгляд, не обязательно обречена на неэффективность. Что касается природно-географических факторов, то их действие может прекратиться по разным причинам — от физического распада страны до преобразования общественных отношений под влиянием новых коммуникационных технологий.
Возможно ли писать современную историю как литературу, как исторический роман?
Разумеется, но это будет роман. Художественное изображение само по себе является вполне почтенным способом познания, но оно не может заменить научное исследование.
Считаете ли Вы, что в научной корпорации трудно утвердиться политизированным историкам или историкам, тяготеющим к философствованиям, абстрактному мышлению, широким обобщениям?
Не принадлежа к научной корпорации, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Честно говоря, мне кажется, что сама по себе необходимость как-то «утверждаться» вредит ученому. Единственный критерий, по которому, на мой взгляд, ученый должен занимать определенное место в науке в глазах своих коллег, — это добросовестность и качество научного продукта, который он производит. С этой точки зрения я низко ставлю политизированных историков, а к философствующим отношусь настороженно, так как в этом случае критерии качества особенно высоки.
Если бы Вы писали книгу о «будущем истории», предполагали бы Вы, что история университетов через век-два станет архаикой, ненужностью?
История любых явлений, существовавших в прошлом, включая историю высшего образования, никогда не может стать ненужностью. Что касается того, будут ли через 100–200 лет существовать университеты в привычном для нас виде, то я не задумываюсь над этим. Современные университеты не похожи на университеты середины XIX века, а те не похожи на средневековые. Система образования эволюционирует вместе с обществом, всегда немного отставая, но в целом двигаясь в общей парадигме. Будущее наступит — в этом можно не сомневаться, как и в том, что оно будет не похоже на настоящее.
Считаете ли Вы, что в истории России сталинские преступления — такой же «невыразимый исторический опыт», как холокост?
Понятие «невыразимый исторический опыт» неприменимо к науке. Наука не может отказываться от познания и интерпретации своего предмета — будь то холокост или сталинизм. Что касается присутствия следа сталинских репрессий в неком коллективном бессознательном населения бывшего СССР, то это само по себе представляет интересную научную проблему, подлежащую изучению методами различных гуманитарных наук. Безусловно, большую роль в раскрытии и изживании этого следа играет искусство как познание художественными методами и коллективная психотерапия.
Как сохранить объективность при анализе современного протестного движения и современного правительственного курса?
Боюсь, это вопрос без ответа. С того момента, когда объективность была принята в качестве высшего критерия научного знания, вопрос о том, как сохранить объективность, стоит перед каждым исследователем. Наиболее простой способ состоит в том, чтобы опираться преимущественно на количественные методы изучения общественных процессов. Однако это не гарантирует полную объективность, так как субъективный взгляд исследователя проявляется и в постановке задачи исследования, и в отборе материала, и в выборе метода, и в интерпретации полученных результатов. Скорее всего, нужно принять как факт то, что исследования актуальной современности всегда, во все времена, во всех политических ситуациях были, есть и будут наименее объективными. Поэтому для получения относительно адекватной картины происходящего необходимо обобщение возможно большего количества исследований, хотя и здесь возникает неизбежная проблема интерпретации.
Вообще совершенство недостижимо, полная объективность доступна только Богу, и Он один избавлен от ошибок, в том числе и политических. Не надо этого бояться.
Считаете ли Вы, что Интернет размывает историческое сознание?
Нет. Интернет — всего лишь коммуникативная среда, в которой историческое сознание живет и эволюционирует так же, как раньше оно жило и изменялось в традиционных коммуникативных средах, основанных на непосредственном общении или на обмене идеями посредством печатной продукции.
Согласны ли Вы с той точкой зрения, что русские не помнят своей истории?
Не думаю, что русские в этом отношении чем-то хуже других народов. Другой вопрос, что, будучи имперским народом, они обладают историей, которая не сводится к этнической истории.
Какие философы непосредственно влияли на Ваши трактовки исторических событий?
Боюсь, я не могу назвать имен. Чтение философской и методологической литературы для меня всегда было средством для того, чтобы, следя за развитием мысли другого человека, научиться думать самой. Для меня всегда было проблемой подбирать подходящие цитаты из классиков, потому что чужие мысли апроприируются и растворяются в собственном дискурсе.
Считаете ли Вы, подобно Томпсону, что в России можно изобрести «средний класс»?
Я не понимаю, о чем идет речь. Разумеется, можно выдумывать различные категории, необходимые для анализа объективных процессов. Главное — потом не путать категории, существующие в нашем сознании, с явлениями объективной реальности. В особенности это опасно в случаях, когда к анализу нашей реальности применяются категории, созданные в других условиях. Если искать в России такой же средний класс, как в Англии, найдем очень мало. Если искать что-то, что выполняет в политической системе ту же функцию, что и средний класс, возможно, найдем что-то, что в социологическом смысле не похоже на британский средний класс, и т.п.
Может ли политик или историк манипулировать массовым историческим сознанием настолько, чтобы видоизменять его? Если да, то как?
Нет, полагаю, до такой степени не может просто потому, что формирование массового исторического сознания представляет собой слишком сложный, многофакторный процесс. Какая-то локальная пропагандистская кампания может иметь временный успех, но процессы, протекающие в толще исторического сознания, слишком сложны и громадны, чтобы ими можно было сознательно управлять. Поэтому и невозможен идеальный тоталитаризм, и поэтому любой самый искусный манипулятор в конце концов промахивается. Громадность и конечная непознаваемость социальных процессов, к счастью, является надежной защитой от попыток остановить свободную игру исторических сил.
Положительно или отрицательно Вы оцениваете влияние лингвистического поворота на историческое знание?
Несомненно, положительно — как любой методологической революции. Любой шаг в усложнении и углублении понимания бесконечной сложности и бесконечной глубины человеческой культуры — это важное завоевание науки.
Какие мировые исторические дискуссии по отдельным проблемам в большей степени воздействовали на Ваше становление как историка?
Не припомню таких. Мое становление вообще происходило как-то плавно, внутренне бесконфликтно и очень самостоятельно. Это не значит, что я не читала книжек. Читала, конечно. Но не для того, чтобы присоединиться к мнению авторов или поспорить, а для того, чтобы выработать собственное представление о предмете.
Считаете ли Вы возможным для историка привнесение в свою деятельность внешних идеологических критериев, таких как патриотизм?
Разумеется, нет. Все необходимые для науки критерии содержатся внутри науки. Попытка вносить какие-то критерии извне выводят полученный результат за пределы научного знания в сферу идеологической борьбы и пропаганды.
Считаете ли Вы, что «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына влиял на политическую и историографическую ситуацию в стране?
Здесь трудно развести причину и следствие. Был ли «Архипелаг ГУЛАГ» популярен? Да. Почему? Потому что для общественного сознания и для науки в равной степени была актуальна задача раскрытия правды о преступлениях и насилии, которые скрывались внутри истории советского общества. Кто-то потом двинулся от художественной литературы к познанию истории, а для кого-то художественное изображение исторических процессов и интерпретации Солженицына полностью заместили собственное историческое сознание. То и другое нормально.
«Архипелаг ГУЛАГ», безусловно, великая книга вне зависимости как от ее научных, так и от художественных достоинств, потому что в ней, как в лазерном луче, сфокусировалась великая потребность общества в открытом произнесении правды о самом себе.
Что для Вас крупнейшие политические катастрофы XX века?
Смотря что называть катастрофой. Скажем, приход к власти большевиков в России, а потом конец советского проекта были катастрофами в историософском смысле, но вторую из них я оцениваю позитивно. На мой взгляд, по масштабам политических последствий ничто не может сравниться с этими двумя катастрофами. Даже обе мировые войны.
Была ли какая-то политическая ситуация, к которой Вы не имели «исторического ключа»?
Не припоминаю такого случая. Но это не потому что ко всем ситуациям у меня есть ключ, а потому что я не тороплюсь делать выводы и интерпретировать события до того, как они достаточно сформируются и у меня созреет их понимание. Как человек, в силу жизненных обстоятельств последних лет оказавшийся у руля общественной организации, я практикую существование внутри «горячей» ситуации с сознательным воздержанием от преждевременных попыток ее понять. Как ни странно, гораздо эффективнее маневрировать интуитивно. Это позволяет, в частности, делать меньше тактических ошибок, которые возникают при попытке прилагать к анализу малопонятной, недоформированной реальности какие-то скороспелые и упрощенные концепции.
Что для Вас стало исторической книгой года в прошлом году? Как Вы оцениваете перспективы исторического книгоиздания в России?
Увы, я практически перестала читать свежую историческую литературу. Если читаю, то классические исследования по смежным наукам. Хитом прошлого года была «Благими намерениями государства» Джеймса Скотта, хитом этого — «Смерть и жизнь больших американских городов» Джейн Джекобс. Обе книги читаются, конечно, глазами историка, хотя одна написана социологом, а вторая урбанистом. Что касается перспектив исторического книгоиздания, то я не вижу здесь какого-то отличия от нонфикшн в целом. На мой взгляд, в последние годы достигнут стабильный уровень востребованности интеллектуальной литературы.
Назовите одно или два качества современного историка, которые Вы не в состоянии признать и принять.
На мой взгляд, нет такого существа, как «современный историк». Есть конкретные люди, обладающие различными качествами.
Закладываются ли основы исторического знания в школе или в университете?
Теоретически, разумеется, основы исторического знания закладываются системой образования. А чтобы оценить качество того, что закладывается, нужно либо преподавать, либо общаться со школьниками и студентами. У меня нет такого опыта.
Как Вы оцениваете роль советской интеллигенции в формировании повестки горбачевской перестройки, в частности, ее исторические опыты и трактовки событий?
Несомненно, горбачевская повестка дня определялась на основании той номенклатуры проблем и той системы ценностей, которые были выработаны советскими интеллектуалами. Функцию интеллектуалов почти исключительно исполняла интеллигенция. Собственно, в этом смысле горбачевская перестройка ничем не отличалась от Великих реформ Александра II. Обсуждать перестройку, однако, всегда сложно, т.к. то, чего хотел Горбачев, и то, что у него реально получалось, — это нередко две очень большие разницы. Подобные провалы, я думаю, объяснялись как раз методологической слабостью того гуманитарного аппарата, которым в состоянии была снабдить Горбачева современная ему позднесоветская общественная мысль. При этом я никак не желаю поставить это в упрек ни советской интеллигенции, ни Горбачеву. Легко с высоты прожитых с тех пор 30 лет (из коих 20 прожиты в условиях свободы) поучать людей, которые тогда вышли на ристалище, будучи вооруженными опытом совсем другого тридцатилетия… Отсчитаем 30–40 лет назад от 1985 года и представим себе, какой путь прошли эти люди, как, в каких условиях и на каких основаниях происходило их интеллектуальное формирование, какое они получили образование, из каких элементов складывался их образ мира, что они знали об объективных законах экономики и социума. И тогда станет понятно, что они сделали то, что смогли. Я благодарна Горбачеву и уважаю его мужество.
Считаете ли Вы, что действительно возможны исследования «конца истории»?
Категорически нет. Мое фундаментальное убеждение состоит в том, что история как форма существования человеческого общества является производной от человеческой личности, которая обладает качествами свободы и неисчерпаемости. История останется вечно живым и вечно творческим процессом до тех пор, пока она остается историей человечества. То есть конец истории возможен только одновременно с гибелью человечества или преобразованием его в расу бессловесных (без слова-Логоса) животных. Соответственно, невозможны и исследования того, что само по себе невозможно.
Какой опыт исторической деконструкции для Вас предпочтителен: западногерманский, японский, восточноевропейский или постсоветский 1990–2000-х годов? Во многих странах, переживших травматические опыты, шло переосмысление истории, как вы оцениваете эти попытки? Действительно ли шло переосмысление истории или это были новые официальные версии ее?
Я недостаточно представляю себе процессы переосмысления истории в других странах (подозреваю, как и большинство тех, кто у нас рассуждает об этом), поэтому предпочла бы воздержаться от оценок. На поверхности лежат только определенные государственные акты, которые являются производными от этих самых глубинных процессов, охватывающих все общество постсоветских стран. А государственные акты — это, как известно любому добросовестному исследователю, далеко не истина в последней инстанции, а всего лишь заведомо упрощенная, официозная манифестация неких ценностей.
Вообще выбирать между моделями исторической деконструкции — такое же странное занятие, как выбирать, какая страна мне больше нравится: Германия, Польша, Япония, Латвия или Россия. Разумеется, подобные важнейшие и интимные для национального самосознания процессы формируются строго индивидуально. Они свои для каждой страны, потому что каждое национальное самосознание обладает неповторимой конфигурацией травм, фобий, мифов и т.п. Здесь уместно сравнение с медициной: каждый организм болеет и реагирует на лекарство по-своему. Россия идет тем путем, который является для нее наиболее органичным. И если этот путь тяжел и коряв, то это не значит, что он ошибочен. Кроме того, мы не знаем, насколько тяжел и коряв путь, которым идут другие страны. Изучение их опыта весьма интересно и полезно для нас не ради копирования, а ради того, чтобы освежить и сделать более гибким свой аналитический аппарат, чтобы более точно ставить вопросы. Но ответы все равно будут сугубо отечественные.
Пушкин по другому поводу, но совершенно правильно сказал, что не хотел бы иметь другой истории, кроме истории наших предков. Добавим, что и не мог бы, даже если бы захотел.
А вот сегодня утром, проходя по улице, я услышала, как какой-то молодой человек говорил в телефон: «Мне не очень нравится Россия. Как страна». Наверное, он думает, что ему, человеку, чисто говорящему по-русски, достаточно будет сменить страну проживания для того, чтобы избавиться от России в себе. Боюсь, что все гораздо сложнее. Можно поменять все, кроме генетического кода.
Какие школы советского исторического знания Вы высоко цените, точно представляя, что сейчас их достижения никому не нужны или малоинтересны?
Думала-думала… Не знаю таких. Качественный продукт может быть временно маловостребованным, но он не может быть малоинтересным, потому что он качественный. А если он некачественный, то туда ему и дорога.
Кто для Вас злой гений советской историографии — Сталин или Покровский, Трапезников или Афанасьев?
Оба хуже. Любое упрощение — ложь. Любая ложь — зло.
Как Вы оцениваете феномен историографического диссидентства: роль личностей вроде Гефтера, Геллера, Некрича, Волобуева, Поршнева в нем?
Есть большая разница между Гефтером и Поршневым. Как я понимаю, они объединены по принципу несистемности. Существование историков, вменяемых, но при этом находящихся вне мейнстрима, является важным фактором, обеспечивающим гомеостаз науки. В их диалоге с мейнстримом освежаются взгляды, рождаются важные идеи, что позволяет мейнстриму не загнивать, а жить и развиваться.
Какая школа советского историописания, как Вам кажется, не имела и не могла иметь научных достижений?
Я не знаю их просто потому, что они не оставили после себя достижений. Хотя такие, конечно, всегда были. Формировались они при научном начальстве, и там кучковались бездари и карьеристы. Но имен их, как говорится, история не сохранила. О них помнят сейчас только те, кто специально занимается историей науки.
Можете ли Вы представить себе ситуацию подготовки в современных условиях коллективных трудов по истории русской политики и общественного развития, мировой истории (наподобие «Истории КПСС», «Истории СССР» и проч.)?
Боже упаси. Хотя я могу представить себе, что такая задача может быть поставлена государством ввиду глубокой неадекватности нашего государства.
Как Вы оцениваете значение Всесоюзных исторических совещаний в СССР? Что они давали профессии или сообществу?
Я ничего про них не знаю. Видимо, само по себе мое незнание свидетельствует о том, что они давали не больше, чем любая крупная профессиональная конференция в то время. Идеологическое давление на профессиональную корпорацию оказывалось постоянно и разными способами, а не только через такие события, так что вряд ли можно всерьез рассматривать Всесоюзные исторические совещания как этапные события для развития отечественной историографии.
Считаете ли Вы, что российская история действительно мифологизирована? Кто создает мифы о ней?
Мифологизирована любая история и всегда. Это ее нормальное состояние. В общественном сознании мифология одна, в науке другая, отчасти они пересекаются, отчасти различаются. Мне кажется, это даже неинтересно обсуждать. А мифы, в отличие от лжи, которая всегда имеет автора, создает не «кто», а «что». Мифы — продукт коллективного сознания, будь то сознание профанов или ученых. В науке я на сегодня не ощущаю чрезмерной мифологизации, а общественное историческое сознание всегда состоит из мифов, которые время от времени меняются.
Унылые попытки возрождать историческую мифологию а ля учебник Иловайского, которые исходят из «патриотического» лагеря, были бы опасны, если бы не были совершенно бессмысленны и в итоге неэффективны. Попытки сочинять какие-то совершенно новые, искусственные мифы о прошлом нашей Родины (разного рода фолькхистори и примыкающие к ним продукты массовой культуры) также, к счастью, настолько же бесполезны, как аналогичные литературные попытки, которые предпринимались в начале XIX века. А вот когда мифы формируются нормальным, здоровым путем, т.е. посредством переваривания общественным сознанием собственной исторической памяти, информации из науки, публицистики и искусства, то такие мифы жизнеспособны и культурно продуктивны, как, скажем, миф о Великой Отечественной войне. При этом я настаиваю на том, что слова «миф» и «ложь» ни в коем случае не являются синонимами. Миф может представлять собой, в частности, форму существования вполне себе исторической правды, но это особая форма, более близкая к искусству, чем к науке.
Определите понятие междисциплинарности в социальных науках на данном этапе развития.
На мой взгляд, современная междисциплинарность формируется на основе методологической близости наук гуманитарного круга (истории, этнологии, филологии, лингвистики, социологии, психологии, правоведения, искусствознания, философии, экономики). Междисциплинарные пересечения истории с такими науками, как статистика, география, экология и другие науки, исследующие человеческое общество и условия его существования на основе естественно-научных и, в частности, математических подходов, осуществляются по традиции — исключительно за счет широты личной эрудиции ученого и в меру этой эрудиции.
Какие исторические проблемы требуют в российском сообществе историков большего исследования? Почему?
У меня нет такого панорамного представления о текущем состоянии исторической науки, чтобы оценить сравнительную степень исследованности тех или иных проблем. К тому же мой личный опыт не раз заставлял меня обнаруживать terra icognita на довольно вытоптанных, как казалось, делянках. Очевидно, можно говорить о том, что некоторые темы для исследования приобретают актуальность в связи с текущими процессами в обществе. Если такие актуальные исследования производить добросовестно, неконъюнктурно и неагнажированно, их результаты могут быть востребованы в процессе принятия решений не меньше, чем актуальная социология.
Почему, как Вы считаете, среди российских руководителей было больше юристов, а не историков?
Государственное управление — это весьма механистичная и в весьма малой степени творческая область деятельности. Государство главным образом занято решением тьмы текущих задач, поэтому на одного мыслителя и реформатора в нормальном госпаппарате должны приходиться десятки грамотных управленцев, иначе беда будет и аппарату, и государству. Так что если руководитель естественным путем выслуживается из недр аппарата, он с высокой степенью вероятности будет юристом. А если он залетает на высокую позицию откуда-то извне (в результате каких-то общественных явлений, нарушающих стабильное существование госаппарата и требующих принудительного вливания в госуправление свежих идей), он может оказаться носителем свежих идей, и тогда это может быть историк, социолог, писатель или общественный деятель.
Существует ли разрыв поколений в отечественной или в западной историографии?
Про западную не знаю, а в отечественной теоретически должен существовать, но я почти не чувствую этого, поскольку не общаюсь с молодыми историками. Научная молодежь, сформировавшаяся в совершенно отличных от прошлого идеологических, политических, технологических и материальных условиях, должна иначе и мыслить, и строить свои профессиональные жизненные стратегии.
Наличествует ли типично российская, но неустранимая проблема несопоставимости российской истории и национальных историй внутри нее?
О какой несопоставимости идет речь? О масштабной? В этом я вижу не бОльшую проблему, чем в масштабной несопоставимости общероссийской истории и региональных историй. Краеведение — вполне почтенная наука, хотя ее предмет по масштабам гораздо меньше, чем предмет «большой» истории. Бывают умные, глубокие и тонкие краеведы и поверхностные, мелкие историки. В общем, по-моему, это совершенно надуманная, политизированная проблема. Истории вообще делятся на профессионально качественные и профессионально некачественные, а по предмету изучения они, по-моему, не ранжируются.
Если же речь идет о том, что национальные истории противоречат «большой» истории, то это вообще неправильная постановка вопроса. Если концепция некой статьи или книги по национальной истории противоречит концепции некой статьи или книги по «большой» истории, это конфликт между этими двумя статьями или книгами, а не между двумя историями. Хорошая национальная история и хорошая «большая» история всегда найдут общий язык, потому что они обе — качественная наука.
Менялось ли Ваше представление об истории России?
Конечно, менялось годов до 25-ти, когда с возрастом происходило становление профессионального сознания. А после этого я не ощущала резких сломов. Хотя наверняка идет плавный процесс развития за счет углубления и расширения взгляда.
Должна ли быть переосмыслена революционная и тоталитарная догма развития в русской истории (два типа развития — революция или тоталитарные практики), догма всегдашнего про- и антизападничества русской общественной мысли?
Никаких догм давно уже не существует. Догма — обязательная для всех, навязанная концепция. До навязывания единых концепций наше государство пока не дошло, да это уже и невозможно. Все, к счастью, снова завязано на человеке, на конкретной личности. Умные историки от догм свободны, а глупые, конечно, могут, если им так удобнее, придерживаться каких-то упрощенных концепций, но это их личное дело.
Наталья Палишева, аспирант кафедры всеобщей истории, историографии и источниковедения Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ)
Методы и модели исторического знания менялись за последние десятилетия не раз. Насколько Вы переживали эти изменения как крушение старых идеалов, как вызов или как необходимость по-новому проработать старый материал? Были ли у Вас кризисы, связанные с изменением моделей исторического знания?
Я не считаю, что нужно воспринимать изменение методов и моделей исторического знания как «крушение идеалов» или как «вызов». Скорее, это фактор развития исторической науки, который является следствием кризиса, а не причиной. Несмотря на все сложности, у историка сегодня есть выбор методов исторического исследования, при помощи которых можно и перерабатывать старый материал, и создавать новые тексты.
Что для Вас «современность», как Вы ее локализуете, с каких годов она для Вас начинается, с каких событий, как характеризуется географически и почему?
Я не сторонница того, чтобы абстрактно рассуждать о таких понятиях, как современность. Мало того, что она могла начаться в разное время в разных географических точках. Она могла в разное время начаться и в разных сферах внутри одного общества. Поэтому я считаю, что в каждом конкретном исследовании необходимо давать рабочее понятие «современности», иначе обобщение и универсализация неизбежны.
Насколько принципы историзма значимы для Вас при оценке современных политических явлений? Какое из мировых политических событий последних лет Вы считаете самым значимым историческим событием, и как об этом событии написал бы беспристрастный историк?
Я склонна различать политические и исторические события. И события последних лет, безусловно, имеют статус политических. Это не значит, что историки не должны рассуждать и писать о них. Просто для того, чтобы событие обрело статус «исторического», должно пройти определенное время (возможно, не одно десятилетие), чтобы историки могли судить о нем в долгосрочной перспективе. Это напрямую касается и беспристрастности.
Остаетесь ли Вы историком в повседневной жизни или область профессиональная и область бытовая для Вас строго разграничены? Может ли оптика историка что-то дать для повседневного опыта, для практического общения с другими людьми?
Безусловно, опыт исторического исследования — это опыт понимания людей других культур и эпох. В практике широкого общения с людьми это помогает принимать других людей и понимать людей с отличными точками зрения. Оптика историка дает широту мировоззрения, и знание предшествующей истории человечества позволяет минимизировать эгоцентризм в общении и повседневной жизни. Но в целом не стоит абсолютизировать влияние этих двух сфер. На практическом уровне они часто бывают разграничены.
Что нужно, чтобы историческое знание не превратилось в поддержку аморальной политики, — создавать новые тексты или учить интерпретировать старые?
Нужно и создавать новые тексты, и интерпретировать старые. Но к влиянию на «аморальную политику» это отношения не имеет. Последнее — скорее, вопрос выбора и ответственности каждого индивидуального историка и всего исторического сообщества в целом. Либо ситуация, когда историческое сообщество в принципе не может повлиять на этот процесс — когда «аморальная политика» использует историю без привлечения историков, что тоже не редкость.
Какая тенденция в развитии современной исторической науки Вам представляется доминирующей? Вы согласны с этой тенденцией или противодействуете ей?
Разрушение дисциплинарных границ, которое я, безусловно, поддерживаю.
С чем связано падение престижа отечественного исторического знания?
Общая тенденция падения престижа многих квалифицированных профессий и сфер научного знания в постсоветский период — следствие тяжелого переходного этапа.
Почему в отечественной историографии оказались менее значимыми, чем на Западе, такие области историографического интереса, как многочисленные методологии исследования холокоста, постколониальные и субалтерные исследования, устная история как широкое направление, история понятий, история режимов историчности, интеллектуальная история? Почему прижились, прежде всего, социальная история и русские изводы т.н. цивилизационного подхода, история тоталитаризма и империй?
В силу различных исторических и политических обстоятельств. Например, постколониальные и субальтерные исследования стали популярными в зарубежной (причем далеко не только в западной науке) в силу попытки национальных историографических школ бывших колоний либо их выходцев пересмотреть колониальную историю. Это вполне понятно и оправданно. Для российской ситуации, на первый взгляд, это может показаться неактуальным. Поэтому-то популярны история тоталитаризма и империя. Но вопрос популярности — не значит, что другие исследования отсутствуют.
Как Вы трактуете констатируемый западными историками «рост исторического сознания» — смену парадигм истории и памяти в мире?
— Начиная с XIX века производятся попытки периодизации всемирно-исторического процесса. Сегодня существует много обозначений для современного периода развития человечества: постмодернити, постсовременность, постинформационное общество, звучали пугающие на первый взгляд формулировки «конец истории» и т.д. В этом плане рост исторического сознания — желание людей обозначить себя и свою эпоху, наполнить ее содержанием — вполне обоснован. Также это связано и с поиском футуристических прогнозов.
Существенно ли для Вас различение «профессиональной» и «социальной» историографии, т.е. историографии как истории профессии и историографии как истории социального знания с ее прогностическими и политическими, просвещенческими функциями?
Да, я считаю, это разные направления, с разной целью, а зачастую предметом. Но коль скоро в моде междисциплинарность — возможно, и этим дисциплинам продуктивно было бы попробовать плотнее объединить свои результаты.
Каковы опасности исторических фальсификаций?
Фальсификации были всегда и, наверное, будут. Особую опасность представляет ситуация, когда они доминируют. Опасность очевидна: подмена понятий, ложные интерпретации.
Считаете ли Вы, что в России существует сплоченная научно-историческая корпорация?
Нет.
Каковы критерии объективности в современном историческом знании?
Опора на факты и документы, непредвзятость, использование проверенных и логичных методологических подходов. И, наверное, как ни странно, отсутствие претензии на статус безоговорочной истины.
Возможно ли писать современную историю как литературу, как исторический роман?
Если заимствовать жанровую стилистику исторического романа, объединив, к тому же, элементы политической, интеллектуальной истории и истории повседневности, то как попытка это было бы интересно. Но не как ведущий тренд. Если же говорить о способе популяризации и применении методов художественной литературы (гипербола и т.д.) — это ни к чему, я думаю.
Какие интенции мирового исторического знания XX века для Вас более близки? Поиск «исторической правды» или поиск «исторической справедливости»?
Обе в равной степени как утопические установки, на которые, тем не менее, стоит ориентироваться.
Считаете ли Вы, что в истории России сталинские преступления — такой же «невыразимый исторический опыт», как холокост?
Не могу взять на себя ответственность судить об этом.
Как сохранить объективность при анализе современного протестного движения и современного правительственного курса?
Пытаться оценивать его в исторической перспективе, сопоставлять все точки зрения.
Считаете ли Вы, что Интернет размывает историческое сознание?
Я не знаю, насколько применим термин «размывает» в данном контексте, однако Интернет существенно влияет на историческое (и иное) сознание людей. Причем, по моему мнению, он влияет не самим фактом публикующихся и распространяющихся в нем материалов, а скорее фактом своего существования и тем, какие изменения он смог произвести в привычных формах коммуникации. Мне представляется, что с распространением Интернета у людей осознанно или неосознанно сформировалось ощущение иного исторического пространства, в котором они находятся, а, следовательно, это вольно или невольно приводит к переосмыслению предыдущего опыта. Эти изменения подобны тем, которые Бенедикт Андерсон описал в своей «Истории воображаемых сообществ» относительно появления в эпоху Нового времени романов и газет (известный тезис о «печатном капитализме»). Как писал Андерсон, благодаря жанру романа, предполагающему несколько параллельных сюжетных линий, в сознании людей сформировалось представление об абстрактных людях, которых они не знают лично, но которые живут параллельно с ними. Подобный эффект производили и газеты, публиковавшие сообщения о событиях, одновременно происходящих в разных географических точках. В конечном счете Андерсон утверждал, что эти изменения привели к возможности «воображения» в общественном сознании такой абстрактной общности, как «нация». Возникновение в сознании понятия «нация» коренным образом сказалось в первую очередь на изменениях исторического сознания (сформировало/размыло/изменило???). Подобные вещи происходят сегодня, на мой взгляд, и благодаря воздействию социальных сетей, микроблогов и иных форм общения и получения информации в сети Интернет. Постепенно они начинают формировать новое ощущение реальности, изначально даже на бытовом, повседневном уровне. Возможности ежедневного общения с людьми из разных географических точек без физического взаимодействия, возможность постоянного ведения дискуссии (в форме ответа на комментарии), возможность постоянного доступа к какой бы то ни было информации и т.д. создают новые формы восприятия времени и пространства, которые не могут не влиять и на историческое сознание.
Касаемо второго аспекта влияния Интернета — непосредственно содержащейся в нем информации — я думаю, его влияние здесь сопоставимо с воздействием других СМИ.
Согласны ли Вы с той точкой зрения, что русские не помнят своей истории?
Нет, не согласна. Проблема не в том, что они ее не помнят. А в том, что в обществе отсутствует культура уважения исторического знания как особой профессии. Апелляцию к различным историческим примерам можно услышать от разных представителей общества, причем зачастую она основана на эмоциях и мифах. В обществе отсутствует понимание того, что давать оценку историческим событиям и личностям — это большая ответственность, которая должна основываться на компетенции.
Может ли политик или историк манипулировать массовым историческим сознанием настолько, чтобы видоизменять его? Если да, то как?
У политика гораздо больше возможностей манипуляции и влияния на изменение исторического сознания, чем у историка. Конкретно в манипуляции — у него и больше потребностей. Историк, со своей стороны, может лишь противостоять этому, и то это проблематично. Каналы связи историка с целым обществом, а не отдельными его сегментами, строго ограничены.
Положительно или отрицательно Вы оцениваете влияние лингвистического поворота на историческое знание?
Да, безусловно, положительно.
Считаете ли Вы возможным для историка привнесение в свою деятельность внешних идеологических критериев, таких как патриотизм?
Я бы разделила этот вопрос на две части. Первая — возможно ли целенаправленное и осознанное привнесение подобных критериев? Для меня здесь ответ очевиден: это недопустимо.
Но на практике избавиться от них практически нереально. С этой позиции я бы переформулировала вопрос: Возможно ли историку избавиться в своей деятельности от подобных внешних идеологических критериев?
Я считаю, для историка важна сама попытка рефлексии и осознание того, что эти критерии влияют на его исследование. Применительно к патриотизму или национализму — это не просто идеологические установки, но и некие абстрактные чувства. Кроме того, они сами зачастую становятся предметами исследований. Как показал Бенедикт Андерсон, нации и национализм возникают лишь в Новое время вследствие изменения форм сознания. В этом плане историк может понимать, что подобные его чувства и установки являются не историческими константами, а лишь проявлением общей тенденции эпохи. Избавиться полностью от подобных влияний на исследования нельзя. Но подобная саморефлексия историка очень важна, по моему мнению.
Что для Вас крупнейшие политические катастрофы XX века?
Мировые войны.
Закладываются ли основы исторического знания в школе или в университете?
В школе — нет. На исторических факультетах вузов — хочется верить, что да.
Считаете ли Вы, что действительно возможны исследования «конца истории»?
Как попытка или вариант, но не как общая парадигма.
Какой опыт исторической деконструкции для Вас предпочтителен: западногерманский, японский, восточноевропейский или постсоветский 1990–2000-х годов? Во многих странах, переживших травматические опыты, шло переосмысление истории. Как Вы оцениваете эти попытки? Действительно ли шло переосмысление истории или это были новые официальные версии ее?
Насколько мне известно, каждый из этих случаев значительно варьировался. Мне сложно выделить какой-то конкретный, наиболее близкий и оценить каждый из них. Применительно к постсоветскому думаю, что было и переосмысление истории, и попытки представления новых официальных версий.
Считаете ли Вы, что российская история действительно мифологизирована? Кто создает мифы о ней?
Мифологизация истории есть всегда. Это особенность сознания — мифологизировать прошлое.
Определите понятие междисциплинарности в социальных науках на данном этапе развития.
Взаимное заимствование методологических подходов, методов, результатов исследований представителями различных сфер социально-гуманитарного знания.
Какие исторические проблемы требуют в российском сообществе историков большего исследования? Почему?
История сосуществования разных культур, этносов, вероисповеданий как в российском, так и в других многосоставных обществах. Зачастую (хотя и не всегда) историческая наука была нацелена на поиск конфликтных точек, начиная от неких локальных конфликтов и «недопонимания», поисков превосходства одних над другими, заканчивая гражданскими войнами и революциями. Я думаю, что необходимо изучать и те ситуации, когда находились оптимальные модели сотрудничества и сосуществования. В этом плане важен и интересен как собственно российский, так и зарубежный опыт.
Почему, как Вы считаете, среди российских руководителей было больше юристов, а не историков?
Среди руководителей и не должно быть больше историков. Это суть разные профессии. Юристы, наверное, ближе к практической деятельности по отправлению государственной власти.
Существует ли разрыв поколений в отечественной или в западной историографии?
Сложно или рано говорить о разрыве поколений. Есть смена научной парадигмы.
Наличествует ли типично российская, но неустранимая проблема несопоставимости российской истории и национальных историй внутри нее?
Проблема существует, и она очень острая, хотя я не думаю, что типично российская. По сути, для меня история России — это и есть история ее этносов, культур, представителей вероисповеданий и т.д. На сегодняшний день проблема — во многом политическая. Попытки представить саму Россию как основывающуюся на «титульной нации» и «традиционной религии», конечно, делают во многом эти истории несопоставимыми (известно, что история, точнее, представление о ней, формирует нацию). Необходимо поменять общее представление о России как основанной на многонациональности, поликультурности и т.д. (отчасти эта концепция реализовывалась в рамках СССР). Тогда и проблема с сопоставимостью историй во многом решится.
Менялось ли Ваше представление об истории России?
Да, менялось, прежде всего под влиянием изучения истории других стран. Давно ведется классический спор — к чему Россия ближе: к Западу или Востоку. Чем больше изучаешь историю восточной страны, тем более понимаешь, насколько Россия далека от Востока.
Должна ли быть переосмыслена революционная и тоталитарная догма развития в русской истории (два типа развития — революция или тоталитарные практики), догма всегдашнего про- и антизападничества русской общественной мысли?
Не столько переосмыслена, сколько необходимо лишить ее статуса догмы. Сфера общественной мысли — это та категория, где наличие нескольких подходов и разных интерпретаций будет весьма продуктивным. Но совсем отказываться от уже имеющихся подходов не стоит, нужно лишь предоставить им альтернативу.
Читать также
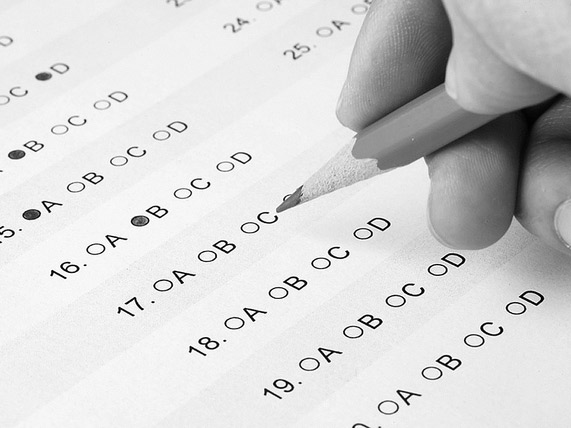




Комментарии