Левада-style
Первая беседа Алексея Левинсона и Бориса Дубина в нашем цикле биографических бесед о формировании начал интеллектуального опыта в России.
 5 759
5 759 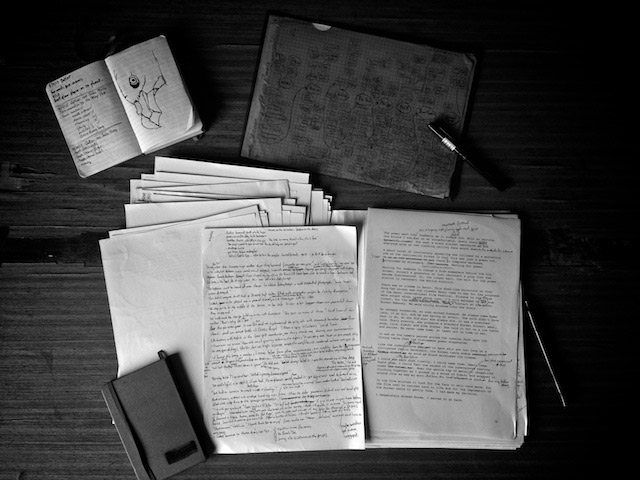
© Graham Holliday
От редакции: Перед вами — расшифровка видеозаписи беседы Алексея Левинсона и Бориса Дубина о социологе Юрии Леваде.
— «Гефтер» продолжает цикл, посвященный формированию публичного интеллектуала в России. Мы приглашаем всегда двух гостей. У нас своего рода интеллектуальный ринг, или интервьюирование гостями друг друга. И прежде всего, обращаясь к Алексею Георгиевичу Левинсону и Борису Владимировичу Дубину, хотелось бы узнать, как собственно формируется жизненное «кредо» публичного интеллектуала в России? Какие факторы больше всего в вашем опыте, жизни влияли на то, чтобы стать не интеллигентом старого типа, не просто книжным человеком, не просто академическим работником внутри определенных головных структур, внутри готовых моделей, а обращаться к публике и во многом к истории? Как появляется решимость взаимодействия не только с готовыми, но и с новыми, нетривиальными темами интеллектуальной жизни?
Алексей Левинсон: Знаете, мы нечаянно подготовились немножко к другому. Мы, наверное, сможем ответить на эти вопросы в том числе в следующей беседе, но мы хотели бы это делать вполне определенным образом! Мы хотели бы рассказывать о человеке, с которым мы были длительное время в близком контакте, — о Юрии Александровиче Леваде, и, наверное, в рассказе о нем и о том, как проходило его общение с нами и многими другими, получатся ответы на ваши вопросы. Может ли быть Левада назван публичным интеллектуалом? Наверное, да. А дальше уж все получится, по-моему, само. Согласен?
Борис Дубин: Да, конечно.
А.Л.: Я хочу дать такую справку, чтобы было понятно, почему мы берем на себя смелость говорить про Леваду. Потому что я был с ним знаком, то есть не знаком, а состоял в регулярном очень близком общении на протяжении 40 лет с 1966 года и по год его кончины — 2006-й. Боря — немножко меньше, но все равно…
Б.Д.: Больше четверти века.
А.Л.: Да, все равно счет на десятилетия, и все равно в моей жизни это больше, чем половина моей жизни, а уж по значимости и говорить нечего. И нет сопоставимых фигур среди всех, кого я видел за свою жизнь, поэтому говорить о Леваде — это говорить о самом главном, самом главном из тех, кто влиял на меня. Я думаю, не так интересно, как он влиял лично на меня, а стоит поговорить, какое влияние вообще этот человек оказывал и оказал на многое — на нашу жизнь, на людей вокруг. Вот это то, о чем мне хотелось бы говорить. Да, еще технически наше общение проходило в каких форматах? В 1966 году я пришел в создававшийся тогда, без деталей если говорить, сектор теории методологии Института конкретных социальных исследований (ИКСИ) Академии наук СССР. В 72-м году этот институт был практически разогнан, подвергнут чистке, Левада оттуда был вынужден уйти, я тоже оттуда ушел. И мы далее существовали в качестве круга людей, связанных с Левадой, неформальной дружеской компании и одновременно кружка в историко-научном смысле, потому что проходили регулярные надомные семинары и прочее. И в 1988 году Левада был приглашен на работу в только что созданный Всесоюзный центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Он пригласил, и туда пришли люди, которые принадлежали к этому кружку, большая часть из них, и среди них был Борис, в частности. И с этого времени до кончины Левады мы работали во ВЦИОМе, а потом в организации, в которую перешли Левада и его сотрудники, принявшей затем название «Левада-центр». Это моя часть биографии, Борина — немножко другая, но в общем похожая.
Б.Д.: Да, она немножко короче, и вход в круг Левады у меня был другой. Я вошел сначала в это неформальное сообщество, сообщество друзей, сообщество коллег, круг, кружок, семинар через Льва Гудкова, который был давно и тесно связан с Левадой еще через прежние времена, через ИКСИ и всякие другие связи. Это был приблизительно самый конец 70-х годов, потом несколько лет открытого, публичного левадинского семинара, который кочевал и переезжал из одного помещения в другое, плюс наши неформальные способы общения. Этот круг собирался непременно как минимум один раз зимой и как минимум один раз летом для смеси дружеского общения, персональных контактов, научных обсуждений, просто для проявления солидарности и дружбы. А с 88-го года, когда Левада пошел во ВЦИОМ с условием, что…
А.Л.: Дословно он сказал: «Если возьмете моих ребят».
Б.Д.: Естественно, мы все пошли. И с тех пор это было едва ли не ежедневное профессиональное и непрофессиональное общение, не говоря уже о встречах, застольях, прогулках. Опять-таки семинары — одни, другие, третьи, зарубежные конференции с некоторого времени, зарубежные поездки, мы в Америке вместе были несколько дней.
А.Л.: В Югославии.
Б.Д.: Да, первая поездка — это был Дубровник. Я думаю, Алеша скажет об этом и яснее, и живее, но среди черт, которые в Леваде были для меня лично совершенно поразительны, — это свойство обрастать людьми и быть центром возникавшего вокруг него сообщества. Поскольку я всю свою жизнь, включая нынешние времена, — человек абсолютно противоположный по своим склонностям, мое пространство — это нора, рассчитанная на одного человека, так сказать, одноместная жизнь, то для меня это было совершенно поразительно, насколько Левада легко это делал, даже как бы почти играючи, и какую ответственность потом он чувствовал за тех людей, которые вокруг него собрались. И это было не просто заражение, магнитная сила, хотя и это было, без всякого сомнения, но это всегда было ради дела — это другая очень важная черта. И мне кажется, ему это было всегда бесконечно интересно. И как только этот интерес терялся, вот здесь уже дружба дружбой, а табачок врозь, такие случаи были.
А.Л.: Да нет, собственно, и дружба кончалась.
Б.Д.: Да, такие случаи тоже бывали. Но все же основные черты — это соединение активности, всегдашней, никем не подхлестнутой, и свойство соединять людей, объединять их делом и это дело продолжать, никогда не бросать, несмотря на все препятствия — и внутренние, и внешние, и общество, и власть, и собственная болезнь, и достаточно кудлатая собственная личная жизнь. И даже среди его сверстников, а это все-таки было поколение и чрезвычайно интересная и важная формация людей, родившихся в 29–30-м примерно году, даже среди них, среди наиболее деятельных, интеллектуально очень сильных людей такое соединение качеств и способности породить формы социальной конструкции было уникальным. Поэтому я бы сказал, что с 2006 года, со смерти Левады, общение не прекращается, оно, может быть, перешло в другую форму, но оно не изменилось в постоянстве, оно не изменилось в важности этой связи, и оно не изменилось во влиянии, которое от него исходит и которое я постоянно чувствовал.
А.Л.: Да, и это общение не во имя и не по случаю, не в день памяти, это общение…
Б.Д.: Это, собственно, жизнь.
А.Л.: И жизнь, связанная с делом.
Б.Д.: Да.
А.Л.: Борис, собственно, перешел к тому, что будет главной темой этого разговора, — Левада и вокруг него. В 1966 году Леваде было 36 лет, он в 35 защитил докторскую и был самым молодым доктором философских наук в Советском Союзе, то есть в 35 физики, математики становились докторами, а в философии такое было беспрецедентно. И, быть может, с этого начинаются какие-то вещи, которые я для себя называю простым словом «чудеса»: это личность, с которой связано некоторое количество чудес. Слово «чудеса» надо понимать так: это то, что, как правило, не происходит ни с кем другим, а вот с ним или в связи с ним происходит. Тут я не говорю о мистических событиях. Я бы то, о чем Боря уже начал говорить, рискнул обозначить словом «харизма». Слово затасканное, у нас кого только ни называют харизматиком. Если следовать более строгим определениям харизмы, харизматического лидера, то Левада таким был, и только он, пожалуй, отвечает этому определению до конца, я говорю про всех людей, которых видел за годы своей жизни живьем. Что отличает харизматика по определению, это то, что ему приписывают сверхъестественную реакцию со стороны публики вокруг — способности в области чего-то, касающегося взаимоотношений личности и ее окружения в основном в нравственном аспекте. Я вообще думаю, что основное влияние, которое Левада оказал на свое окружение, пролегает именно в этой области. Потому что успехи и неуспехи нашей науки — это, как говорится, дело наживное, можно сожалеть о том, что мало этих успехов, но можно надеяться их когда-нибудь наверстать. Но вот что касается научного этоса, не вызывающего восторга и не вызывавшего его еще тогда, когда я прикоснулся к этому миру… В той советской научной среде, которую я застал, к которой прикоснулся еще студентом, это нравственное состояние, прежде всего, измерялось дистанцированием от советского, от того, что в советской философии делалось: еще были же живы люди — они еще громили Леваду, — у которых руки были по локоть в крови, они ходили по коридорам ненаказанные и даже непорицаемые. И вот в этом контексте появился человек — провинциальный умник, приехавший из города Винницы, не все русские слова правильно произносил, ничего особенного не сделал, не совершил никаких подвигов и поступков, никого не спас, не вынес из огня, не защитил от наветов, в общем, гражданских подвигов не совершал, просто работал. Кем он там работал — редактором в издательстве «Знание»?
Б.Д.: Лектором там же, в обществе «Знание».
А.Л.: Лектором, да. Написал кандидатскую «Вопросы народной демократии в Китае» — надо сказать, он ничего не потряс в науке этой своей диссертацией. Он написал замечательную книгу «Социальная природа религии», которая была защищена как докторская диссертация. Она была действительно, не вся, но некоторыми местами прорывной: там была сформулирована идея культуры.
Б.Д.: Тут же переведенная на несколько языков, интересно, что восточноевропейских, то есть явно, что это было чрезвычайно важно для поляков, венгров, чехов.
А.Л.: Хотя у поляков, венгров, чехов, финнов — у всех социология была на 10–15–20 лет впереди, чем у нас, потому что у нас не было вообще никакой, а там она хоть какая-то была. Так вот, появился человек, за которым не было особых формальных заслуг или который бы стяжал авторитет. Он не стяжал — он его просто имел. Я это в первый раз осознал таким смешным образом: я пришел в Институт философии, чтобы увидеть человека по фамилии Левада — мне сказали, что надо с ним встретиться. Я не знал, как он выглядит. Потом выяснилось, что стоит еще несколько человек в точно таком же положении, как я: они хотят его увидеть, но не знают, как он выглядит. И вот, Институт философии, ходят его сотрудники туда-сюда по коридору. И эта маленькая группа, к которой я принадлежал, обращается к каждому: «Скажите, пожалуйста, вы не Левада?» Ну, казалось бы, простой вопрос — должен быть простой ответ. Что с людьми начало происходить, когда им задавали этот вопрос? Одни шарахались: «Я Левада? Вы что?!!!» Другие говорили: «Ой, что вы, нет, не Левада». Это не трактовалось как простая ошибка. А через некоторое время, когда я познакомился с ним, я увидел, что происходит рядом с ним. Рядом с ним ни один человек, по-моему, не мог, по крайней мере поначалу, чувствовать себя естественно, с людьми происходили странные трансформации. Люди, которые, как потом выяснялось, были мелкими, мельчали после первой минуты присутствия за одним столом, в одной комнате с ним: они начинали говорить глупости, бОльшие, чем им это было свойственно, они становились мелкими. Интересно, что это продолжается до сих пор: вот Левады нет уже сколько лет на свете, и некоторые люди из тех, кого я сейчас имею в виду, когда они заговаривают о Леваде, срываются на фальцет, меняют позу — в общем, они не могут о нем говорить. Люди, в доброкачественности которых нет оснований сомневаться, начинали чего-то понимать про себя — вот это очень интересно. Хотя вокруг нас была замечательная, легкая атмосфера в том секторе, который вокруг него создался, там было очень весело, там выпивали помаленьку то и дело — в общем, все было, мы были все на ты. Там были люди с двукратным размахом возраста, я был один из самых младших, там были люди почти что вдвое старше меня — мы все были на ты друг с другом. С Левадой на ты практически не был никто, а тому, кому Левада предлагал, было неудобно, некоторым старшим по возрасту он предлагал на ты, они переходили, и это всегда получалось натужно и неестественно. Но все это происходило не потому, что он был недотрога.
И еще обнаруживалась интересная вещь, если говорить не о хороших и плохих, а о людях разного пола. Оказалось, что Левада — это такой прибор для проверки женщин. Вот, если женщина приходит, знакомится, с первой секунды она понимает, что это за человек, а большинство женщин это понимали, это можно было видеть по их лицам. Левада совершенно не был красавцем, у него была масса несовершенств в его лице и фигуре, но женщина, я бы так сказал, если она настоящая женщина, что-то понимала про него. Это не значило, что между ними начнется романчик или что-то в этом роде, он этого абсолютно не допускал, и его отношение к женщинам — совсем герметически закрытая и особая вещь, но это характеризовало женщину. Если женщина этого не понимала, то для нее просто сидел мужик несколько бабской внешности, толстый, и это означало, что эта женщина интереса не представляет никакого, и через некоторое время они исчезали. То, о чем я говорю, касается любой женщины — это могли быть и кандидаты и доктора наук, и сотрудницы бухгалтерии, и уборщицы. Надо сказать, что при всем интересе к вопросу о взаимоотношениях мужчин и женщин я подобных людей, которые так проявляли бы кого-то вокруг себя, не видел. И эта реакция — тоже из области если не чудес, то, по крайней мере, редко встречающихся вещей.
Б.Д.: Есть такой женский ход, уж если в этом разрезе говорить, что мужчину надо хвалить — это расхожее мнение, оно сейчас сошло уже на уровень телевизионных сериалов, а когда-то, наверное, было находкой женского ума. Так вот, Левада увядал немедленно, как только начинали про него говорить что-то лестное, даже если это была правда, — вот просто увядал, сох на глазах. Он был большим грузным человеком — большая голова, очень ясные черты лица, большое тело, высокий рост, и он как-то съеживался и ссыхался прямо на глазах. Я видел несколько таких заходов представительниц женского пола, некоторые даже были вполне себе очаровательные, но они сочли, что такой ход нужно применить к этому человеку, — и все, контакт пропадал немедленно. А для Левады если интереса не было, то он никогда его не изображал.
А.Л.: Более того, он человека переставал замечать.
Б.Д.: Видеть и слышать, да.
А.Л.: Да, и это было ужасно: он переставал думать про эту персону, и вокруг этой персоны образовывался пузырь пустоты.
Б.Д.: В секунду.
А.Л.: Да, и лучшее, что можно было сделать, — это уйти и больше не появляться.
Б.Д.: Да, и вот что важно: Левада притягивал к себе людей, удерживал их рядом, не прилагая для этого страшных усилий, не суетясь для того, чтобы люди были рядом с тобой, не стремясь их заинтересовать. В этом смысле при всей его чуткости и пластичности его поведения и общения он был человек совершенно не актерский, не привстававший на цыпочки, не пытавшийся сыграть какую-то другую роль.
А.Л.: Он не играл, но его лицо изображало все, и одна из таких женщин, которые поняли все с первой минуты, сказала: «Слушай, но у него же рожа, как телевизор». На ней отражалось все. Вот каково это было — сидеть рядом с ним и вдруг увидеть, что ты ему неинтересен…
Б.Д.: Вообще говоря, он был, конечно, человек мужского поведения, мужской внешности, но при этом, очень редкий случай, он сохранял даже в чертах лицах и особенно в их выражении, в том, что образует неповторимость человеческого лица, абсолютно детские черты. В нем совершенно не было инфантильности, но было необычайно это соединение мужественности, значительности, не надутой, а естественной, с какой-то почти детской реактивностью лица, очень подвижным, отзывчивым лицом.
А.Л.: Очень важно нам не быть неправильно понятыми: не было иерархии отношений, Левада к одному относился лучше, а к этому хуже, это не значит, что он ко всем относился всегда абсолютно замечательно. Я сам был объектом его достаточно жесткой критики.
А теперь о том, что касается интеллектуальной стороны этой личности. Я бы самым главным считал скорость процессов, которые проходили у него в голове. Вот прочтен доклад, человек что-то сказал, и, естественно, на это реагируют, соглашаются, не соглашаются — понятно, как обычно это происходит. Левада если говорил, то он говорил так, как будто вся дискуссия уже прошла, как будто в ответ докладчик уже все сказал и т.д. И разговор начинался с третьей-четвертой итерации, даже если их не было. Мне довелось писать с ним, я был им приглашен, и еще наш товарищ Долгий — так вот Долгий, Левада и Левинсон писали статьи. Две статьи вышли за подписью нас троих. Статья была по проблематике урбанизации. Мы долго собирались на квартире, чего-то там приносили, готовили тексты, как обычно пишут соавторы. В какой-то момент Володя принес текст, я принес текст, должен был быть текст Левады — если их соединить, то получится статья. И вот Левада принес статью — я бы не сказал, что она не имела ничего общего с тем, что написали мы, но это выглядело, как будто прошло несколько лет после того, как он это написал, и он несколько лет после этого работал, а мы нет. Подобное повышение уровней происходило всегда. В итоге в тексте, который вышел за нашими тремя подписями, вероятно, ни одного слова, принадлежащего Долгому и мне, нет или есть какие-то незначащие, — это текст, написанный Левадой после того, как он поразговаривал с нами, скажем так. То, что написали мы, тоже можно отдельно опубликовать, будет небезынтересно, но это другое, текст другого уровня. Стоит почитать эти статьи: они не утратили значения до сих пор.
Б.Д.: Да, совершенно точно не утратили. После моего первого знакомства с Левадой и приближения, потом вхождения в круг, который был вокруг него, мы с Львом Гудковым читали Леваду — то, что можно было тогда прочесть из новых его статей, будь то коллективных или индивидуальных.
А.Л.: Ты только объясни, какие это годы.
Б.Д.: Сейчас. Это была вторая половина 70-х годов.
А.Л.: После того как он оставил Институт конкретных социальных исследований и формально был работником ЦЭМИ.
Б.Д.: Поскольку его тогда не выгнали из партии, тогда это означало бы полное поражение в правах, и, конечно, тогда бы из академической сферы он тоже ушел невольно, потому что это было несовместимо. Но постольку, поскольку его из партии не выгнали, то значит…
А.Л.: А это было потому, что он имел еще одну ступеньку: он был секретарем парторганизации в ИКСИ, и это был действительно выбранный людьми неформальный лидер, сделанный формальным. И это ему создало некую подушку безопасности, он поэтому не потерял партбилет и смог работать в этом институте.
Б.Д.: Да, он был в ЦЭМИ, и, по крайней мере, раз в год появлялась небольшая, как правило, по объему статья. Алеша потом нашел замечательную, по-моему, формулу для жанра, в котором Левада работал, — «статьи с потенциалом книг», и, по-моему, это совершенно точно, потому что вышла уже статья об игре, игровых структурах в системе социального действия, которую он считал вообще лучшей из того, что удалось ему тогда придумать. Почему это было важно? Нам тогда казалось, я и сейчас в этом уверен: мало того, что Левада был совершенно самостоятельным социологом, не адаптировавшим замечательные находки американской, польской, французской, немецкой и т.д. социологии для отечественных нужд, чем занимались, и правильно делали, другие ученые. Он был при этом не лишен лидерских черт — стремления создать школу, выдвинуть идеи и подтянуть к этому учеников, которые дальше будут это развивать, — такая классическая модель образования научной школы. Он легко уходил от того, что, казалось бы, нашел. Он в одном интервью сказал: ну да, были там какие-то статьи, я пытался чего-то делать, но социология как таковая меня стала интересовать все меньше, а все больше стала интересовать культура. Это был очень важный переход, примерно начиная с 74-го года, в изданиях очень специальных, часто ротапринтных, часто полуслепых с очень маленьким тиражом, распространявшихся, вообще говоря, неизвестно как. Мы их брали в Ленинской библиотеке, поскольку там работали, ксерокопировали и дальше уже работали с этими ксероксами. Была проделана, как всегда у него, от статьи к статье гигантская интеллектуальная дистанция, и каждый новый шаг в этом смысле был выходом на новый социологический горизонт и на новую проблематику.
Сначала это было связано с концепцией урбанизации, поскольку слово «модернизация» тогда произносить было нельзя, оно было буржуазное, а «урбанизация» — уже было можно. И фактически он завернул в эти разработки теоретический аппарат для исследования морфологии современных обществ. То, что он там делал с конструкциями пространства, времени, глубины социального действия, способности его быть воспроизводимым во времени, все, что касается репродукции социальной структуры, отдельных групп репродукции культуры и т.д., совершенно не потеряло своего значения, и, надо сказать, никем не поднято, не продолжено и не отрефлектировано. Следующий заход был на собственно культуру, то, на что социология, вообще-то говоря, обращает достаточно мало внимания, может быть, за исключением немецкой традиции, а для позитивистской нормальной социологии культура — это явление, с которым непонятно, что делать, неизвестно, куда ее девать, она там сохраняется как остаточные значения, по принципу — прошла социализация, и все, о культуре можно уже не говорить. То есть разговор о культуре заходит только в связи с тем, как социализируется личность, как она эти самые культурные образцы в себя вбирает, апробирует, усваивает, адаптирует и т.д. и как она дальше с этим живет. Левада сделал в этом смысле несколько решающих шагов для социологии, к сожалению, неизвестных другим социологам за пределами России, а в России, как мы с Алешей уже отмечали, невостребованных. То, что касалось игры, — это вообще совершенно новая для социологии проблематика, и опять-таки никем не подхваченная, потому что фактически…
А.Л.: Прости, я перебью. Не надо думать, что это имеет отношение к социологии спорта, или шахмат, или чего-нибудь в этом роде. Игра здесь — это тип социального действия, так игру никто — ни Хейзинга, ни Эйнштейн — не понимал. Это Левада взял концепт игры и переделал его под себя.
Б.Д.: Как он делал всегда.
А.Л.: Да. И вот этот особый тип социального действия, имеющий двойную природу, тем и интересен.
Б.Д.: Да, я думаю, прицел там был тоже двойной, в методологическом смысле это важно. Потому что, с одной стороны, это был ход в сторону незаинтересованного, не позитивистски понимаемого, казалось бы, нефункционального, не имеющего прямого результата, неинструментального в этом смысле действия, что в принципе для социологии вещь нехарактерная: изучать экономические действия — пожалуйста, а ритуалы остались в прошлом, и почему это нас должно сейчас интересовать. А с другой стороны, это был заход на особого типа социальные и культурные конструкции, которые, независимо от того, что у них там внутри содержательно, устроены как конструкции фиктивные, как конструкции симулятивные, как конструкции, которые, вообще говоря, не подразумевают инструментального действия, смысл их в другом — в символической демонстрации. И когда начиная со второй половины 90-х и на протяжении нулевых годов мы увидели победное шествие таких структур в политике, праве, Церкви, массмедиа и т.д., тогда мне, по крайней мере, стало понятно, куда Левада целился, когда заходил на эти вещи.
Когда во ВЦИОМе мы писали книжку про советского человека, — она вышла под названием «Советский простой человек», — то, поскольку мы были первоначально отделом теории, по своим склонностям и по своим претензиям был склонны к теоретизированию. На что Левада, перечеркивая очередные абзацы, отведенные теории, говорил: братцы, сейчас задача не в этом, давайте разберемся в том, что реально происходит. И таким образом делался шаг за шагом к той теории, которая была связана с эмпирией, которая была направлена на то, чтобы объяснить эту эмпирию и может быть даже сделать некоторый шаг-другой впереди этой эмпирии с тем, чтобы увидеть, во что эта эмпирия завтра превратится. И здесь примерно с 89–90-го года был заложен его самый большой, самый притязательный и самый серьезный проект — это проект социологической антропологии, который не имеет отношения к тому, что называется социальной антропологией, этнографией и т.д., а имеет прямое отношение к социологии, но к социологии, взятой опять-таки в нехарактерном для классической науки разрезе — разрезе того, как это все отражается в конструкции личности и соответственно в конструкции общения этой личности, а отсюда уже в структуре общества, его коммуникативных, экономических, политических процессов. Поэтому я бы сказал, что Левада сделал три большущих шага для российской социологии, которые она не оценила, не подхватила и не развила и вместе с тем не опровергла, не подвергла критике и вообще какому бы то ни было анализу: это ход в сторону социальной морфологии общества, это ход в сторону социологии культуры, включая игровое действие, и это ход в сторону антропологического проекта, который мы до сих пор вместе и по отдельности ведем, что и является основным вкладом Левады в теоретическую социологию.
Но что было еще характерно для Левады, это всегда была историческая разработка: его способность быть в истории и вводить историю в сам инструмент исследования, не говоря о проблематике, была совершенно поразительной, и я было думал одно время как-то связать это с особенностями поколения, но я бы не сказал, что, скажем, для Грушина, который оканчивал вместе с Левадой философский факультет, это было в высокой степени характерно или что это было характерно для Щедровицкого, который годом раньше окончил философский факультет, или даже для Мамардашвили, который не тогда, а с годами, чем дальше, тем больше начинал втягивать историю в саму оптику своего рассмотрения. Зиновьев, который тоже годом раньше окончил тот же философский факультет МГУ, тогда пошел в другую сторону как теоретик, это чистая логика, а исторические разработки включая современную эпоху ушли в романы, которые…
А.Л.: Да, там был ход прямо противоположный, модернизаторский.
Б.Д.: Да. В этом смысле, конечно, очень интересно было бы, что опять-таки не сделано, связать, соотнести Леваду с особенностями этого поколения 29-го, 30-го, 31-го года рождения, окончивших вуз в 50-м, в 51-м, в 52-м годах прямо накануне исторического перелома — сначала смерти усатого вождя, а потом всего, что развернулось на его останках. Но я думаю, что важно это соотнести, но при этом не редуцировать то, что делал Левада, к особенностям поколения, потому что далеко не для всех даже лучших представителей этого поколения особенности левадинской оптики, левадинской мысли, левадинской теоретической работы были характерны. Это вполне индивидуальное сочленение вещей, которые в поколении могли быть рассыпаны, растворены, он их: а) собрал; б) очень сильно укрупнил эти особенности; и в) ввел их в прямую работу, причем в работу, сохранившую и запал, и силу, и активность, и динамику на протяжении нескольких десятилетий. Левада потом писал в своих уже последних работах, включая эту самую статью о российских элитах, что история России — это история коротких перебежек, в ней нет длинных преемственных линий, в этом состоит ее особенность. Тем поразительнее, что в работах самого Левады эти длинные линии все время ощущались им самим и теми, кто вместе с ним работал. Мне уже приходилось об этом писать, и я не думаю, что это такая уж прям находка, но для меня было по-своему поразительно, что Левада и как тип человека, и как тип научного работника, и уж тем более как тип мыслителя и теоретика в этом смысле был антиподом того советского человека, которого он умел заставить разговориться. И очень важно почувствовать вот это «анти-» без какого бы то ни было стремления стать диссидентом или уйти в нору, вместе с тем вот эту способность собирать людей, но ради общего дела, и третье — удерживать это дело как некоторую форму и традицию на протяжении нескольких десятилетий даже при смене или пополнении того кадрового коллектива, с которым ты вместе это дело начал. Все это вместе с живой заинтересованностью, современностью и всегдашним ощущением истории внутри нее, по-моему, — и есть антагонистические черты по отношению к тому среднемассовому советскому человеку, которого мы изучаем, описываем и пытаемся как-то проследить его трансформацию и деформацию.
А.Л.: Я хотел бы подчеркнуть из того, что ты сказал: именно Левада в том отделе, в секторе теории методологии, который был создан в ИКСИ, посадил всех, кто приходил, за изучение зарубежной социологии, чтобы ликвидировать тот разрыв, то отставание, которое у нас было, а оно исчислялось чуть ли не 40 годами. И он сам непрерывно читал всю классику — то есть то, что потом стало классикой. Парсонс еще был жив, приезжал к нам, и другие имена — он был в этом контексте, но нельзя сказать, что Левада был структурным функционалистом, хотя сектор работал в какой-то степени под влиянием структурного функционализма.
Б.Д.: И там под руководством Левады была проделана гигантская переводческая и реферативная работа.
А.Л.: Слова Бориса можно было бы интерпретировать в том смысле, что это был символический интеракционизм, но нет. В этом смысле он не продолжал те великие классические линии, которые существовали в англоязычной социологии и которые, в общем, сейчас уже являются достоянием студентов. А в российской школе и продолжать-то особенно было нечего, но при том, что Борис показал, насколько это была отдельная вещь, нельзя сказать, что это был какой-то провинциальный чудик, который в отрыве от мейнстрима придумал деревянный паровоз. Это не так, хотя развитие западной терминологической социологии пошло в одну сторону, а то, что делал Левада, было уходом в другую сторону. Недаром Лев Гудков истратил очень много пороху для того, чтобы сигналить, что вы, ребята, в общем, идете, скорее всего, не туда. Это первое, что я хотел сказать. А второе — я хочу вернуться к самой главной теме нашей беседы, а именно к вопросу этики. Надо еще обязательно сказать, что у «Левада-центра» есть известный авторитет и репутация, — хоть она в последние годы и была подмочена, но было что подмачивать, — репутация, прежде всего, безусловно порядочного, неподкупного, объективного, не смотрящего в рот начальству или деньгам учреждения. Нам смешна постановка вопроса, который лежит в основе закона об НКО. А в его основе лежит постулат, что тот, кто платит, тот и заказывает музыку, — это считается истиной, на которой можно основывать закон. Для тех, кто вырос рядом с Левадой, это смешно: это все равно как думать, что весной надо писать одно, а осенью другое, или что женщины пишут одно, а мужчины другое, — в общем, это какие-то псевдоестественные основания. Не то чтобы для Левады это было не так — для него этого просто вообще не существовало, это не было вопросом, он не боролся с этим, потому что для него это не стояло как проблема, как есть люди, которые не борются с искушением выпить, потому что для них несущественен алкоголь.
Я говорю, что он все время что-то делал. Действительно, похоже, что он вообще кроме того, что он что-то делал, ничего другого не делал.
Б.Д.: Да, даже если взять классический советский вопрос: «Ты на работу?» или «Ты с работы?», он мог бы сказать: мне не надо никуда ходить, я и есть работа. В этом смысле он и был тем пространством, в котором происходила работа. Если ты подходил к этому пространству и как-то в него включался, ты начинал что-то делать. И разграничение: вот здесь я работаю, а тут я делаю что-то другое, насколько я понимаю, для него просто не существовало.
А.Л.: Левада никогда не уходил в отпуск вообще, один раз он поехал в отпуск со мной и с моей семьей, но это было, так сказать, в помощь мне, а не потому, что ему захотелось отдохнуть. Он не понимал, как это. Я не думаю, что у него были выходные дни, то есть он гулял с собакой, когда у него была собака, он гулял с сыном, но это было такой же частью жизни, в это время что-то там делалось, происходило в голове и т.д. Он умер за рабочим столом, выбрав сам себе такую смерть с пером в руке. Он не имел никаких хобби, не то, что его ничто не отвлекало, просто это и была, как Борис правильно сказал, его жизнь. На этом был построен ВЦИОМ, когда сначала просто начал действовать, влиять на все тот отдел, который Левада возглавлял, а потом он сам как директор. Я помню точно, что на протяжении лет я уезжал с работы на последнем поезде метро, мы жили в состоянии такой, как бы сказать, лихорадки буден, что ли. В конце 80-х — начале 90-х события катились с невероятной скоростью, и очень быстро стало ясно, при тех технологиях, которыми мы тогда пользовались, — когда мы печатали в Москве анкеты, перевязывали их бечевкой и поездом отправляли куда-то, их там где-нибудь в Хабаровске заполняли и поездом возвращали назад, — что мы не успеваем за временем. Мы сокращали это время, сокращали, сокращали, мы придумывали разные способы работы, это все происходило в доинтернетную эпоху, мы придумывали разные способы сокращения времени, и мы видели, что мы не успеваем, что события развиваются со скоростью, большей, чем позволяет наша технология. Газета не успевала, только радио или телевидение оказывались в достаточной степени оперативными.
Б.Д.: А потом пришел Интернет.
А.Л.: Да, потом пришел Интернет. Левада выдвинул идею, что события, развивающиеся таким образом, он предложил французское слово «аваланж» — лавина, лавинообразно развивающийся обвал, — имеют другие характеристики социального процесса, что там не действуют известные социологические закономерности, что там неприменим известный понятийный аппарат и требуется все делать заново.
Б.Д.: Я могу даже хронологически уточнить. Это как раз было в Дубровнике, значит, это была весна 89-го года, и мы приехали туда на занятия летнего университета, Левада нас большой группой вывез. Предполагалось, что там будут выступать отцы-основатели из разных стран постсоветской зоны, а мы, значит, тоже уже не мальчики, но посидим, послушаем. Но, во-первых, события в самом университете на этой самой летней школе стали развиваться совершенно по другой траектории. А во-вторых, что называется, «аваланж» разразился у нас на глазах: приехали ребята из Прибалтики и привезли первые фильмы о «поющей революции». И поэтому мы, сидевшие здесь и разбиравшие, а вот как нам изучать советское общество и общество, которое родилось из советского влияния, прямо перед собой увидели на экранах, как оно стремительно эрозирует и рушится прямо здесь.
А.Л.: И возникает новый общественный строй.
Б.Д.: А идея «аваланжа», конечно, возникла именно в этой ситуации, и опять-таки ее Левада не бросил, он ее провел через все эти годы, как и идею символически демонстративного поведения — тоже одна из его зрелых работ уже нулевых годов, уже близко к 2006 году, 2004-го, что ли, о значении символов в социальном, в том числе политическом, поведении. Линия, по-моему, чрезвычайно важная и, к сожалению, отечественной социологией не разрабатываемая. Поэтому и там тоже было несколько разных этажей с разной траекторией движения, разных социологических конспектов и разных социологических концепций, идея нормального и экстраординарного состояния. 11 сентября здесь тоже повлияло на это, Левада очень откликнулся на это, потому что это подкрепляло его соображения об особых состояниях сверхмобилизации в очень короткие сроки. Мне кажется очень важным все время иметь в виду, что помимо, и рядом, и внутри того левадинского излучения, о котором Алеша отлично говорил, была проведена очень серьезная работа, были формы, в которых осуществлялась эта работа вместе с другими людьми. Левада, кстати, всегда очень легко шел на соавторство — у него огромное количество работ, которые он написал вместе с другими людьми. Как это делалось? Каждый раз по-особому: были случаи, когда он съедал баранину, свинину, потом овощи и т.д., а были другие случаи, когда это складывалось во что-то, а он наводил общую структуру и порядок. Но характерно стремление всегда работать вместе, но, конечно, при полной независимости и при определенном одиночестве его мысли. И, конечно, очень важны были несколько идей, которые в его голове родились и которые он сумел протащить через несколько десятилетий, совершенно этому не благоприятствующих, и найти форму и людей для продумывания и реализации этих идей. Я бы сказал, что я не вижу сопоставимых примеров постсоветской реальности по созданию таких социальных форм совместной интеллектуальной работы с такой временной протяженностью и с такой силой тех изначальных теоретических идей, которые были положены Левадой в основу нашей совместной деятельности, и пусть меня потом кто-нибудь опровергнет.
А.Л.: Я скажу, что, казалось бы, работа Георгия Петровича Щедровицкого могла бы быть примером, но она не является школой — нет.
Б.Д.: Конечно, с особенностями мыслей Щедровицкого.
А.Л.: Но это не может называться школой при всем том, о чем мы говорили, при той огромной интеллектуальной загрузке, монографий у Левады практически нет, то есть последнее, что Левада написал, было о социальных ролях. После этого книг он не писал. Все то, что издано, — это издание его статей. Левада работал непрерывно, как мы уже говорили, он постоянно писал. Как выходил наш журнал, каждый номер открывался его большой статьей, причем аналитической, созданной на базе анализа данных опросов.
Левада известен тем, что он как бы не в чести у власти, причем любой, при этом он никогда не был диссидентом, хотя имел массу друзей среди диссидентов.
Б.Д.: И никогда их не бросал.
А.Л.: Он приходил в дома, где в это время шел обыск. Он брал на работу людей, за которыми таскалась наружка. Он читал «Хронику [текущих событий]», он был в курсе всего происходящего. Он не причислял себя к диссидентам, но это документировано, есть довольно длинное интервью — и Докторов, и другие дали интервью, и он там объясняется на этот счет.
Б.Д.: Шалин?
А.Л.: Да, и Дима Шалин объясняется на этот счет.
Б.Д.: Автор, кроме того, замечательной статьи о социологическом портрете Левады. Это не в том смысле портрет, что мы сегодня рисуем, а это действительно попытка написать портрет и интеллектуальную биографию. И он сделал замечательное интервью, где Левада сказал много очень важных вещей, которые почему-то в других случаях или не получилось сказать, или никто не спросил.
А.Л.: Вот интеллектуальные продукты Левады, раз уж ты заговорил про интервью, если бы их можно было собрать, — это нечто совершенно замечательное. Я помню, что в том же самом Дубровнике он давал интервью…
Б.Д.: Венгерскому телевидению или радио.
А.Л.: Да кому угодно! Приходили люди и неразборчиво говорили: мы из ы-ы, не можете ли вы сказать несколько слов, — я один или два раза просто присутствовал в зале и слышал. Не имея на подготовку ни одной минуты, в режиме импровизации он выдавал такой анализ происходившего, скажем, в это время в Советском Союзе, который был готовой аналитической статьей. Статьи он такой не писал, в интервью он выговаривал то, что было у него в это время в голове, и он не считал нужным это предавать огласке. Это не просто алертность — это наличие в голове очень большой ясности по поводу происходящего.
У нас есть пять минут, за которые я хочу сказать одну вещь, без которой разговора о Леваде просто не может быть. Это возвращает к теме этики в ее самом-самом прямом смысле слова как представления о добре и зле. Я думаю, что Левада отличается от множества других известных мне людей способностью различать важное и неважное в чем угодно — в политических событиях, в биографии людей, в действиях властей.
Я помню точно, что он приехал из Праги, видимо, в январе 68-го года. Он собрал нас, чтобы рассказать о том, что в Праге какие-то студенты в каком-то общежитии были недовольны чуть ли не что там с потолка течет, то есть как бы ерундой. А на самом деле он увидел то, что стало называться Пражской весной до того, как об этом стал говорить кто-либо из известных мне людей. Вот оно, это различение важного и неважного. Второе различение — это вопросы добра и зла. Мне приходилось разговаривать с достойнейшими людьми, скажем, в православии, в христианской церкви — людьми, у которых есть такое средство различения доброго и злого, которым они умеют пользоваться. Но Левада был человек безрелигиозный, он был решительно не агностик: он не допускал суждения «а мы не знаем, все может быть», он был из тех людей, которые были убеждены в том, что эти вещи могут быть, а эти не могут, это может случаться среди них, а это не может. Это делало для него жизнь очень простой и очень сложной одновременно. Потому что в этой прямоугольной системе невозможны никакие извивы, влияния — он этого не допускал среди других людей и, естественно, не допускал этого сам. Я приведу один пример, о котором упоминал ранее. Его товарища Владимира Долгого подозревали в том, что он на следствии сдал, как говорится, других людей. Долгий, как он сам потом в интервью говорил, имел на душе грех: он не просто сдал, он написал донос в свое время, в студенческие годы, на нескольких человек и, видимо, обеспечил им несколько лет тюрьмы, Левада об этом знал. И вот человека с таким пятном на душе и на совести он обелил в глазах московской общественности, которая думала, что на допросе он все это назвал, поскольку после пошел шлейф арестов по делу, по которому свидетелем проходил Долгий. Левада сказал: «Нет, этого не может быть». В дальнейшем выяснилось и было известно, что человек, который действительно показал на этих людей, был не Долгий. Для него несомненность существовала там, где для других существовали сомнения, в частности для меня: мало ли что, мы же не знаем, что там было. Нет, для него было все ясно: вот это быть может, а этого быть не может. Левада не прощал предательства никому, никакого и никогда не делал шагов назад. Поэтому людей, с которыми он рвал, назад не принимал никогда. Вот что мы знаем про этого человека. Тут, я думаю, мы поставим точку в абзаце.
— С обещанием продолжения.
Беседовал Александр Марков
Читать также

Левада-style. Часть 2
Отношения ученичества и пиетета, доверие к ушедшим не исчерпывают воспоминаний учеников Юрия Левады о коллеге и педагоге. Перед нами нечто большее — сдержанная, тщательно скрываемая любовь. Новая беседа из цикла «Интеллектуальный биографический опыт» на «Гефтере».





Комментарии