Бригитта Кустер, Дирк Шмидт, Регина Саррейтер
Свершившийся факт? В поисках преодоления постколониальных запретов. Часть 2
Мучительные социальные воспоминания — продолжение разговора.
 2 519
2 519 
© John Atherton
Cохрани или брось (Keep it or leave it)
С самого начала проблемы реституции/репатриации/возврата занимают второе по степени важности место в наших работах наряду с вопросом, как собственность связана с контролем и исключительным правом на толкование в мире вещей колониального происхождения. Когда мы, как указано выше, сосредотачиваем свое внимание на активации вещей-миров, то это не в последнюю очередь относится к моменту неразъясненной собственности или оспариваемого владения. Потому что, как уже отмечал Жан Бодрийяр, предметы, собранные в коллекцию, являются «чистыми предметами». В соответствии с ранними работами Бодрийяра, написанными под влиянием анализа повседневной жизни Анри Лефевра и семиологии Ролана Барта, функция предмета (в отличие от принадлежности), если абстрагироваться от его использования, заключается в том, что им владеют [40]. Самуэль Штреле в своей работе «Об актуальности Жана Бодрийяра» демонстрирует, как Бодрийяр вышел за рамки своих ранних работ, в которых он исследовал события, влияющие на отношения между людьми и предметами, и обратился к анализу «семиократии», то есть верховенства упорядоченной культурной системы смыслов вещей. «Семиократия» приводит к «восстанию знаков», речь о котором идет в работе «Kool Killer, или Восстание посредством знаков» (Kool Killer or the Insurrection of Signs). И вслед за диагностикой продолжающегося «восстания предметов» в «Фатальных стратегиях», в конце концов, в «Невозможности обмена» Бодрийяр приходит к тому, что он назвал «молчаливым бунтом вещей, не желающих больше что-либо значить» [41]. Этот запрет субъектам присоединяться к восстанию, место действия которого перемещается от смысла вещей к самим вещам, является загадочным наследием Бодрийяра. Перенеся данное положение в наш тематический контекст, мы следовали ему на протяжении многих лет во всевозможных разговорах и дискуссиях, посвященных изучению возможностей и пределов дискурсов о реституции и подобных ей институциональных и неформальных практиках, о «репатриации» и о транснациональной музейной политике. Некоторые аспекты данной дискуссии довольно ясно отражены в интервью, которые мы брали у Франсуазы Вержес, Жана-Габриэля Летюрка, Бориса Вастио и Эдуарда Планше (споры о реституции). Это краткое изложение различных подходов и позиций в отношении спора о реституциях представляет своего рода предварительное заключение к нашим дискуссиям. Нашей отправной точкой стало наблюдение, что только рассмотрение реституционных исков и оборонительных стратегий, используемых против них после Второй мировой войны и процессов обретения независимости, поможет разобраться во все еще нерешенном и конфликтном вопросе о культурном значении и о сформированных колониализмом пространствах циркуляции обменов, находящихся одновременно между и в пределах Европы, обеих Америк и бывших колонизированных территорий в Азии и Африке. По этому поводу мы уже призывали отказаться от современного западного «собственнического коллективизма», вместо этого мы предложили обратиться к перераспределению, выступая в 2009 году в рамках мероприятия под названием «Антигумбольдт», организованного «Александртехник» (Alexandertechnik) — союзом деятелей культуры, архитекторов, художников, теоретиков и активистов: «Упорная приверженность правам собственности может лишь заморозить процессы движения и изменения, о которых так гордо заявляет Форум Гумбольдта. Отказ от реституций — это не нейтральный акт! Именно отказ от той роли, которую права собственности играют в нашем обществе, может стать предпосылкой для диалога и мультиперспективности. Или, как уже заявили участники антиколониальной Африканской конференции, проходившей в Берлине в 2004 году, “бесчисленные сокровища искусства и культуры были украдены, вывезены из Африки и теперь являются шедеврами музейных коллекций и частных собраний. Необходимо прийти к соглашению со странами происхождения этих произведений относительно того, на каких условиях объект должен быть возвращен или может быть оставлен в Европе”» [42].
Когда речь заходит о реституциях, вряд ли можно говорить о результатах, но существенные изменения в этом вопросе все же были достигнуты. И если мы постоянно оказываемся в одной и той же тупиковой ситуации («мы и они»), то это случается во многом из-за того, что практически невозможно при существующих законах удовлетворить законные реституционные иски и таким образом сменить собственника (например, из-за нератифицированных конвенций) [43]. Кроме того, существует разница между владением, означающим фактический контроль над вещью, и собственностью, означающей право контролировать что-то. В спорах о мировом культурном наследии мир воспринимается в качестве владельца. Такое восприятие наряду с организациями наподобие ООН, гарантирующими больше контроля, может сделать относительными претензии на собственность. Проект под названием «Два речевых акта: объект» представляет показательный пример таких сложных и сомнительных ситуаций возникновения продолжающегося непреодолимого постколониального конфликта между собственностью, претензиями на владение и данностью. Временные рамки, в которых действуют эти два речевых акта, простираются со времен начала немецкой оккупации колониального Камеруна, то есть, цитируя Акилле Мбембе, с момента основания территории, где «суверенитет в большей степени основывался на осуществлении власти вне рамок закона (ab legibus solutus)» и «насилие представляло собой исходную форму права» [44], и до наших дней. Когда владение так называемыми колониальными коллекциями объясняется (разработанной на правовой основе и примененной) кражей, тогда, если провести параллель с утверждением, что современная политика основана на краже тел [45], предлагаемая концепция самореституции связана с применением стратегий бегства и бродяжничества («Восстань, ибо не погибнешь» (о мумимании)), которые, согласно авторам книги «Пути бегства: контроль и подрывная деятельность в XXI веке» (Escape Routes: Control and Subversion in the 21st Century) могут быть восприняты как вызов преобладающей форме-субъекту и ведут к самой сути социального конфликта. По их словам, «бегство от формы-субъекта не является уходом и разрывом с миром: скорее, побег провоцирует укрепление идейных конструкций и усиление действенного вмешательства. Побег — это не призрак, это скорее многообразный обманщик. Это средство для эксперимента и для разработки теоретических подходов к непосредственным и конкретным фактам, составляющим наш мир, так как наш опыт не может просто игнорировать их упорное постоянство и неизбежную действенность» [46].
Об «артефакции» искусства и культуры
На примере головы Мемнона, доставленной в Британский музей в начале XIX века, исследователь арабской и исламской культуры Эллиотт Колла в своей блестящей работе «Конфликт древностей» [47] ссылается на тот факт, что текстовые записи биографий объектов [48] имеют основополагающее значение для процесса, который он предлагает называть «процессом артефакции». Колла воспринимает такого рода бумажную работу в качестве формирования архива, прикрепленного к объекту, а также как часть процесса развития его особенностей, придающих ему уникальность, и как часть наполнения объекта значениями. Идя дальше, расширяя концепцию артефакта, Колла выступает против идеи изначального существования объекта в качестве артефакта. С нашей точки зрения, концепция Колла может быть понята наилучшим образом в противопоставлении терминам «объективности» и «объективации», относящимся к нормативности научного метода абстракции, который отделяет объект от всех возможных исторических, социальных и эстетических конфликтов, в рамках которых он позиционируется. В действительности, Колла утверждает: «(…) Наиболее точным будет давать определение артефакту не с точки зрения его внутренних качеств, а скорее через напряженности и противоречия, которые проникают в него и связывают его с мощными политическими, социальными и культурными конфликтами» [49]. И, как он отмечает, не менее важен исторический момент перехода от прилагательного «искусственный» (artificial) к существительному «артефакт» (artefact), первое использование которого, в соответствии с Оксфордским словарем английского языка, было зафиксировано в 1821 году [50]. Историческое появление языка артефакта сигнализирует, по мнению Колла, о предъявлении претензий на объекты и, таким образом, неразрывно связано с правом собственности или отказом от него, со спасителями и хранителями этих объектов. В этой связи он критикует «тех, кто описывает историю приобретения древностей как историю грабежа» и, как следствие, «ограничивает свою критику требованиями соблюдения прав собственности», не будучи в состоянии понять «особенный характер приобретения артефактов», который сочетается с элементами спасения, альтруизма и сциентизма. Он приходит к выводу:
«Мощные и устойчивые возможности дискурса об артефакте также предполагают, что любая серьезная критика приобретения не может быть ограничена заявлениями об отдельных фактах кражи, так как на кону стояло появление новой, более размытой формы власти — сети, объединяющей материальные объекты и людей, могущественные государства и непостоянные эстетические тонкости, полевые исследования и музейные удовольствия. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения справедливости реституций, сразу станет очевидно, что заявления о грабеже не в состоянии в полной мере охватить более широкий контекст колониальной власти» [51].
Наиболее значимым в отношении исследуемой нами проблемы является то, что используемые термины, то есть имена, которые мы даем вещам и существам, в действительности являются частью торговой терминологии, формой соединения социальных и культурных сил, как объясняет Колла [52]. Так, архитектор, писатель и искусствовед Август Эссенвайн назвал «памятниками» объекты истории повседневной жизни, находящиеся в коллекции Германского музея в Нюрнберге (основан в 1852 году, Эссенвайн был его первым директором), когда писал на эту тему в 1884 году [53] и в каком-то смысле предвосхитил идею Форбениуса о немецких местах памяти, советуя воспринимать эти объекты не в качестве редкостей, а в качестве «этнографического материала» [54]. Можно найти много подобных заявлений в многочисленных этнологических и антропологических инструкциях для коллекционеров, например, в инструкции, выпущенной Берлинским музеем этнографии [55]. Потенциальным коллекционерам — колониальным чиновникам, миссионерам, солдатам, путешественникам — дается совет не просто собирать «экспонаты», потому что «с научной точки зрения не менее важно иметь полное собрание экспонатов одного типа, [производя] (…) учет всего культурного наследия» [56]. Сходная точка зрения о необходимости наличия полных коллекций для исследовательских целей выражена в трехтомной работе Феликса фон Лускана «Бенинские древности» (1919), посвященной артефактам, украденным из западноафриканского королевства Бенина во время так называемой «карательной экспедиции», предпринятой британскими войсками в 1897 году. Все предметы, впоследствии выставленные на европейском рынке произведений искусства, были записаны, поделены на группы и сфотографированы. Это, однако, не помешало Лускану, в отличие от многих других современных историков искусства, определенно говорить именно об искусстве Бенина и дистанцироваться от коллеги, который выражал «свое презрение к так называемому “искусству”», используя кавычки. Лускан отмечает: «Можно с ним соглашаться или нет. В искусстве необходимо позволить каждому обрести свое собственное спасение, придерживаясь собственной точки зрения…» [57]. Такая произвольность в определении того, что представляет собой искусство, еще не исчезла до конца и по сей день. Когда в Париже в 2006 году этнологические коллекции Музея человека и Национального музея искусства Африки и Океании (бывшего Музея колоний) были объединены в новый проект под названием «Музей примитивного искусства на набережной Бранли», концепция обращения с соответствующим материальным наследием как с произведениями искусства казалась передовой. В то же время был достигнут широкий консенсус относительно утверждения, что нельзя добиться равенства в представлении художественных произведений и артефактов различного происхождения в культурной истории лишь посредством перестановки и переименования их в «произведения искусства» (и уж тем более не благодаря присвоению названия «примитивное искусство», которое все еще выражает эволюционистский подтекст в идее об универсальности искусства). Очевидно, что от такого постоянного дискомфорта нельзя избавиться, лишь приняв решение отнести объект к области антропологии, то есть к этнографическому наследию, или же к области искусства; такое разделение относится не к свойствам самих объектов, скорее к тому, как и кем был определен их статус, с помощью каких средств они были обработаны и видоизменены, откуда и куда они были перевезены — к проблемам таксономии и классификации. В зависимости от важности, пользы или, главным образом, от общего объема пользовательских ценностей вещи возникают в качестве материальных значений, «семиофор» [58] (Кшиштоф Помян), или же участников (Ханс-Йорг Рейнбергер именовал их «эпистемологиками» [59]) производства знания, поскольку «образцы в некотором смысле разделяют материальность изучаемых фактов». Так, не только Бодрийяр, но и многие другие разработали новые термины и вещи-объекты при попытке описать систему мира «вещь — культура — потребитель», зафиксировать номенклатуру вещей [60]. Джеймс Клиффорд, например, ввел в обращение термин «современная система искусства-культуры» [61], обозначающий критический исторический подход к контекстуализации и валоризации «экзотических объектов» [62] на Западе. Он представляет собой идеологическую и институциональную систему, в которой описания искусства и культуры определяются проницаемыми и подвижными системами категоризации, то есть объекты объявляются либо произведениями искусства, либо артефактами, либо чем-то промежуточным в соответствии с историчностью, арт-рынком и музейной политикой, а также академическими и творческими дискурсами. Как уже отмечалось выше, все же можно сказать, что введенная Клиффордом система приписывания («машина для изготовления аутентичности») [63] объектов либо к категории (научных) культурных артефактов, либо к «эстетическим произведениям искусства» [64] на практике оказывается гораздо менее жесткой и цельной, чем в предложенной им схеме [65]. Контекстуализация, сингулярность и даже красота не могут стать однозначными критериями для определения, является ли объект произведением искусства или нет. И хотя Клиффорд признает это, его анализ взаимодействия между изменчивостью, институционализацией или фиксацией определенной атрибуции объекта остается неудовлетворительным. Кажется, будто Клиффорд предпочитает упустить из виду динамическую связь между артефактами — продуктами человеческих возможностей и артефактами, определяющими сами эти возможности. Мы также не должны рассчитывать на наступление эпохи постконцептуального искусства; среди истоков современного искусства не последнее место занимает знание о магической относительности артефактов (не только как инструментальных объектов), а также о силе мира вещей, знание, помогающее осмыслить, в часто произвольной, игривой, а иногда и мрачной форме, (не)естественные отношения, провести разделения по категориям. Три наших материала полностью посвящены проблематике этих процессов.
В интервью с кураторами выставки «Принцип Потоси» (The Potosí Principle) возникает вопрос о проблемах, связанных с попытками разработать выставочную политику, подходящую в равной степени для произведений искусства, религиозных и этнографических артефактов, особенно если они рассматриваются с позиций художественной практики в противоположность кураторским, институциональным и дисциплинарным. В этом интервью, на наш взгляд, также возникает вопрос о потенциальности искусства. Стремясь рассматривать вопрос художественного производства во взаимодействии с режимом труда и формой капитала, организаторы выставки Элис Крайшер, Андреас Зикманн и Макс Йорге Хиндерер приняли участие в обсуждении вопроса о праве собственности, которое в свою очередь породило множество конфликтов, подробно рассмотренных в ходе нашей дискуссии (см. Интервью с кураторами выставки «Принцип Потоси», посвященной перемещению колониальной живописи эпохи барокко между Европой и обеими Америками).
При взгляде на современных преемников этнографических музеев и художественных коллекций XIX — начала XX века стоит признать, что во многом были достигнуты перемены, и не в последнюю очередь благодаря критическому музееведению. В условиях постколониальной глобализации действия, способы демонстрации и культурный нарратив, с помощью которых другая «природа», «искусство» или другие «культуры» изображались в западных музеях в прошлом, уже не столь очевидны. Тем не менее, материальное наследство, коллекции и их истории, даже истории самих объектов, в том числе и их изъятие из бывших социальных, религиозных, культурных и политических контекстов, часто продолжают оставаться на месте и сегодня. И чем больше таких случаев, тем больше возрастает потребность в объяснении до тех пор, пока эти объекты в принципе могут быть вынесены на обсуждение. Но с какой точки зрения сегодня нужно рассматривать эти объекты, однажды собранные в качестве трофеев, «изъятые» в качестве источника знания или приписанные чему-то возвышенному — с точки зрения сохранения, науки, эстетики, туризма? Кем, в каком месте и при каких обстоятельствах они могут быть рассмотрены? И кто способен формировать эту точку зрения? Безусловно, в этом случае необходим междисциплинарный, разносторонний подход, пример которого приведен в статье Лотты Арндт («Следы забвения. Работы Сэмми Баложи: черепа в коллекциях европейских музеев»). Автор анализирует художественную составляющую двух историко-антропологических коллекций, что приводит ее в поле конфликта между искусством и исследованием. Это, в свою очередь, побуждает ее к дальнейшей дифференциации и к проведению собственного исследования содержимого коллекций.
Наконец, в статье Сьюзан Лееб потенциальность искусства подвергается более критическому анализу. Лееб тщательно изучает вопросы исходного момента, условий и экспериментальных конструкций в точке, где искусство должно предназначаться для умиротворения конфликтов, касающихся смысла объектов.
В своей статье она уделяет внимание проблеме привлечения художников в чрезвычайных случаях постколониальных конфликтов. Лееб задает вопрос, действительно ли искусство является подходящим каналом для внедрения стратегий присвоения и валоризации, которые, выходя за рамки вопросов собственности и контроля, способны объединяться с существующими альтернативными повседневными стратегиями, из чего могут возникать новые отношения к культурным объектам. Такие вызовы становятся все более распространенными сегодня, особенно в европейских этнографических музеях, чьи коллекции и традиции демонстрации теперь часто воспринимаются как «чувствительные» [66] («Современное искусство и/в/против/о Этнологическом музее»).
От «антропологического материала» к «человеческим останкам»: о несостоятельности категориального различия и потребности в новых переговорах
В своем хорошо известном тексте о культурной биографии вещей Игорь Копытофф [67] говорит о полярности индивидуализированных личностей и массовых вещей как о новой концепции мышления, поэтому неслучайно, что он противопоставляет эту современную западную концептуальную полярность рабству, которое с сегодняшней точки зрения гораздо чаще воспринимается как процесс порабощения. Хотя, как отмечает Копытофф, исследование имеет тенденцию к переходу от категории «продукта» к категории социальной и культурной трансформации и производства, именно эта процессуальность была в недавно предложенном концептуальном контексте почти лишена биографии и даже онтологизирована. Когда в 1896 году Королевский музей Берлина опубликовал инструкцию для сбора этнографического материала в Восточной Африке, призыв собирать «…насколько возможно полную коллекцию черепов… а также, по возможности, целые скелеты от каждого племени» появился в категории «антропологический материал» [68]. Это резко контрастирует с используемым ныне термином «человеческие останки», употребление которого указывает на попытку дистанцироваться от категории (культурного или биологического) сырья, материала, отмечает стремление уважать покой мертвых.
Когда 30 сентября 2011 года двадцать черепов в небольших коробках были переданы делегации из Намибии, говорилось не о репатриации тел, но о «человеческих останках», то есть речь шла об объектах (см.: Ларисса Фёрстер. Этих черепов недостаточно. Репатриация намибийских человеческих останков из Берлина в Виндхук в 2011 году). Для сравнения, передача останков Клаас и Троой Пиеннаар состоялась в Вене 19 апреля 2012 года. В культурном и правовом смысле они были репатриированы как тела. Их перевозили в гробах из Музея естествознания в Куруман (Северо-Капская провинция, ЮАР), где они были похоронены в августе 2012 года. Если бы в Вене предпочли говорить о «человеческих останках», то это событие не привлекло бы столько внимания со стороны общественности, на него было бы потрачено меньше денег, в конце концов, вопрос об уголовном преступлении возник бы не в столь явной форме.
Так, этот термин, особенно с междисциплинарной точки зрения, до сих пор сохраняет дискурсивный потенциал, и не в последнюю очередь в связи с вопросом о том, что именно — «количество», «качество» или «останки» — оправдывает разговор о «человеческих останках», а также необходимо ли (и если да, то как) устанавливать категориальное различие между человеческими и нечеловеческими реликвиями. Гораздо более всеобъемлющая концепция «чувствительных коллекций» включает в себя фиксацию (запись) человеческой внешности или голоса, а также посмертные макси, на которых могут быть найдены частицы «человеческих останков».
В дальнейшем на основании трех событий мы попытаемся привести различные примеры такой категоризации, перспективации и социальных установок: таким образом, мы предлагаем рассматривать эти примеры как определяющие моменты в процессе «становления человеческого». Отсылая к концепции Делёза о второстепенной политике становления, которая, безусловно, изменяет не только форму-субъект, но даже и само существо, и на пути которой стоит гуманизм и субъективизм, идея становления противоречит тому, что Франсуаза Вержес, например, называет «гуманитарным дискурсом», и тому, что очевидным образом связано с европейским аболиционизмом. Она блестяще владеет дискурсом о том, что «XIX век открыл эпоху любви в политике», которая «тесно связана с имперскими завоеваниями» [69]. Между тем, мы понимаем становление человека как часть «другого универсализма», не имеющего отношения к европейскому белому универсализму. Скорее, мы воспринимаем становление как часть множественности и проектов, направленных на борьбу за свободу и равенство [70].
При передаче в 2011 году два черепа можно было увидеть внутри упаковки из плексигласа, остальные были упакованы в картонные коробки. Этот факт был прокомментирован многими присутствующими: черепа «говорили», они эмоционально наполняли комнату и, казалось, определяли позиции присутствующих. Они даже выступали в качестве свидетелей: жестокость колониальных практик, войны и науки буквально «материализовалась» в них. Это ощущение не покидало присутствующих, даже при попытках объяснить его более самокритично и саморефлексивно — как простые личные проекции. Все это может звучать невероятно тривиально. В пограничном пространстве между научным материалом, свидетельством, личностью/телом колониальная (научная) практика легко поддавалась расшифровке, так как следы объективации и инвазивных процедур (метки и разрезы от пилы) были видны «на материале». Кроме того, эти «бывшие объекты», теперь вырванные из колониального контекста, воздействовали на окружающих благодаря их вновь обретенной неопределенности. Теперь они выступали в качестве объекта, субъекта, свидетеля, тела, национального культурного наследия, объекта памяти и скорби, образа тщеты существования и, опять же, в качестве научного объекта на стадии идентификации. При этой передаче, в то время как «вещность» была разрушена, возникла ситуация, в которой все присутствующие остро ощутили потребность в новых культурных (политических, правовых, научных, государственных, гуманистических) дискуссиях и решениях.
В 2012 году «Проект, посвященный человеческим останкам» клиники Шарите при Университете им. Гумбольдта разослал приглашение на междисциплинарный семинар на кафедре анатомии под названием «Собрание и хранение, исследование и возвращение: человеческие останки колониальной эпохи в академических и музейных коллекциях». Оно было адресовано историкам, судебным экспертам, этнологам, антропологам, студентам, юристам и т.д. Дискуссия проходила в атмосфере редкой открытости в отношении вопросов о статусе и форме обращения с бывшими научными объектами, которые так явно напоминают о расизме и ошибках ряда научных дисциплин. При обсуждении центральных вопросов о том, как определять, оценивать и соотносить различные методы идентификации — правовой, морфологической, инвазивной и исторической — и как обращаться с результатами исследований таких «чувствительных коллекций», неоднократно подчеркивалась необходимость привлечения всех научных дисциплин к их обсуждению. Тем не менее, вопрос о том, что делать с этими коллекциями, остается без ответа. К тому же, на семинаре не было представителей от сообществ бывших колоний.
В апреле 2013 года Немецкая музейная ассоциация опубликовала «Рекомендации по обращению с человеческими останками, находящимися в музеях и коллекциях» [71]. В соответствии с этими рекомендациями термин «человеческие останки» включает в себя все виды физических останков, относящихся к биологическому виду homo sapiens [72]. Еще с 1950-х годов музеи пытались выработать методы и практики, касающиеся обращения с человеческими останками, несмотря на то, что национальные директивы в отношении собственности и полномочий значительно различались. Только в 1990 году закон об охране могил коренных американцев и о репатриации (Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA)) — директива по репатриации человеческих останков и священных и культурных объектов потомкам или общинам — был подписан бывшими поселенческими колониями: США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией [73]. Несмотря на то, что необходимость срочно удовлетворить иски в странах так называемого первого мира усиливала потребность в принятии мер, европейские музеи впервые приступили к выполнению подобных обязательств только десять лет спустя. В случаях персонализированной репатриации, например, останков Саартже Баартамана, Эль Негро, короля Баду Бонсу II они позаботились о том, чтобы удовлетворение исков рассматривалось скорее в качестве «дипломатических актов» [74], а не как попытка дать ответ на вопрос, как поступать с богатыми коллекциями анонимных человеческих останков в их собраниях, а также с историей их приобретения [75].
Связи и форматы. Внутренние и внешние пространства
Если этот специальный выпуск является выражением нашего желания внести вклад в дискуссию о статусе объекта колониального происхождения (в Европе), включая культурные и художественные идеи и подходы, то нашей последней, но от этого не менее важной целью является тестирование и изобретение новых эстетических и социальных практик. Эти практики, разработанные и осмысленные в контексте нашего собственного культурного/художественного праксиса, направлены на упрощение формирования и пересмотр культурных обменов, возникших в ходе (немецких и европейских) колониальных проектов, в частности, коллекционирования археологических/этнографических объектов и появления современного искусства. Это не только вопрос критики. Мы считаем себя производителями культуры; выходя за рамки культурного анализа, мы формулируем предложения для культурных практик и стремимся разработать соответствующие аудиовизуальные и социально-культурные форматы демонстрации. Очевидно, что и наши собственные работы так же сильно зависят от обстоятельств и подчинены тем же процессам, бизнес-циклам и геополитической динамике, которые мы анализируем и критикуем. Поэтому в обеих частях нашего исследования «Постановка с артефактами: производство истории на Музейном острове в Берлине», Часть 1 и Часть 2 мы приводим свои доводы с умышленным использованием изобразительного материала. Результат визуального исследования заключается в том, что оно, оставаясь близким к акту видения, в то же время способствует «мыслящему» взгляду. Выбрав форму музейного тура, мы сосредоточились также на сочетании «упаковки и начинки» — взаимодействии между зданием музея, его местоположением (Берлин / Музейный остров) и артефактами, располагающимися внутри него. Часть 1 посвящена выставке пострадавших во время войны и недавно отреставрированных артефактов археологических раскопок в Тель Халафе. Истории артефактов также были представлены на выставке наряду с биографией Берлина и археолога Макса фон Оппенхайма. Часть 2 содержит исследование обмена, происходящего между зданием и артефактом в Новом музее на Музейном острове. Во время повторного открытия в 2009 году само здание музея воспринималось как выставленный на всеобщее обозрение артефакт. Во время реставрации с ним обращались как с артефактом, предназначенным для демонстрации, зритель сталкивался с практически всепоглощающей биографией здания, отражающейся в «искалеченных» поверхностях стен. В этом контексте даже упоминали «ранах»…
Поскольку мы, как было истолковано выше, являемся сторонниками активации объектного мира, мы прекрасно понимаем, что публичные церемонии открытия музеев после реконструкции, перемещения и т.д., ставшие в последнее время столь модными, также приводят артефакты в биографическое движение. Идея активации объектного мира в «диаспоре объектов» принадлежит не нам. Вполне возможно, это является частью общей музейной стратегии, имеющей целью увеличение числа посетителей. Кроме того, стоит отметить заметное увеличение количества этнологических коллекций в последние годы: Париж (Музей на набережной Бранли, Лувр), Франкфурт (Музей мировых культур), Кёльн (Музей мировых культур Раутенштраух-Жоэст), Лейпциг (Музей Грасси), Дрезден (Японский дворец. Этнологический музей — постоянная экспозиция находится сейчас на стадии формирования) — и это далеко не все. Не менее важны все запланированные перемещения коллекций в Форум Гумбольдта. Когда мы говорим об «упаковке и начинке», мы отмечаем не только важность перемещения артефактов, но и важность определения географии дискурсов, которые сопровождают их движение. Важно не упустить или не потерять артефакты из виду, помочь вещам обрести новую «социальную жизнь» [76] (Арджун Аппадураи и Игорь Копытофф). Поскольку Берлин и его специфическая ситуация являются для нас отправной точкой, особенно важно выявить соображения, имеющие отношение к транснациональной, а также пост- и деколониальной дискуссии. То, что наша работа включает в себя различные форматы, в то числе медиа, не только результат нашего опыта работы в творческой сфере и/или визуальных исследований, но также нашего желания использовать возможности интернет-СМИ, чтобы напрямую связать нашу работу с группами и источниками, являющимися составной частью наших уже существующих или зарождающихся работ, а также с социальными сетями по интересам. Здесь наша цель заключается в увеличении области взаимосвязей до активации процессуальности и праксиологии, связей и соединений.
Этот журнал был бы невозможен без поддержки многих людей. Мы хотим выразить благодарность не только авторам и интервьюируемым, но и нашим коллегам и друзьям за вдохновение, великодушие и терпение.
Матей Беллу, членам bétonsalon и семинара «Под свободным небом истории», Эмили Бужес, Аннике Бутц, Стефану Айзенхоферу из Этнологического музея Мюнхена, Ансельму Франке, Соне Уэлер из Дома мировых культур, Ульрике Хаманн, Тобиасу Герингу (Берлинский кинофестиваль globale), Мальте Ягуттис, Рейнхарту Кесслеру, Клеменс Круммель, Биргит Менель, Стефану Новотны и Джеральду Раунигу из института eipcp, Димитрису Пападопулосу, Энн Шплеттстосер, Хольгеру Стокеру, Василис С. Цианос, Даниэлю Вайсу, Риккардо Зито и Александре Илиевой, Филиппу Цолльсу.
Примечания
40. Baudrillard J. The System of Objects. L.:Verso, 2005. P. 92 and 91: «То, чем владеешь, всегда является объектом, отделенным от своей функции и таким образом вступившим в отношения с субъектом».
41. Цит. по: Strehle S. Zur Aktualität von Jean Baudrillard. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007. P. 157.
42. См. ссылку 13.
43. Хорошее вступление и дискуссия о проблеме международного законодательства по вопросам реституций см.: Arndt L. Réflexions sur le renversement de la charge de la preuve comme levier post-colonial / Thoughts on the Reversal of the Burden of Proof as a Postcolonial Lever // The brochure of Bétonsalon BS. No. 12 (exhibition One caption hides another), 11/2011–01/2012. P. 12–19, скачать по: http://betonsalon.net/PDF/BS12_BETONSALONFINALLIGHT.pdf
44. Mbembe A. Necropolitics // Public Culture. Vol. 15. No. 1. 2003. P. 11–40, here 23 and 25.
45. О краже тел и похищении сабинянок в контексте дискуссии о современном суверенитете см.: Papadopoulos D. and Tsianos V.S. How to do Sovereignty without People. The Subjectless Condition of Postliberal Power // Boundary 2: International Journal of Literature and Culture. Vol. 34. No. 1. 2007. P. 135–172; Singh P. Stolen Bodies and Ravished Souls: Sikh Experience Meets Colonial Power // Sikh Formations: Religion, Culture, Theory. Vol. 5. No. 2. 2009. P. 103–113.
46. Papadopoulos D., Stephenson N., Tsianos V.S. Escape Routes: Control and Subversion in the 21st Century. L.: Pluto Press, 2008. P. 56, 65.
47. Colla E. Conflicted Antiquities. Egyptology, Egyptomania, Egyptian Modernity. L., 2007.
48. См.: Kopytoff I. The Cultural Life of Things: Commoditization as process // The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective / Ed. A. Appadurai. Cambridge, 1986. P. 64–91.
49. Colla. 2007 (см. ссылку 47). P. 29.
50. Ibid. Ссылка 51. P. 288.
51. Ibid. Ссылка 64. P. 65.
52. Ibid. P. 60.
53. Heesen A. te. Theorien des Museums. Zur Einführung. Hamburg: Junius Verlag, 2012. P. 61 ff.
54. Fabian J. Curios and Curiosity. Notes on Reading Torday and Frobenius // The Scramble for Art in Central Africa / Eds. E. Schildkrout, C.A. Keim. Cambridge University Press, 1998. P. 79–108, here 99; Fabian J. Im Tropenfieber. Out of Our Minds, Berkeley, 2000. München: Beck, 2001. P. 257.
55. См.: Sarreiter R. Ich glaube, dass die Hälfte Ihres Museums gestohlen ist / A. Hoffmann, B. Lange, R. Sarreiter (eds.). Was Wir Sehen. Bilder, Stimmen, Rauschen. Zur Kritik anthropometrischen Sammelns. Basel: Basler Afrikabibliographien, 2012. P. 43–58.
56. Königliche Museen zu Berlin, Anleitung zum Ethnologischen Beobachten und Sammeln. Berlin: Reimer, 1914. P. 9.
57. Luschan F. von. Die Altertümer von Benin, Band. Berlin; Leipzig: Georg Reimer, 1919. IX. Online: http://www.about-africa.de/buecher/AltertuemerVonBeninBand1/slides/zz-lusc20,s.548.htm
58. Pomian K. Collectors and Curiosities. Paris and Venice, 1500–1800. Cambridge: Polity, 1990.
59. Rheinberger H.-J. Epistemologica: Präparate // Dingwelten. Das Museum als Erkenntnisort / Eds. A. te Heesen & D. Lutz. Schriften des Deutschen Hygiene-Museums Dresden. Vol. 4. Cologne, 2005. P. 65–76.
60. Нововведение о «нематериальном культурном наследии» (термин, введенный ЮНЕСКО), безусловно, имеет важное значение для обсуждаемых здесь проблем, но выходит за рамки данной статьи.
61. Clifford J. On Collecting Art and Culture // Ibid. The Predicament of Culture. Twentieth Century Ethnography, Literature, and Art. Cambridge/London: Harvard University Press, 1988. P. 215–251, here 223. Доступна онлайн: http://pages.ucsd.edu/~bgoldfarb/cocu108/data/texts/Clifford_on_collec.pdf
62. Ibid. P. 215.
63. Ibid. P. 224.
64. Ibid. P. 222.
65. В четвертой части эссе «О собирании коллекций искусства и культуры» Клиффорд, столкнувшись с тем, что система искусства-культуры становилась все более устаревшей из-за растущей глобализации, в конце концов, в качестве альтернативы предлагает современное туземное понятие времени. C нашей точки зрения, это сопряжено с риском восстановления дихотомии и сильно задерживает обеспечение взаимозависимости колонизатора и колонизируемого, хотя Хоми Бхабха определяющим фактором считал «местоположение культуры».
66. См.: M. Berner, A. Hoffmann and B. Lange (eds.). Sensible Sammlungen. Aus dem anthropologischen Depot. Hamburg, 2011.
67. См.: Kopytoff. 1986 (ссылка 48).
68. Königliche Museen zu Berlin, Instruktion für ethnographische Beobachtung und Sammlungen in Deutsch-Ostafrika. Heft 2. Berlin, 1896. P. 29.
69. Vergès F. The Age of Love // Transformation. No. 47. 2001. P. 1–17, here 2; скачать: http://www.transformation.ukzn.ac.za/index.php/transformation/article/view/838/653
70. Tsianos V.S. and Mulot T. Universelle Menschheit. Vom porösen Raum der Wissensproduktion готовится к публикации в: Sozial.Geschichte Online, http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/go/sozial.geschichte-online
71. В соответствии с «Рекомендациями по обращению с человеческими останками в музеях и коллекциях», опубликованными недавно (апрель 2013 года) Немецкой ассоциацией музеев, человеческие останки включают в себя «все обработанные, необработанные и сохраненные формы человеческих тел или его частей. Сюда входят: отдельные кости, мумии, мягкие ткани, органы, части тканей, эмбрионы, утробный плод, кожа, волосы, ногти, пальцы рук и пальцы ног (даже если они были взяты у живых людей) и останки кремированных людей. А также все ритуальные объекты, с которыми человеческие останки были намеренно соединены. Сюда не входят: модели человеческих тел или частей тела, посмертные маски, аудиозаписи человеческих голосов, антропологические фотографии, ритуальные объекты, ранее связанные с человеческими останками, например погребальные дары». См: http://www.museumsbund.de/fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/2013__Recommendations_for_the_Care_of_Human_Remains.pdf
72. Ibid.
73. Bouquet M. Museums. A Visual Anthropology. L.; N.Y.: Berg, 2012. P. 153.
74. Ibid. P. 155.
75. Сейчас в Берлине предпринимаются попытки перемещения коллекций «человеческих останков» из Фонда прусского культурного наследия (SPK) в другую организацию — Берлинскую ассоциацию антропологии, этнологии и изучения доисторической эпохи (BGAEU). После того, как вышеупомянутая передача «человеческих останков» в 2011 году привлекла общественное внимание, вызвав вопросы об их сомнительном статусе как объектов музейной коллекции и став причиной возникновения идеи о реституции, действия SPK могут быть восприняты только как попытка избавиться от этих «чувствительных коллекций» и, таким образом, избежать ситуаций, в которых может возникнуть вопрос о реституциях. С нашей точки зрения, необходим критический взгляд на эти перемещения по нескольким причинам: как частная независимая ассоциация BGAEU находится в менее подчиненном положении по сравнению с государственной коллекцией в случае возможных реституционных исков. Черепа будут перемещены, но документация останется в прежнем месте, в SPK, что в случае реституционного иска станет серьезным препятствием для выяснения происхождения в целях идентификации. Такое перемещение коллекции происходит в обстановке секретности при полном исключении общественности из процесса.
76. См. ссылку 48.
Источник: Darkmatter
Читать также
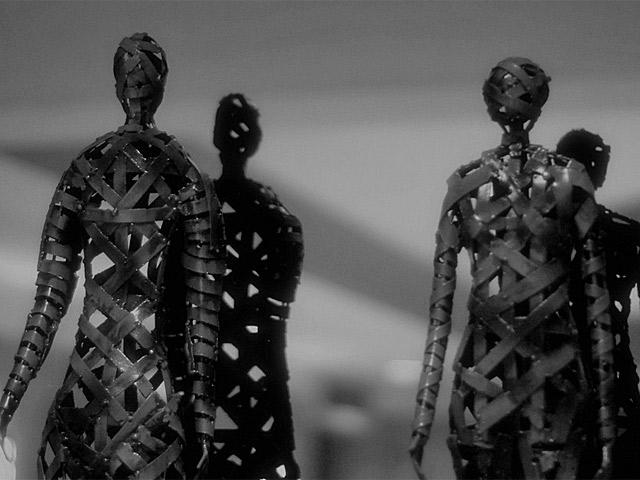




Комментарии