Арье Хело
Порывая с прогрессивной историей: прошлое и политика в американистике
Политическое употребление истории: инерция повествовательных схем?
 2 280
2 280 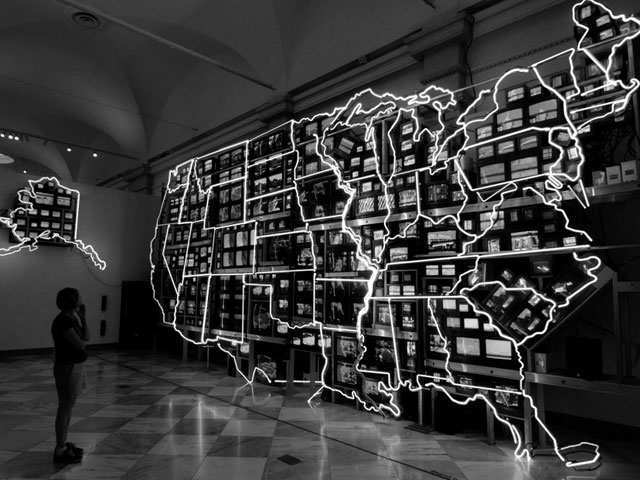
© The Q Speaks
Введение [1]
Мы ставим целью доказать, что вопреки широко распространенному среди американских ученых мнению, прогрессивистский взгляд на историю не является ни необходимым, ни полезным в исторических исследованиях по американистике — как во всех остальных областях историографии. Идея прогресса постоянно мелькает в высказываниях на публику высших должностных лиц США об истории. В своем инаугурационном обращении в 2009 году президент Барак Обама говорил о «тихой силе прогресса на протяжении всей нашей истории», действие которой он приписал «усердному труду и честности, храбрости и справедливости, терпимости и любопытству, верности и патриотизму» американского народа. Говоря о настоящем, он добавлял: «Нам нужно только вернуться к этим истинам» [2]. Но можно ли прогресс, требующий возврата к прошлому, назвать прогрессом в смысле подлинных новаций на арене истории? Призыв к общему возрождению ценностей больше смахивает на циклический взгляд на историю.
В своем втором инаугурационном обращении в 2005 году президент Джордж Буш высказал еще более определенное мнение об истории. По его словам, «история имеет взлеты и падения правосудия, но у истории также есть явное направление, заданное свободой и дарующее людям свободу» [3]. В отличие от многих профессиональных историков, оба президента, похоже, непоколебимо уверены в своем понимании истории. Историки лишь иногда прибегают к такого рода идеям, немалое число их старается не рассматривать историю в прогрессивистских терминах, не говоря уже о том, чтобы утверждать, что направление истории задано «свободой». Очень немногие предполагали бы, что история имеет явное направление. И совсем маловероятно, чтобы профессиональный историк утверждал, будто есть некий сверхчеловек — «творец» истории, будь он автором свободы, тирании или чего-либо еще. Автор истории — это всегда историк.
Куда же нам обратиться, чтобы отыскать корни президентского видения прогресса истории, которая имеет «явное направление», но все же время от времени требует «возврата к прошлому»? Еще до своего прихода в Овальный кабинет избранный, но еще не вступивший в должность президент Обама был раскритикован за нежелание поощрять какие бы то ни было усилия для проведения законного расследования деятельности администрации Буша. «Нам нужно смотреть вперед, а не назад», — заявил Обама [4]. Эта классическая прогрессивистская идея о том, чтобы смотреть вперед, а не назад, также немного не вяжется с его призывом к возврату к прошлому. Известно, что президент Кеннеди говорил о том, чтобы смотреть вперед, а не назад. Томас Джефферсон утверждал, что федералистские «фанатики в религии и правительстве» были людьми, считавшими, что «мы должны смотреть назад, а не вперед ради совершенствования человеческого сознания» [5]. В 1800 году, когда Джефферсон был избран третьим президентом США и его партия демократических республиканцев получила большинство в обеих палатах Конгресса, он заявил: «Мы не можем больше говорить, что под солнцем нет ничего нового» [6]. По крайней мере, для Джефферсона история не просто повторялась.
Но здесь есть одна проблема: фундаментальное американское стремление смотреть вперед легко смешивает политику с расхожей концепцией прогресса. Если Буш и Обама разделяют веру в исторический прогресс, как же получается, что они приходят к столь разным выводам о лучших политиках будущего? В действительности, закоренелые консерваторы так же «ориентированы на будущее», как и самопровозглашенные прогрессивисты, поскольку они жаждут возвращения старых времен в будущем. Прогресс политика — это всегда попытка получить контроль над будущим; идеологический детерминизм здесь может либо присутствовать, либо вовсе не иметь места. Сколь бы полезной ни была идея прогрессивной истории для самих политических лидеров, стремящихся претворить в жизнь политические программы под прикрытием бессмертного идеала — «воли», она не подходит для исторического исследования. В конечном счете, приверженность идее прогресса человечества нужно четко отделять от исторической дисциплины, направленной на обретение знания о прошлом.
Далее я рассмотрю фундаментальные аспекты различий между политикой, смотрящей вперед, и историей как научной дисциплиной, обращенной назад. Сначала я рассматриваю, как конкретную идею можно рассматривать как развивающуюся с течением времени. Затем показываю, как американское политическое самопонимание развилось из идеалов эпохи отцов-основателей США. Далее я отмечаю некоторые методологические проблемы, присущие стандартному идеалу американоведения как междисциплинарной области исследований. И, наконец, я выдвигаю предположение, что, если нам необходимо достичь более четкого понимания различий между политикой и историей, мы должны отбросить неоправданно демонизированное понимание власти и политики в исследованиях культуры. Тезис мой прост: мы не научимся хорошо исследовать историю, пока интеллектуально мы не видим в истории ничего кроме прогресса. Позвольте мне подчеркнуть на этом раннем этапе, что ученые, которых я критикую, — Джойс Эпплби, Алан Трахтенберг, Гордон Вуд, Майкл Цукерт и другие — также являются теми, кого я больше всего ценю. Я не соглашаюсь с ними в конкретных моментах, но не в отношении общей ценности их трудов.
Идеи в истории
Знаменитый критический разбор Брюса Каклика в 1972 году т.н. «символической школы американоведения» — представленной, в первую очередь, Генри Нэшем Смитом, Лео Марксом и Аланом Трахтенбергом — отталкивался от их очевидно анахронистического способа писать историю. Он назвал это «презентизм», под которым подразумевал «интерпретирование прошлого в идеях, применимых только к настоящему» [7]. По мнению Каклика, эти основатели американоведения слишком часто считали, что их исторические протагонисты предвосхищали «наступающую моду в мыслях и чувствах». В «Девственной земле» Смита (Virgin Land, 1951), например, великая идея превращения пустыни в сад «вскрывается в зародыше» в трудах многочисленных исторических деятелей, которые просто недостаточно созрели, чтобы в полной мере ее выражать. Смит утверждал, что Карлейль в своих работах предвосхитил постфрейдистское отчуждение. Это заставляет Каклика задаваться вопросом: можно ли представить себе, чтобы известный писатель, сидя за своим письменным столом, мог действительно подумать что-то вроде: «В этой работе я хочу предвосхитить постфрейдистскую версию отчуждения» [8]. Основная ошибка, утверждает Каклик, была в том, чтобы отстаивать абсолютно неисторическую точку зрения на ту или иную великую идею как якобы ключевой момент американской культуры.
Справедлива критика Каклика или нет, примечательно, что исследование Смита определенно сослужит нам добрую службу, ясно дав понять, что вхождение темы покорения Дикого Запада в массовую культуру сопутствовало самому его покорению. Что касается «Машины в саду» Лео Маркса (Machine in the Garden, 1964), Каклик обращает внимание на то, что автор делает заявления вроде: «“Буря” (The Tempest) предвосхищает моральную географию американского воображения». Уже Говард Сигал (не без опоры на критику Каклика) замечает, что на самом деле «историческое» утверждение Лео Маркса состояло в том, что еще задолго до конца XX века все пасторальные идеалы превратились в пустое проливание слез. Но сам Сигал ухитряется находить несколько намного более поздних применений этой идеи в XX веке [9].
О таких крупномасштабных интерпретациях мировой истории, как работы Смита или Маркса, следует заметить следующее: подразумевается ли, что идея остается одной и той же, если ее реализация претерпевает изменения вследствие постоянно меняющихся обстоятельств (или вопреки им)? Это ключевая проблема всех исторически ориентированных исследований культуры [10]. Позвольте мне далее проиллюстрировать эту проблему при помощи священного в США тезиса «основания Америки» как главного примера того, как благими прогрессивными идеями подчас злоупотребляют в историческом мышлении.
Вернемся ненадолго к президентам Бушу и Обаме: они единодушны не только во мнении, что история имеет дело с прогрессом, но и в отношении важности наследия отцов-основателей. «Со дня нашего основания, — провозгласил Буш, — мы заявляем, что каждый мужчина и каждая женщина на этой земле имеют права, достоинство и непревзойденную ценность», и «продвижение этих идеалов — миссия, создавшая нашу нацию». По словам Обамы, «наши отцы-основатели… написали Хартию, чтобы гарантировать власть закона и право человека — хартия расширилась кровью поколений. Эти идеалы по-прежнему освещают мир, и мы не откажемся от них ради каких-то практических соображений».
Поскольку практически каждый американский президент — по меньшей мере, начиная с обращения Абрахама Линкольна в Геттисберге — взывал к идеалам «основания Америки», стоит спросить, о какой именно серии событий они говорят? Если в двух словах, то священная мифология Основания отсылает к поколению отцов-основателей, которые первыми поставили свои подписи — в виде Декларации независимости 1776 года — под идеей, что все люди равны и наделены одинаковыми естественными правами, а затем увековечили эту идею в Конституции 1787 года в виде первых поправок, принимаемых в 1791 году. Этот американский Билль о правах обещал гражданам, что федеральное правительство никогда не ограничит свободу слова, свободу собраний и религиозную свободу. Таким образом, мы приходим к небезосновательной мысли об Америке как государстве со свободами, гарантированными конституционно, а не политически. Такая «аполитичная» природа основания США более чем знаменательна. Посему-то такие разные политики, как Буш и Обама, могут говорить о ней совершенно одинаково [11].
Действительно, даже беглый взгляд на ранние тексты об истории Америки вне всяких ожиданий позволяет уловить неодобрительное отношение к понятию политики всякий раз, когда речь заходит о ключевых проблемах эпохи отцов-основателей. Политический мыслитель Джудит Шкляр, например, в свое время утверждала, что, согласно Конституции, «переговоры заменяют собой суматоху народных собраний, поскольку порядок и свобода согласованы дополитически» [12]. Если порядок и свобода согласовываются в Конституции дополитически, то как следует понимать попытки Томаса Джефферсона убедить Джеймса Мэдисона включить в нее Билль о правах или его в борьбу с Гамильтоном и Адамсом за правильную интерпретацию документа? Неужели его действия были постполитическими по своему характеру?
При более детальном рассмотрении Джефферсон, верховный жрец идеи минимального управления, представляется в целом индифферентным к самой идее «политики». По словам историка Гордона Вуда, «джефферсоновская современная добродетель», которая «вытекает из участия гражданина в обществе, а не в управлении», — должна быть отделена от «участия в политике» [13]. Взгляды Джефферсона выглядят крайне современными в том, что они антиправительственные, если не антиполитические, — будто бы «участие граждан в обществе» не имеет ничего общего с понятием политики.
В легендарном ревизионистском анализе джефферсоновской эпохи «Капитализм и новый социальный порядок» Джойс Эпплби (Capitalism and a New Social Order, 1984) устремленные в будущее джефферссоновские либералы имели своей целью ни больше ни меньше как «уход от политики» [14]. Джефферсоновское видение общества свободного рынка должно было быть воплощено в жизнь в варианте, который превосходил даже самые смелые фантазии его учеников. Последователи Джефферсона, вопреки своим собственным идеалам, не только оставались рабовладельцами, но и не могли предвидеть проблемы, к которым неминуемо должны были привести их экономические идеалы о невмешательстве государства с подъемом монополистического капитализма к концу XIX века. В конечном счете, как апологеты «идеологии белых мужчин» отцы-основатели не смогли осознать, что политические права женщин составляют логический элемент этой идеологии [15]. Эпплби просто говорит, что даже если отцы-основатели и не смогли этого осуществить, то американская история воплотила эту идею в том виде, какой она на самом деле была задумана.
Разве это не близко к утверждению о том, что есть скрытое американское желание воплотить в жизнь настоящий джефферсоновский дух и что все значимые исторические фигуры каким-то образом пытались выразить его — неважно, получилось у них это или нет. Другими словами, Эпплби может примкнуть к команде Генри Нэша Смита, Лео Маркса и других, которые считают, что их противники постоянно предвосхищают «надвигающуюся моду в мыслях и чувствах» [16].
Идеология вечного возвращения
Существуют еще более откровенные идеологические способы утверждать, что американская история — это не что иное, как постепенное воплощение идеалов эпохи отцов-основателей. Красноречивый пример — это прочтение Декларации независимости Майклом Цукертом. В его интерпретации общая идея Декларации может быть выведена из дополитического понимания всеобщих прав человека Локка. На самом деле, прочтение Цукерта маргинализирует все более раннее и позднее историческое развитие как не имеющее отношения к истинному характеру американского общественного договора, который этот священный документ якобы воплощает. Нам предлагается схема, которая говорит о политическом опыте, но, в основном, призвана доказать, сколь мало значит политическая история.
Чтобы понять это обвинение, позвольте мне процитировать интригующее заявление Цукерта: «Декларация представляет собой не буквальную или эмпирическую историю, а историю моральную». Эта исключительно концептуальная история основывается на единственной истине о том, что «все люди созданы равными» [17]. Что касается истоков этой истины, Цукерт ссылается на известную концепцию Локка о естественном состоянии как предшествующем любому представимому социальному порядку среди людей. Набросав «серию из шести истин» Декларации независимости как «некоего мини-исторического рассказа о политическом опыте человеческого рода», он представляет нам «три фазы» общества и «соответствующие истины» в такой сводной таблице [18]:
| Дополитическая [фаза] | Все люди равны | и наделены определенными неотъемлемыми правами |
| Политическая [фаза] | Правительства созданы, чтобы обеспечивать эти права, | черпая свою обоснованную власть из согласия тех, кем оно правит |
| Постполитическая [фаза] | Если правительство будет негативно воздействовать на эти цели, есть право сменить или устранить его | и создать новое правительство |
Из этого набора истин Цукерт делает вывод, что «ни Бог, ни природа не устанавливали правила среди людей; они сделали это сами. Люди, другими словами, не являются политичными по природе» [19]. Люди по своей сути являются обладателями прав человека и потому естественно равными. Все неравенство между ними возникает из искусственных структур власти.
Ключ к «изложению политического опыта человеческой расы» Цукерта — это не очевидная связь между разными фазами политического опыта, наоборот, ключ — это правильный порядок трех истин: что придает значение второй, «политической» фазе — именно, что она состоит из общего согласия людей с первой, «дополитической» истиной о том, что все люди равны. Поэтому третья истина о создании нового правительства может оцениваться не как политическое, а как «постполитическое» действие. Другими словами, значимое изменение в «моральной истории» Цукерта неизбежно вызывает к жизни революцию. «Обычная политика» просто исчезает из этого этически заряженного изложения политического опыта: ведь ни одно в узком смысле политическое изменение не может вызвать постполитическую революцию. Поскольку первый общественный договор был заключен в 1776 году, последующая американская история автоматически теряет свою значимость, становясь лишь развернутым выражением этого договора.
Что касается манеры Цукерта упорядочивать «очевидные истины», то мы должны спросить, правильно ли понимали это сами основатели. Для подобной интерпретации документа Цукерт должен раскритиковать его формулировки. Вот как он объясняет этот слабый момент: «Очевидные истины о смене или упразднении правительства вытекают из истин об учреждении и роспуске правительств и поэтому не могут быть действительно очевидными» [20]. Ошибка, по мнению Цукерта, заключается в том, что революционеры, вероятно, поставили знак равенства между истиной Локка о дополитическом равенстве людей и правом изменять или упразднять любые правительства, ошибочно считая последнее таким же самоочевидным тезисом, а не результатом первого утверждения.
Ни сам документ, ни первоначальный черновик Джефферсона не представляют «самоочевидные» (или неоспоримые, как в первоначальном варианте) истины как аполитичные. Еще один способ интерпретации документа заключается в том, что правительства были основаны для обеспечения равных прав всем людям и что проблема лежит в несогласии революционеров с британцами по поводу средств гарантировать эти права. Документ начинается с выражения желания объяснить всему свету причины разорвать правительственные связи с британцами и основать свое правительство заново. Из этого следует, что притязания революционеров на независимость не появились в аполитичном вакууме доисторических истин. Джеймс Мэдисон, например, считал так называемое дополитическое естественное состояние не чем иным, как чистой анархией, «где слабейшие не были защищены от насилия со стороны сильнейших» и где «даже сильнейшие были вынуждены — вследствие неустойчивости своего положения — подчиняться правительству» [21].
По мнению Цукерта, Декларация независимости — это настоящий «большой взрыв» во вселенной политики: но только как следствие дополитического равенства людей. А если даже право на насильственную революцию проистекает из дополитической фазы Локка, то промежуточная категория «политического» представляет собой мирный возврат к той же дополитической фазе безоговорочного равенства людей. Политическая история — как последовательность таких событий, как выборы, дебаты, скандалы с коррупцией, смены правительства и тому подобное, — является абсолютно бессмысленной по сравнению с этой великой идеей возвращения. Именно поэтому категория политики Цукерта не имеет на самом деле ничего общего с тем, что на самом деле люди делают в политике! Она только еще раз подчеркивает приверженность первой дополитической истине Локка. Единственное по-настоящему значимое событие, с которым люди сталкиваются во вселенной политического опыта Цукерта, — это революция Локка.
Несмотря на то что Цукерт кажется бескомпромиссным сторонником доктрины свободы воли, равенство для него заключается в нашей сущности субъектов права и более ни в чем. Он, например, утверждает, что «ни один человек, который понимает собственность, как Джефферсон, не принял бы позитивное право на жизнь». Этот якобы джефферсоновский взгляд на право собственности выведен из первой истины Локка: о равенстве под единственным условием, что мы не можем вмешиваться в существование другого человека как владельца собственности. В конечном счете наше фундаментальное моральное обязательство — это обязательство невмешательства, потому что «только отрицательное право на жизнь может пройти испытание на то, чтобы стать правом в истинном смысле слова» [22]. В своем основании вся морально релевантная история состоит из нашей постоянной приверженности этой либертарианской истине невмешательства государства. Очевидная историографическая проблема в схеме Цукерта заключается в том, что вся человеческая история до американской революции сводится к обычной предыстории «политического опыта», потому что дополитическая истина еще не была осознана. И все же любое постреволюционное событие, видимо, в равной степени зависит от этой истины и поэтому является столь же незначимым. Как было указано ранее, «политическая» фаза состоит исключительно из продолжительного провозглашения первой, дополитической истины.
Недвусмысленный идеологический подтекст всего этого заключается в том, что даже переход от администрации Буша к администрации Обамы кажется просто изменением состава правительства, чьей единственной задачей является продолжающаяся манифестация великого возвращения к дополитической фазе равенства человечества. Аналогичным образом повседневная политика начинает казаться патетической борьбой за государственную власть, а политики, профессиональная болезнь которых — предлагать новый политический курс, начинают казаться враждебным племенем коррумпированных охотников за должностью, прибравших к рукам национальный капитал. Из этой концепции политики возвращения Цукерта нет выхода, потому что нет ничего столь же важного, чтобы соперничать с ней. Подводя итог, фундаментальная ошибка этой концепции политики заключается в том, что никто не может выявить ни одного значимого различия между реальной политикой администраций Буша и Обамы.
Схема общественного договора Локка кажется стандартом, обращающимся скорее к прошлому, чем к будущему, чтобы объяснить значимые перемены в американской истории. Тем не менее, именно «прогрессивные», а не регрессивные историки склонны видеть великую национальную идею в провозглашении равенства людей. Мы всегда можем сконструировать эту идею, основываясь на таких явлениях, как освобождение рабов, избирательные права женщин, законодательство о гражданских правах 1960-х годов и избрание Барака Обамы в президенты. С другой стороны, можно подумать над утверждением Джозефа Дж. Эллиса о том, что «именно полный пересмотр Линкольном первоначальной джефферсоновской версии философии о естественных правах расширил ее смысл и включил в нее чернокожее население» [23]. Подобный пересмотр вряд ли был философским. Скорее, принцип равенства людей был «национальным» (national) в том смысле, что все американцы мужского пола получили, по меньшей мере на словах, равные политические права. 150 лет расовой сегрегации, которые последовали за Гражданской войной, были всего лишь еще одним печальным промежуточным периодом до тех пор, пока Движение за гражданские права в 1960-х не принесло нового витка возврата к дополитической истине о равенстве людей Локка. Почему же борьба женщин за равные избирательные права не смогла стать еще одним доказательством этого очевидно неизбежного американского прогресса в провозглашении локковской истины? В метком резюме историка Дэниэла Роджерса либеральная школа Локка могла аннулировать любое другое конкурирующее прочтение американской истории, просто «подняв определение значимого конфликта до уровня, где любая воспринимаемая демонстрация конфликта за исключением якобинской и большевистской революций растворялась бы в вездесущем либеральном консенсусе» [24].
Даже прогрессивные историки расходятся во мнении относительно того, следует ли рассматривать инициативы Теодора Рузвельта в отношении общегосударственной медицинской страховки как предвещающие реформы здравоохранения и системы социального обеспечения, продвигаемые Франклином Рузвельтом, Линдоном В. Джонсоном, Биллом Клинтоном и Бараком Обамой. Отвечая на этот вызов, каждый историк — независимо от своих собственных политических взглядов — обязательно сталкивается с вопросом, а что на самом деле относится к сфере так называемых «дополитических» прав человека. Следовательно, нам также придется столкнуться с исторической вариативностью понятия прогресса как такового.
Написание истории сегодня
В своей недавней статье «История Америки в глобальную эру» (American History in a Global Age) Иоганн М. Ним считает, что задача национальной истории — быть основой для «идентичности человека». Нечего и говорить, что глобализация и формирование идентичности — любимые темы американистики, а также культурологии в целом. Ним также считает очевидным, что, «по мнению отцов-основателей, нация должна воплощать универсальные ценности» [25]. Но в какой степени американцы сумели прояснить для себя содержание этих «универсальных ценностей»? Например, во время президентских выборов 2000 года кандидат на пост вице-президента Джозеф Либерман продолжал утверждать, что первые поправки к Конституции не имеют ничего общего со «свободой от религии» [26].
Есть два замечания относительно попытки Нима связать написание национальной истории с темами глобализации и формирования идентичности. Во-первых, интересно, что для многих историков смерть великой национальной идеи, о которой уже давно говорят, кажется, не имеет ничего общего с их приверженностью великой идее глобализации. Проблема принятия глобализации как общего знаменателя для хорошего написания истории похожа на проблему, сопутствующую основанию Америки. Любой критерий, подобный мультикультурализму, может оказать влияние на то, что именно следует помнить. Проявляют ли себя основополагающие принципы Америки, скажем, в действиях по десегрегации общественного образования в 1950-е годы больше, чем в политике закрытия всех государственных школ в Вирджинии для того, чтобы остановить этот процесс? Разумеется, обе стороны конфликта могут ссылаться на традиционные понятия, что именно значит жить по стандартам отцов-основателей Америки.
Во-вторых, можно усомниться в том, что вклад историка в формирование идентичности личности является надлежащим критерием для серьезного исторического исследования. Является ли идентичность настолько же важной для самоопределения каждого человека? В теоретической литературе «основная идентичность» часто идет рядом с «ситуационной идентичностью» [27]. Более того, следует задать вопрос, неужели человек не может относительно комфортно жить где-то посередине, между своими повседневными «ролевыми идентичностями», скажем как ученый-американист, финский преподаватель университета, член партии, родитель, любовник, кофеман, фанат Элвиса и так далее?
В этом контексте следует задуматься, какие инструменты может предложить американская история для формирования подлинной межкультурной идентичности. Известный памфлет Селадона 1785 года часто называют кратким резюме мультикультурных убеждений революционного поколения. В памфлете говорится о будущей Америке, разделенной на «Нигранию», «Саважению», французское, испанское, голландское, ирландское, английское и — таки да, еврейское государство в контексте того, что «все они воссоединились в братской любви» и образовали «самую могучую империю на земле» [28].
Или подумайте о критериях, с помощью которых ученый-американист может определить конструктивное формирование идентичности. В своей статье 2001 года «Благосостояние как политика личности» (Welfare as Identity Politics) Джейн Шеррон де Харт утверждает следующее: обращаясь к проблеме усиливающейся зависимости разных поколений от социальной помощи, президент Рональд Рейган ссылался на образ «королевы вэлфера», но сознательно избегал акцентирования расового аспекта этой проблемы. По мнению Де Харт, это было потому, что «мы-то все знали: она черная». Здесь Де Харт критикует политика просто за то, что он политичен. Ее мысль уместна и в более крупном масштабе: американскую идею о социальной поддержке с 1960 года до принятия Закона о реформе системы социального обеспечения в 1996 году изменило то, что для большинства политиков настоящего времени «проблемой была культура, а не структура» [29].
И это еще один вопрос: помогает ли попытка Де Харт контекстуализировать эту перемену в терминах повсеместных националистических идей об этническом гражданстве понять это изменение? Ее высказывание о том, что иммиграционные законы в конце XX века были нацелены на то, чтобы «особо выделить общее наследие национальной семьи», опасно близко к типичной ошибке, что якобы равенство людей в любом политически релевантном смысле можно описать метафорой семьи. Современная демократия репрезентативна по определению. Целые группы людей по-прежнему лишены политического равенства даже в Америке: например, дети и душевнобольные. Младенцы исключены из числа избирателей; а все, кто включены, отвечают еще и за тех, кто исключен.
Методология и контекстуализация
Самая распространенная ошибка в исторически ориентированных исследованиях американистики (как и в других подобных дисциплинах) — это предположение, что простой здравый смысл поможет нам отделить верные исторические интерпретации от ложных. Здравый смысл — плохой критерий. Именно здравых ходов мысли было достаточно, чтобы оправдать инквизицию, религиозные войны XVI века, рабство в Америке до Гражданской войны, расовую сегрегацию, евгенику, холокост и тому подобные вещи. Для историка, который считает очевидным, что благодаря научному прогрессу наши повседневные понятия — лучшего качества, чем принадлежавшие более раннему времени, здесь нет проблемы. Такой историк всегда может сослаться на то, что будущие поколения в любом случае перепишут историю.
Но в этой позиции есть серьезный недостаток. Помимо того что она грозит интеллектуальным банкротством, такая стратегия открывает дверь обычному политическому разногласию между учеными. Возьмем пример, когда Джойс Эпплби отстаивала свою точку зрения о Джефферсоне как прародителе американского либерализма в споре против Лэнса Баннинга, считавшего Джефферсона классическим, а не либеральным республиканцем, и постепенно пришла к такой крайности: «Остается решить в научном споре о республиканизме в Америке, о чьем республиканизме мы сейчас говорим — о республиканизме отцов-основателей или нашем? И если о нашем, то о каком именно?» [30] Перед нами заявка на то, чтобы превратить историю в политический диспут. Намного безопаснее утверждать, что ни отцы-основатели, ни более поздние поколения не имели единого мнения о том, как должен выглядеть американский республиканизм. Серьезные исторические исследования никогда не могут основываться на идее, что мы изучаем такие концепции, как республиканизм XVIII века, для наших политических целей, — будто бы история не призвана, как любая другая академическая наука, искать истину, даже если эта истина касается только прошлого.
Здесь мы имеем дело с классическим случаем контекстуализации. В большинстве случаев контекстуализация — это простой вопрос согласия или несогласия с предыдущими исследователями относительно общих характеристик обстоятельств, в которых возникло данное явление. По-настоящему инновационные интерпретации возникают тогда, когда ученый решает охарактеризовать весь контекст заново. Поэтому типичные обвинения, что некий ученый просто упустил «политический контекст» в своем анализе, не столь очевидны, как кажется на первый взгляд [31]. Политический спор зачастую ведется об отличиях между тем, что для людей является действительно естественным, и тем, что является субъективным. Контекстуализация — ключевой вопрос всей методологической свободы, тесно связанный с тем, что имел в виду Каклик, говоря, что Нэш, Маркс и другие считали «великие книги ключом к исследованию культуры, частью которой они являлись» [32].
То, что может быть объяснено в отношении американского прошлого, весьма расходится с задачей написания обобщающих культурных портретов. Возьмите, к примеру, книгу «Бруклинский мост» (The Brooklyn Bridge, 1965) Трахтенберга, которая признается классическим примером междисциплинарного подхода к тому, что должна представлять собой американистика как научная дисциплина. Трахтенберг открывает книгу подробной историей постройки известного моста в Нью-Йорке в конце XIX века. Затем он расширяет перспективу и переходит к всеобъемлющему изучению огромного разнообразия символического изображения этого моста в искусстве, литературе и концептуальной американской истории. К концу книги читатель видит, что мост символизирует практически все типично американское.
Можно ли принять предложенный и осуществленный Трахтенбергом принцип целостности в качестве общей исторической методологии? Связывая этот проект строительства с более широкими тенденциями в индустриализации Соединенных Штатов, а их, в свою очередь, — с еще более давними трендами в американском мышлении, он заканчивает утверждением, что «американское общество последовало за Гамильтоном по пути развития промышленности и капитализма», а не за Джефферсоном по пути развития сельского хозяйства [33]. Следует ли из этого, что Джефферсон был антикапиталистическим мыслителем, а Гамильтон определил по-настоящему значимые аспекты будущего Америки лучше, чем Джефферсон? По мнению автора, Джефферсон был также антиисторичен, поскольку его утопичная модель фермерской демократии «была за пределами логики: это была мечта о вечной гармонии с природой» [34]. Трахтенберг не предлагает объяснение того, что именно «было за пределами логики» в идее вечной гармонии. Разве это не была надежда основателя достичь всего, чего не смогли добиться все предыдущие политические теоретики, а именно, создать такую форму правления, которая бы выдержала испытание временем? Может ли интеллектуальное мироощущение Джефферсона быть названо утопичным, это тоже вопрос [35].
Как бы то ни было, главный методологический вопрос, который следует задать о книге Трахтенберга, следующий: какое отношение эти заявления об отцах-основателях имеют к другим аргументам, которые он все же обосновывает, — скажем, о строительстве Бруклинского моста или о более позднем стихотворении Крейна о нем? Его литературный анализ символического использования моста отвечает совершенно на другой вопрос об американской культуре, чем его же исследование истории американской инженерии. В действительности, все исследования пытаются ответить на определенный вопрос, и выбранный метод определяет качество ответа. Предположу, что в тот момент, когда человек выбирает вопрос, он уже выбрал подходящие методы и исключил некоторые методы как неподходящие. Заявлять, что все методы — это часть некоего единого целого методологического аппарата, означало бы предположить не только, что знание целостно, но также и то, что и реальность такова. Многие философы сочли бы такую идею весьма странной. Причина в том, что мы не знаем, действительно ли все относится ко всему в сколь-либо значимом смысле.
Вот почему историю лучше всего понимать как искусство, пытающееся объяснить определенное историческое явление в определенных обстоятельствах, а не в предположительно связном видении прошлого. Возможно, прошлое — это не та единица, с которой следует начинать. Даже если так, исторически ориентированный американист может сделать ценные открытия, изучая и открывая очевидно устоявшиеся категории мысли. Поколение отцов-основателей, например, не могло отказаться от идеи, что новый общественный порядок должен быть естественным для людей. Именно поэтому они должны были подвергнуть сомнению несколько идей, выведенных из господствующей европейской модели общества как единственного естественного упорядочивания мира людей. Таким образом, мы обнаруживаем, что Джефферсон и Гамильтон, например, постоянно политизировали ряд старых идей и боролись за их новые определения, одновременно сражаясь за власть.
Власть и политика
Действительно, для того чтобы ошибочно не деполитизировать прошлое ради написания прогрессивной, а не регрессивной истории, мы обязаны отказаться от ненужной демонизации идеи власти как таковой. Смотрите, как Лоуренс Гроссберг характеризует одну из центральных задач исследований культуры, изучая, «как власть действует на разных уровнях и просачивается [!], отравляет [!] и ограничивает [!] возможности, которые есть у людей для жизни в человеческих, достойных и безопасных условиях» [36]. Такой демонизированный образ власти проистекает из простой неспособности увидеть, что взаимоотношения c властью всегда оказываются под вопросом, если их политизировать [37].
Хотя власть по определению контролирует других людей, мы также можем рассматривать взаимоотношения с властью как нечто, украшающее нашу повседневную жизнь. Один из моих друзей сказал мне, что его рецепт счастливого брака таков: «Я делаю то, что мне говорят, и мне это нравится». Выгуливая свою таксу, раньше я постоянно боролся с ней за право решать, по какой дороге мы пойдем, до тех пор пока я не научился подчиняться своему дорогому другу. Как несколько цинично замечал доктор Бледсоу, президент Афроамериканского колледжа в «Человеке-невидимке» Элисона, «власть не обязательно выставлять напоказ. Власть смела, самоуверенна, она возникает сама и сама заканчивается, она сама себя греет и сама оправдывает. Когда она у вас есть, вы знаете об этом… Единственные, кому я когда-либо пытался понравиться, — это большие белые чуваки, и даже их я контролировал больше, чем они контролировали меня» [38]. Взаимоотношения с властью присущи человеческой жизни, их не следует воспринимать как зло. Точно так же нет причины воспринимать конфликт как нечто, противоречащее общественному существованию людей.
Разумеется, наша постоянная борьба за власть часто ведет к насилию на улицах, восстаниям, мятежам и войнам. Политика, однако, означает решение конфликтов другими методами. Идея политики как общественного дела, в свою очередь, основывается на точке зрения, что общество оставляет за нами право решать конфликты нашей личной жизни в частной сфере. Не все политично. И все же мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, в которых власти должны пересечь черту между общественным и личным, как, например, в случае необходимости отдать детей в приемную семью, чтобы защитить их от собственных родителей. Или подумайте о жарком споре 1970-х годов вокруг школьных автобусов, когда речь шла о том, могут ли власти требовать, чтобы родители отправляли детей в расположенные далеко от дома школы после объединения учебных заведений. Другими словами, не все политично, но все можно политизировать.
Политизировать проблему означает считать властные отношения присущими любым общественным нормам. Это не значит, что нормы — это исключительно притязания на власть. Но это говорит о том, что отказ рассматривать их как притязания на власть приводит нас на путь конформизма, а не критического мышления. В общем и целом, наиболее устоявшиеся нормы и модели поведения могут начать меняться только тогда, когда они политизированы. Мятеж часто выносит на поверхность такие проблемы, как расизм и избыточное присутствие глобального капитализма, но очень часто он выражает отсутствие представления о том, как политизировать вопрос конструктивным образом. При свободной демократии человек всегда может вступить в партию, организовать специальную группу или сидячую забастовку, основать журнал и так далее.
Что касается наших постоянных колебаний между сферой общественного и личного, дискуссия о правах гомосексуалистов будет здесь хорошим примером. В Соединенных Штатах было несколько попыток придать теме гомосексуальности политический характер, пока политические лидеры страны не решили поддержать равные гражданские права гомосексуалистов и лесбиянок. Сами гомосексуалисты первыми привлекли внимание общественности к проблеме во время знаменитого Стоунволлского восстания в 1960 году в Нью-Йорке. Они протестовали против отношения к ним как к второсортным гражданам, когда дело касалось их права на собрания. В начале 1970-х городские власти Сан-Франциско еще больше обострили политический характер проблемы. Приблизительно через десять лет с проверенным временем медицинским определением гомосексуальности как психического расстройства было покончено [39]. Как отметил Эндрю Салливан, рассматривать вопрос с точки зрения равенства не значит пропагандировать гомосексуальность [40].
Что именно было политизировано в этом процессе? Традиционное понимание нормального сексуального поведения, а не избирательные права гомосексуалистов. В целом, геев не травили и в «старые времена». Обычно этот вопрос решали, стараясь не привлекать к нему внимания общественности. Большинство людей были счастливы жить в неведении — норма, воплощенная в ныне уже устаревшей политике вооруженных сил США: «не спрашивай и не говори». Вступая в общественную сферу как гомосексуалисты, эти люди поставили под сомнение, в первую очередь, норму, что такие вопросы, как половая сфера и воспитание детей, принадлежат к сфере личной жизни только в том случае, если парой являются мужчина и женщина. Люди начинают нервничать, поскольку их традиционное понимание нормальной интимной жизни подвергается сомнению, а иногда и высмеивается.
Важно задать вопрос, какой действительно была эта историческая норма, даже если сейчас она кажется просто деспотичной. Избирательное право женщин в свое время было тоже крайне противоречивой темой. Потребовалось много лоббирования и политической активности, прежде чем избирательное право для женщин наконец-то в 1919 году стало выражением той молчаливой силы прогресса в американской истории, о которой говорит президент Обама. Стоит задуматься также, на каком основании историк Уильям Чейф называет борьбу за гражданские права в 1960-е «общественным движением», которое «потребовало политического ответа» от «президентов в округе Вашингтон» [41]. Чейф говорит о «национальной политике» так, будто политика была в первую очередь тем, за что ответственность несет только федеральное правительство, в то время как остальная часть Америки переживает только «социальное» развитие! Если движение за гражданские права 1960-х не считается политическим, то что же тогда считается?
Заключение
Ключевым моментом в критике Каклика было то, что Нэш, Маркс и другие были слишком схожи с Платоном в своем убеждении, что человек может выделить определенный набор доисторически важных идей, просто развивающихся в истории. Более недавние попытки установить формирование идентичности, глобализацию или некоторые другие масштабные идеи в качестве нового стандарта качественного написания американской истории несут в себе ту же самую методологическую проблему. Любой подобный стандарт имеет тенденцию превращать историю в манихейские попытки отделить хорошее, так называемое «годное к употреблению» прошлое от очевидно менее важного прошлого, характеризуемого как приспособление к стандартам своего времени. Следовательно, прогрессистская история имеет склонность упускать и не признавать значимость таких фактов, как, скажем, то, что Джефферсон оставался рабовладельцем всю свою жизнь; что Линкольн поклялся сохранить Союз, требовало ли это освобождения всех рабов или ни одного; или что Уилсон с очень большой неохотой согласился с наделением женщин избирательными правами.
Свидетельствует ли все это о том, что с американской идеей что-то не так? Это зависит только от того, что мы под ней понимаем. Мы можем ратовать за равный доступ к образованию и здравоохранению, взывая или не взывая к несколько неопределенным идеалам эпохи Основания. Политическое действие всегда осуществляется с позиции устремления в будущее из настоящего времени. Таковы были и позиции Гамильтона и Джефферсона, которые яростно боролись за американское будущее, потому что оба знали, что прошлое невозможно изменить. История, в свою очередь, должна объяснять прошлое человечества настолько точно, насколько только это возможно. И пусть так оно и будет.
Примечания
1. Автор хотел бы поблагодарить Аллан Мегиль и Ниину Коскипаа за их ценные редакторские комментарии.
2. Barack Obama. Inaugural Speech. Jan 20, 2009 // Website Miller Center, University of Virginia, Presidential Speech Archive as visited July 5, 2011 at http://millercenter.org/scripps/archive/speeches/detail/4463
3. George W. Bush. Second Inaugural Speech. Jan 20, 2005 //
4. Цитата из колонки Пола Кругмана Forgive and Forget? (International Herald Tribune. 2009. 17-18).
5. Thomas Jefferson to Joseph Priestley, Jan. 27, 1800 // M.D. Peterson (ed.). Thomas Jefferson Writings. Y.: Library of America, 1984. P. 1073.
6. Thomas Jefferson to Joseph Priestley, March 21, 1801 // Ibid. P. 1086.
7. Kuklick B. Myth and Symbol in American Studies // American Quarterly. No. 24 // L. Maddox (ed.). Locating American Studies: The Evolution of a Discipline. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1999. P. 77.
8. Myth and Symbol in American Studies. 1999. P. 78.
9. Segal H.P. Commentary // Maddox (ed.). Locating American Studies. P. 87–90. Позвольте мне добавить, что я не до конца понимаю обвинения Сигала, поскольку в самом начале книги Маркс явно указывает на различные типы пасторальности своего времени. Я также не могу согласиться с выпадами Сигала о том, что, в отличие от представителей символической школы, такие образцовые антропологи, как Виктор Тернер или Клиффорд Гирц, «разумеется, провели обширные исследования, прежде чем сделали выводы». На мой взгляд, Смит и Маркс изучили свой исторический и литературный материал довольно искусно и творчески (цитату см. там же, с. 90).
10. Примечательно, что, когда в 1951 году появилась книга Смита «Девственная земля», ее оценили как прорыв в интеллектуальной истории, поскольку дисциплина «американоведение» еще не возникла.
11. Об этом основополагающем понятии мифа об Основании читайте также: Helo A. Thomas Jefferson’s Ethics and the Politics of Human Progress: The Morality of a Slaveholder. N.Y.: Cambridge University Press, 2013. P. 7–11.
12. Цит. по: Shklar J. Montesquieu and the New Republicanism // Machiavelli and Republicanism / Ed. by G. Bock, Q. Skinner and M. Viroli. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 270 (выделено автором).
13. Wood G. The Trials and Tribulations of Thomas Jefferson // P.S. Onuf (ed.). Jeffersonian Legacies. Charlottesville: University of Virginia Press, 1994. P. 406.
14. Appleby J. Capitalism and a New Social Order: The Republican Vision of the 1790s. Y.: New York University Press, 1984. P. 33.
15. Appleby J. Republicanism in Old and New Contexts // The William and Mary Quarterly. Vol. 43. No. 1. P. 33; об этом комплексе историографических проблем, связанных с Шклар, Вудом и Эпплби, см. также: Helo. Thomas Jefferson’s Ethics. 2013. P. 185–186 n.
16. Myth and Symbol. 1999. P. 78.
17. Zuckert M.P. The Natural Rights Republic: Studies in the Foundation of the American Political Tradition. Notre Dame: Univ. of Notre Dame Press, 1996. P. 18, 23. Держась за этот доисторический образ человека, Цукерт опровергает как республиканский тезис о том, что нам нужно четко политическое понятие человека, так и коммунитарный тезис о том, что нам необходим более социально ориентированный взгляд на человека (там же, с. 21).
18. P. 18.
19. Следуя логике Цукерта в этом вопросе, можно также задать вопрос, а действительно ли люди по своей природе — употребляющие пищу создания, ведь они так часто «делают» даже это «для себя».
20. P. 47.
21. Madison J. The Federalist Number 51 // C. Rossiter (ed.). The Federalist Papers by Alexander Hamilton, James Madison, and John N.Y.: Penguin Books, 1961. P. 324.
22. Natural Rights Republic. 1996. P. 79. На самом деле, президент Буш смотрел назад дальше, чем Локк, когда утверждал в своей инаугурационной речи, что, «когда наши отцы-основатели объявили новый порядок, они действовали на основании древней надежды, которая должна быть воплощена в жизнь». Лишь несколько историков могут быть настолько анахроничны, чтобы утверждать, будто первую истину Локка можно сравнить с некой древней надеждой. Платон и Аристотель критиковали демократию за саму ее склонность обращаться со всеми людьми как с равными, хотя всем очевидно, что некоторые люди более добродетельны и мудры, чем другие. Цукерт абсолютно прав в том, что для этой идеологии нужен Локк, чтобы это выглядело в первую очередь как историческое мнение.
23. Ellis J.J. American Sphinx: The Character of Thomas Jefferson. Y.: Alfred A. Knopf, 1997. P. 297.
24. Rodgers D.T. Republicanism: the Career of a Concept // The Journal of American History. No. June 1992. P. 14.
25. Neem J.N. American History in a Global Age // History and Theory. No. 50/ Feb. 2011. P. 41–70 (здесь 53, 56).
26. Lieberman Urges ‘A Place for Faith’ // Richmond Times-Dispatch. 2000. 28 (выделено автором).
27. Об инновационной «перспективе переговоров между идентичностями» Тинг-Туми см.: Ting-Toomey S. Communicating across Cultures. N.Y.: The Guilford Press, 1999., esp. p. 29.
28. Цит. по: Onuf P.S. Jefferson’s Empire: The Language of American Nationhood. Charlottesville: University of Virginia Press, 2000. P. 226–263; Этот памфлет также обсуждается здесь: Sollors W. Beyond Ethnicity: Consent and Descent in American Culture. Y.: Oxford University Press, 1986. P. 175.
29. De Hart J.S. Welfare as Identity Politics: Rediscovering Nationalism, Re-viewing the American National Experience, and Recasting the ‘Other’ in the Post-Cold War United States // Shackleton M. and Toivonen M. Roots and Renewal: Writing of Bicentennial Fulbright Professors. Helsinki: Renvall Institute of the University of Helsinki, 2001. P. 30–44 (здесь 39).
30. Republicanism in Old and New Contexts. 1986. P. 33. Это не говорит о том, что при написании истории можно избежать определенной политичности. Показательный пример полностью политизированного написания истории — книга Джерома Хайлера «Локк в Америке» (Locke in America, 1995), подзаголовок которой — ни больше ни меньше, как «Моральная философия эпохи Основания». Для Хайлера, который «понял всего Локка» и «понял его правильно» (там же, с. 35), главный вывод таков: основатели, как сторонники Джефферсона, так и сторонники Гамильтона, оставались верны идеям Локка, особенно его акценту на моральной ценности производительного труда (там же, с. 18). Но в противоположность этому остальная часть американской истории представляет собой печальное отступление от изначальной моральной философии. Хайлер заканчивает книгу малоизвестным памфлетом 1930-х годов «Джефферсон: человек, который был забыт» (Jefferson: the Forgotten Man), утверждая, что в американской смешанной политической экономике истинному «либерализму Локка… так и не позволили заработать» (там же, с. 308).
31. Сам Цукерт обвинял Джона Покока в исключении «политического контекста» во время анализа одного политического спора XVIII века. Как я попытался продемонстрировать здесь, собственное толкование Цукертом того, что действительно считается политическим контекстом, также может показаться проблематичным. См.: Zuckert M.P. Natural Rights and the New Republicanism. Princeton: Princeton University Press, 1998. P. 175.
32. Myth and Symbol. 1999. P. 83.
33. Trachtenberg A. Brooklyn Bridge: Fact and Symbol. Second Edition. Chicago: University of Chicago Press, 1979. P. 14.
34. Ibid. P. 12 (см. также с. 168.).
35. Например, Valsania M. The Limits of Optimism: Thomas Jefferson’s Dualistic Enlightenment. Charlottesville: University of Virginia Press, 2011.
36. См. статью Лоуренса Гроссберга, посвященную исследованиям культуры, в сборнике: W. Donsbach (ed.). The International Encyclopedia of Communication. Vol. 3. Hoboken, N.J: Wiley-Blackwell, 2008. P. 1110–1116 (скобки и восклицательные знаки добавлены автором).
37. Что касается дальнейшего определения власти, позвольте мне добавить, что власть может расти и сокращаться, но в современной демократии эта концепция базируется на простом принципе обратимости: правители продолжают нести демократическую ответственность перед теми, кем они правят. Разумеется, наше постоянное растущее влияние на остальную часть природы не может дать другим биологическим видам, находящимся под угрозой, какой-либо обратной юридической власти, возникающей от неких врожденных естественных прав. Поэтому власть — это моральная проблема, а не просто юридическая.
38. Ellison R. Invisible Man [1947]. N.Y/: Random House, Vintage Books, 1972. P. 140.
39. Boyer P.S. et al. The Enduring Vision: A History of the American People. Fifth Edition. Boston: Houghton Mifflin Company, 2004. P. 913.
40. Sullivan A. The President of the United States Shifted the Mainstream in One Interview // 2012. May 21.
41. Это никак не противоречит задаче Чейфа изучать движение за гражданские права с точки зрения социальной истории. См.: Chafe W.H. From Community Study to National Politics: How Greensboro, North Carolina Provides a Prism for Understanding Race in America in the 1960s // A. Helo (ed.). Communities and Connections: Writings in North American Studies. Helsinki: Renvall Institute, 2007. P. 19–29 (здесь 19).
Источник: Helo A. Breaking Away from Progressive History: The Past and Politics in American Studies // European Journal of American Studies. Spring 2014. Vol. 9. No. 1.




Комментарии