Письма войны: ХХ век
Повседневность войны: застывшее слово и живая память
 5 313
5 313 
© Оригинальное фото: Todd Huffman [CC BY 2.0]
От редакции: Благодарим издательство «Новое литературное обозрение» за предоставленную возможность публикации фрагментов сборника «XX век: Письма войны» под редакцией Сергея Ушакина и Алексея Голубева.
Алексей Голубев, Сергей Ушакин
Экс-позиция письма: о правилах чтения чужой переписки
Письмо — всегда знак отсутствия, замещение автора знаками. Однако письма войны — это символ отсутствия вдвойне, это попытка заместить и автора, и опыт, для которого нет адекватных выразительных средств. Военное письмо как процесс перевода с военного на мирный, о котором шла речь чуть выше, — это, разумеется, перевод и вынужденный, и неизбежный. Опыт войны — это опыт субъективации на границе выразительных возможностей: «Кто сам не видел, не сможет поверить в то, что творится здесь», — пишет родным Юсуп Кодзоев с обороны Одессы в 1941 году. «Знаешь, ужасно трудно связно описать этот бой, — пишет отцу сын с Русско-японской войны, — так много надо сказать, что не знаешь, на чем остановиться, перескакиваешь с одного на другое, и ничего не выходит».
«Перескоки с одного на другое», впрочем, свидетельствуют не столько о дискурсивной недостаточности, сколько о доступном способе борьбы с ней [1]. Постоянная смена тем — это еще и очередная попытка найти чуть более точный способ описания своей жизни на языке, понятном адресату. «Я пережил за это время много тяжелого и такого, что уже никогда не забудется и не изгладится из сознания, — сообщает в письме с фронта своей семье боец Красной армии в 1943 году. — Пальцы правой ноги, пятка и большой палец левой ни на одну минуту не дают забывать о себе. Не знаю, ревматизм это или обморожение. …Фрицы, разумеется, тоже чувствуют себя не лучше. И тоже кое-что будут помнить об этих днях».
Однако то, что «не забудется», «не изгладится» и «будет помниться», остается в письмах, как правило, неназванным, проявляясь лишь как невнятный вторичный симптом (ревматизм? обморожение?), как след, последствие и часть чего-то пережитого, но так и не высказанного. «Все сглаживается одним грозным, ужасным, бесчеловечным, безжалостным, уничтожающим, наводящим ужас и бедствия словом — война», — пишет в 1941 году с фронта своей жене боец. «Ужас» — одно из самых частых слов, которым авторы замещают конкретный опыт в своих письмах. Лишенное индивидуального содержания, это слово не проясняет происшедшего, но индексирует провал речи. «Ужас» обозначает, не раскрывая, жизнь, оставшуюся по ту сторону текста. «День ужаса, — передает в 1904 году из Порт-Артура русский офицер, повторяя слово опять и опять. — Взрыв был ужасный. Ничего не осталось. Наш командир, адмирал, все. …Я был случайно на Золотой горе не по службе и видел все. Ужас».
Перевод военного опыта оказывается неадекватным, точнее, адекватность — недостижимой. Эта неполноценность травматической речи, сведенной к формуле — «Видел все. Ужас», — эта ощутимая ущербность высказывания, обостренная желанием объясниться, переживается авторами писем по-разному [2]. Кто-то воспринимает и интериоризирует нехватку слов, способных описать «все», как личный изъян. Невысказанность ощущается как недосказанность или даже как неискренность; недостаток слов — как нехватка правды. Пережившая плен жена пишет в 1943 году мужу: «Сидела я в карательном отряде СС, допытывали нас всех там очень жестоко, нам выкручивали щипцами наше тело, крутили руки, в общем, Петечка, ты не можешь себе представить, какой я перенесла ужас. Ты думаешь, что я пишу тебе какую-нибудь ложь, нет, дорогой мой Петя, это все правда». В других случаях это же ощущение дискурсивной недостаточности оформляется как гносеологический и онтологический сбой: непонимание опыта артикулируется как недостаток собственной рациональности. «Какой ужас мы все перенесли, — вспоминает летом 1945 года женщина, пережившая Ленинградскую блокаду. — Правда, тогда мы все были иначе настроены. Мне кажется, что мы были тогда все полусумасшедшие. Потому что мы сами тогда еще плохо понимали, что делается. А теперь, когда оглядываешься назад, то мороз по коже пробирает. …Я удивляюсь еще, как я и Вы не сошли с ума».
Ужас и угасание — слова одного корня, предполагают этимологические словари [3]. Военные письма подтверждают это родство, если не этимологическое, то уж точно — практическое. Письмо вынуждает преодолевать онемение, вызванное ужасом, переписка заставляет искать подходящие слова, но процесс перевода производит в итоге лишь картину угасания выразительных способностей письма — угасания, отлитого в одном из писем в лаконичный оксюморон: «Просто ужасно». Этот оксюморон — и авторское признание неспособности донести смыслы и оттенки своего опыта, и вынужденная просьба-приглашение адресату представить пережитое «своими словами».
Нехватка выразительных средств, впрочем, препятствием для переписки является лишь отчасти. Содержание, повторимся, в военных письмах, как правило, вторично. Письмо — символ договора; осознание именно этой глубинной связи, этого межличностного контракта, этого взаимного обязательства и взаимной готовности продолжать символический обмен во многом и определяет устойчивость военной переписки. Интерсубъективность, складывающаяся в процессе этих обменов письмами, имеет свои особенности: разделенность во времени и пространстве приводит к тому, что вопрос и ожидаемый ответ в процессе письма сплавляются воедино, заставляя автора тут же реагировать на реакцию, которой еще не было. Жена пишет из Череповца мужу, участвующему в советско-финской войне (1939):
«Леня, почему ты на мои письмы не даешь ответы? Леня, я так дюжа много вынуждена тем, что тебе я посылаю уже четвертое письмо, а от тебя ответу нет. Леня, или ты не хочешь мне совсем писать письмы, или что обижается на меня, или нет время вам писать? Леня, поясни ты это все мне. Леня, или я настолько не достойна пользоваться твоими мыслями, или я не должна ждать тебя, или может кто чего плохого написал, или я не такие пишу тебе письмы? Леня, так постарайся, напиши мне хоть одну, и пропиши мне все, чтобы я знала что-нибудь одно. Леня, ты сулил мне карточку, а теперь, оказывается, тебе и письма нет охоты прислать».
Происхождение авторов, безусловно, сказывается на стилистике, но, судя по всему, сама структура опережающей реакции на возможный ответ, сам процесс постоянной рефлексии и непрерывного моделирования интерсубъективности на письме — формулировка того самого «договора», того самого поля общих ценностей, отношений и установок, которые и заставляют продолжать военную переписку, — присутствуют без изменений и в далеких от литературной нормы письмах из провинциального города, и в переписке столичной интеллигенции, как, например, в этом письме военного офицера своей жене в Ленинград в 1941 году:
«…я с тобой мечтаю о совершенно иной особенной счастливой жизни, а ты думаешь, что я спокойно переношу, что ты работаешь среди одних мужчин? И ты вовсе не считай меня глупым, я уже столько начитался, а особенно последняя книга Драйзера “Титан”, да и вообще видал, какие случаются в жизни случайности, вот они меня и мучают, а ты, вместо того чтобы успокоить, пишешь, что если буду тебя подозревать, то уже все равно, и ты используешь мое подозрение!.. Ну представь себе: ты не получаешь от меня месяц, а может быть и больше писем, ведь это же сейчас возможно со мной… Я там, где я буду находиться, я буду с ума сходить. Думать о тебе, а ты подумаешь, что меня уже нет в живых или я не хочу тебе писать (последнего никогда не может быть), ну и на что-либо решишься? Любимая моя, ты не думай, что я тебе не верю, или подозреваю тебя в чем-либо, этого пока нет, но пойми, ведь я люблю тебя, ты понимаешь это, особой любовью, и всякое малейшее меня задевает».
Интерсубъективность, стремление автора представить модальность чтения адресата, проявляется в сборнике и еще одним любопытным образом. Письма с фронта, направленные в газеты и органы власти, в которых красноармейцы сообщают о своем патриотизме и ненависти к врагу, легко отмести как набор бессодержательных штампов, жестко заданный советской пропагандой военного времени. Однако, как показывает Йохен Хелльбек, автор вводной статьи к тематическому разделу «Штампы войны», эти же письма становятся ценным источником, если целью исследования является понимание тех дискурсивных возможностей, с помощью которых формировался и оформлялся советский человек. Осваивая стилистические конвенции и риторические приемы официального дискурса о войне, авторы писем присваивали и примеривали этот дискурс на себя. Придавая официальной речи личностные акценты и особенности, они становились субъектами этого дискурса, децентрализуя производство власти и идеологии и формируя корпус текстов, который определял советскую норму не сверху, а снизу. В итоге то, что традиционно интерпретируется как идеологические штампы, при более пристальном прочтении оказывается исторически специфическими формами работы по превращению себя в советского военнослужащего, способного говорить с властью на ее языке. Солдатские письма в газеты и властям были той дискурсивной лабораторией, в которой происходила формовка общего словаря выразительных средств. Как источники «твердых» фактов эти письма действительно не представляют особого интереса, но как пример практических действий — в данном случае как способ освоения и исполнения советской субъектности в процессе письма — эта корреспонденция помогает увидеть, где искались и как находились символические средства для оформления военного опыта. «Публичные» письма военных демонстрируют процесс сращивания индивидуального желания высказаться с выразительными возможностями господствующего дискурсивного режима.
Прочитанное с точки зрения интерсубъективности, военное письмо позволяет проследить и еще один важный аспект: военные письма — это материальные субстанции, эмоциональный эффект которых не сводим ни к их содержанию, ни к их форме. «Маленькое язычество через перо, бумагу и чернила, маленький первобытный фетишизм, вот что действует в корреспонденции, а не одни мысли, сообщения и известия», — писал по поводу писем с фронтов Первой мировой войны Василий Розанов [4]. Военные письма как объекты аффекта стали и важным каналом циркуляции приватных и публичных эмоций, и способом организации аффективных сообществ, и методом структурирования национального и международного пространства [5]. Как показывает Ольга Никонова, автор вводного текста к разделу «Гнев войны», в 1917 году письма с фронта помогли перенести фокус военной ненависти с внешнего врага на внутреннего, в период Польской кампании и Зимней войны 1939–1940 годов — персонализировать абстрактную ненависть в ситуации, когда Красная армия выступала агрессором, и, наконец, в годы Великой Отечественной войны — объединить СССР в единое сообщество ненависти к врагу. Письмо здесь становилось действием, и вряд ли случайным является то, что многие письма ненависти, направленные в адрес Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков (созданной в 1942 году), оформлялись авторами как мини-листовки — с подзаголовками, курсивами и выделенными жирными текстом лозунгами, такими как «Отомстим!» или «Не забудем!». Сила эмоции переводилась в графику языка, превращая текст в жест, в символический акт.
В то же время военнослужащие отказывались воспринимать себя исключительно через призму военной идентичности и ассоциировать себя с языком военного времени. Письма давали военнослужащим уникальную возможность сохранить, воспроизводить и акцентировать свои гражданские идентичности: например, главы семьи (в переписке с женой, детьми и дальними родственниками) или сына (в переписке с матерью) [6]. Переписка между супругами превращала абстрактные ячейки общества в социальные единицы, производящие и потребляющие тексты и смыслы. В условиях военного времени, разрушающего эти смыслы с ужасающей быстротой, письма давали автору возможность формировать и поддерживать свое невоенное «я», тем самым препятствуя своему окончательному превращению в тотального субъекта войны и ненависти.
Подведем итог. Универсальность дискурсивных структур, постоянная повторяемость тем и/или сюжетов в военных письмах становится очевидной в результате серии аналитических шагов. Установка на формальную целостность письма и внимание к эволюции конвенций эпистолярного жанра дает возможность проследить внутреннюю организацию института военной корреспонденции. Признание принципиальной неадекватности процесса перевода военного опыта на язык письма заставляет обращать внимание на роль риторических сбоев, стилистических смещений и тематических «перескоков». Наконец, понимание интерсубъективности как ключевой социальной основы, обеспечивающей устойчивость жанра военной переписки, позволяет увидеть, как личное и социальное формулируются в процессе письма и формируют письмо.
«ХХ век: Письма войны» — не архив документов. Скорее, это своеобразная текстуальная выставка, это тематически организованная экспозиция документального материала, не лишенная, впрочем, своей специфики. Экспозиция писем в данном случае — это еще и экс-позиция письма, своего рода демонстрация дискурсивной археологии исчерпавшего себя эпистолярного жанра. Предложенные выше подходы к анализу военных писем позволяют избежать традиционного стремления видеть в письме лишь повод для герменевтического упражнения или источник крупиц фактов для позитивистской версии истории. Садясь писать письма, их авторы превращались — перефразируя Юрия Олешу — в антропологов человеческих душ. В данном сборнике мы старались не перебивать эти голоса, а, наоборот, создать условия, способствующие их наиболее полноценному звучанию.
Именно эта задача и обусловила структуру и композицию нашего сборника. Тематические разделы — это итог длительного кураторского отбора: письма собирались почти пять лет, и в финальную коллекцию вошла лишь их небольшая часть. Попытка организовать письма хронологически — по войнам — была отброшена как малопродуктивная и мало что дающая для понимания жанра. Финальный список тем возникал постепенно, в ходе многократного чтения и обсуждения корпуса собранных текстов. Готовый материал был предложен авторам разделов для комментариев. Следуя общей установке, мы сознательно не ограничивали авторов введений в их подходах и формах анализа, оговаривая лишь общую тему конкретного раздела. В определенном смысле этот методологический карт-бланш был своего рода экспериментом, нашей попыткой увидеть, какие отклики и какие идеи могут возникнуть у читателя этих не-похищенных, но вырванных из своего родного контекста писем. Ирина Сандомирская, автор вводного текста к последнему разделу, назвала наш подход коллекционированием, и это, несомненно, так. Вальтер Беньямин был одним из первых, кто обратил серьезное внимание на фигуру коллекционера, занимающегося поиском редких, диковинных и выброшенных за ненадобностью вещей. Для Беньямина коллекционирование — это «смелая попытка преодолеть совершенно иррациональную природу присутствия объекта путем его интеграции в новую, подчеркнуто сконструированную историческую систему — коллекцию» [7]. Вырывая предмет из его «родного» контекста, коллекционер помещает свою «находку» рядом с близкими ей вещами, тем самым подчеркивая их общее сходство, их родство во времени, их близость в содержании. Коллекционирование — это всегда поиск неочевидных общностей и забытых связей, и Беньямин в данном случае прав: «Коллекционирование — это форма практической памяти» [8]. Но коллекционирование — это еще и форма «борьбы с рассеиванием» исторического материала [9], это активная попытка формировать новые контексты и новые категории общностей, в которых могли бы сосуществовать разнообразные «“дыхания” оттуда». Коллекционер является не просто потребителем культурных смыслов, но и их производителем. Сохраняя и воспроизводя исторические смыслы, коллекции вместе с нарративами являются культурными рамками, которые задают форму историческому воображению [10]. Впрочем, задать форму историческому воображению авторам введений нам удалось лишь отчасти. Все они восприняли собранные нами коллекции по-разному, и само разнообразие этих откликов и интерпретаций, их разносторонность и несовпадаемость, наверное, и есть одна из главных целей, которую мы пытались достичь, возвращая эти письма, эти забытые части речи, в круг сегодняшних дискуссий о человеке и языке, о жизни и смерти, о войне и мире.
Ванкувер — Принстон, январь 2015 года
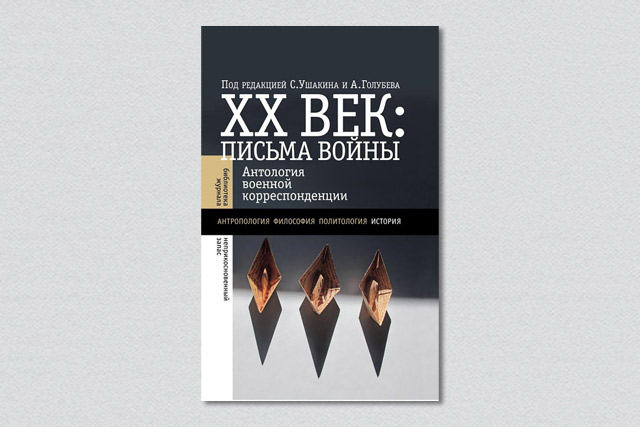
Из главы «Военное дело»
В Российское общество Красного Креста: «Смею предложить мою готовность» (1899)
Российское общество Красного Креста было сформировано в 1879 году на основе Общества попечения о раненых и больных воинах (1867). РОКК активно занималось медицинской и благотворительной деятельностью как в России, так и в международном масштабе. В октябре 1899 года, после получения известий о начале Англо-бурской войны, Российское общество Красного Креста объявило о подготовке санитарного отряда. В России, где были сильны антибританские настроения и открытая конфронтация бурских республик с Великобританией вызвала волну симпатии в обществе, известия о подготовке данной миссии вызвали поток писем от желающих вступить в санитарные отряды, некоторые из которых приводятся ниже. Всего в Южную Африку РОКК послало два отряда, которые сыграли существенную роль в организации медицинской помощи для бурских сил.
5 декабря 1899 года, министр иностранных дел Российской империи В.Н. Ламсдорф — председателю Российского общества Красного Креста О.К. Кремеру
Черновик спешное
Кремеру
Милостивый Государь
Оскар Карлович.
Поспешаю препроводить Вашему Высокопревосходительству полученную мной вчера вечером из Претории ответную телеграмму исполняющего обязанности русского консула в Йоханнесбурге.
Из телеграммы этой Вы изволите усмотреть, что Трансваальское правительство выражает благодарность за предложение Российского Красного Креста прислать на театр военных действий санитарный отряд с инструментами и лекарственными средствами.
Ввиду этого покорнейше прошу Ваше Высокопревосходительство благоволить меня уведомить, в каком составе и когда именно Общество Красного Креста намерено снарядить и отправить в Южную Африку санитарный отряд, а также каким способом и путем предложено отправить этот отряд к месту его назначения.
Со своей стороны я не премину сообщить Вам немедленно по получении затребованных мною из Берлина и Гааги сведений о порядке отправки в Африку санитарных отрядов из Германии и Голландии. В случае надобности, министерство сделает сношение с Великобританским правительством относительно беспрепятственного пропуска нашего санитарного отряда на место военных действий.
Примите, Милостивый Государь, уверение в совершенном моем почтении и таковой же преданности.
Граф Ламздорф
Ответить, что на этих днях Главное управление соберется, чтобы окончательно решить вопрос о составе нашего отряда и времени отправки его и пути следования. Я буду ожидать уведомления графа Ламздорфа относительно пути и способа отправки германского и голландского отрядов. Настоящую переписку доложить Гл. Упр. в следующем заседании, которое соберется тотчас…
Валерий Польский: «Пытаюсь вырваться на войну, но пока не получается» (1987–1988)
Валерий Геннадьевич Польский (1964–1988), на момент гибели старший лейтенант, помощник начальника отделения разведки 22-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. В 1981 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, с июня 1987 года на службе в Афганистане. Ниже приводится переписка В.Г. Польского с его другом Геннадием Александровичем Скребцовым, переведенным из Афганистана в Вильянди (Эстония). Погиб 6 февраля 1988 года в бою, описанном в последнем письме этой коллекции.
Март 1988 года, Салим Гатаулин — Геннадию Скребцову
Здорово, Гена.
Наверное, мое письмо тебя удивит, но не написать я тебе не мог, зная, что был лучшим другом Валерки. Как мне ни тяжело писать эти строки, но, однако, все уже случилось, и ничего назад не воротишь, и Валерки больше с нами нет. Так обидно, что он погиб ни за что. Просто ужасно. Все по глупости. И главное прямо перед заменой в Союз. Как все это было. Сейчас проходит армейская операция против Мусакалы (все названия, я думаю, ты помнишь). Общий замысел в том, чтобы обеспечить зеленым провести ЛЭП от Каджаков до Лашкаргаха. А этому здорово мешает мулла Насим. К операции привлекаются огромные силы. Но пока мы вышли на север, все духи оттуда уже ушли. Из «Ураганов» и «Градов» все там сровняли с землей и начали второй этап операции — спустились ниже к Сангину, где река Мусакала впадает в Гильменд. Мы с Валеркой входили в состав оперативной группы нашей бригады спецназ, и ходили дежурными на центр боевого управления, и поочередно ходили на войну с разведгруппами вторыми офицерами. Район, сам знаешь, кишит духами. Когда мы вышли в район Сангина, группа, с которой я ходил, вернулась и с ней пошел Валерка. За первую неделю операции мы уничтожили более 30 духов, но белая полоса закончилась. Только группа Ильдара Ахмедшина вышла с КП километров только на восемь, как попала в засаду. Два бронетранспортера спалили сразу же, три бойца тут же были убиты, куча раненых. Это было возле самой зеленки. Ильдар был тоже тяжело ранен, и боем руководил Валерка. Около трех часов они вели тяжелый бой, и их там долбили со всех сторон, хотя на помощь им вышли две группы. Еле-еле разрешили поддержку с воздуха и огонь артиллерии, т.к. в это время командование пыталось мирным путем договориться с духами, и мы с КП видели, как горели наши БТРы. Потом, когда туда прибыл еще один отряд на помощь, там была страшная картина. Группу вытащили, пришли вертолеты, чтобы забрать раненых и убитых. У Валерки чуть-чуть пуля задела голову, он хотел остаться, но медик настоял, чтобы его отправили в стационар. Он сел в ту же вертушку, где лежали трупы, с ним был еще Костя, переводчик и еще трое раненых солдат. Я проводил Валерку до самого вертолета, посадил его туда, и машина взлетела. Я повернулся и пошел на КП. Как вдруг что-то грохнуло за спиной. Я повернулся: вертушка, пролетев метров 500, рухнула на землю. Мы побежали. Валерка был еще живой, но там было страшно смотреть. В сознание он так и не пришел. Вот так, глупо и очень глупо все и произошло. Извини, писать трудно. На душе тошно от такой войны, но думаю, что отомстить еще успею.
Ну ладно. Заканчиваю. Если что — пиши. Адрес у меня такой же, как и у Валерки. Будь здоров. Крепко обнимаю.
Салим Гатаулин.
Да, все это случилось вечером 6 февраля.
Из главы «Деньги войны»
Неизвестный автор: «К чему, например, такие жалованья врачам в Красном Кресте?» (1904)
Анонимный машинописный текст (очевидно, копия оригинального письма) без указания адресата сохранился в архивном фонде Лиги обновления флота — общественной организации, образованной вскоре после окончания Русско-японской войны с целью разработки и пропаганды новых принципов строительства отечественных военно-морских сил, оказания всемерного содействия российскому флоту. Лига осуществляла лекционную, экскурсионно-экспедиционную, издательскую деятельность, занимаясь также сбором свидетельств о причинах поражения флота в войне 1904–1905 годов. Письмо написано не ранее середины ноября 1904 года (по старому стилю).
Подготовка текста к печати и примечания Игоря Ермаченко.
Вот уже 7 месяцев, как я нахожусь в Маньчжурии, и, конечно, я благодарю судьбу за громадный опыт, который я приобрел здесь.
Однако, к большому сожалению, я должен был шаг за шагом разочаровываться во многом, что еще недавно имело для меня прелесть убеждения.
Впрочем, я и ехал сюда работать и учиться, а потому все мной перенесенное так мною и понимается.
Как свежему человеку, попавшему в чуждую ему среду, мне приходилось со многим знакомиться, но зато я и воспринимал ярче. Конечно, это довольно важное преимущество.
Признаться сказать, я встретил много странных явлений, которыми я готов поделиться с Вами, если только Вы не находите этого для себя утомительным.
Я никак не мог понять, как это могло произойти, что во главе управления госпиталями стоит человек, совершенно непричастный к медицине и равно ничего в ней не понимающий.
Я говорю про генерала Езерского, если не ошибаюсь, бывшего полицеймейстера г. Иркутска [11]. Это просто непостижимо, и можно ли после этого удивляться, что постановка подвижных госпиталей и эвакуация раненых, особенно последняя, велась возмутительно.
С другой стороны, во главе всей санитарной части стоит генерал Трепов [12]. Господи помилуй! Да что это за напасть на матушку Русь! Неужели у нас нет людей науки, а универсальным средством от всех бед служит генерал. Ну, и видел же я «генеральскую» санитарию. Это нечто такое, о чем следовало бы поговорить особо.
Тут армия просто пропадает без генералов, а они, голубчики, санитариями занимаются. Все лучше, чем быть в строю. Впрочем, это меня удивило, но я скоро нашел, что отчего же не быть Трепову, так сказать, министром санитарии, если генерал Глазов министром народного просвещения.
Вот поэтому-то и происходят некоторые странности, возможные только на Руси. Генерал Трепов учит докторов медицине и санитарии, а генерал Глазов в восьмом классе гимназии в Харькове в ноябре месяце преподавал Закон Божий и настоятельно рекомендовал ученикам и по окончании курса заниматься Четьи-Минеями (см. «Южный край», № от 3 и 2 ноября).
Жаль только, что наших универсальных генералов приходится обучать военному делу, тем более жаль, что в учителя попадают иногда сердитые люди вроде г-на Куроки [13].
Кстати, [раз] я коснулся генералов, то, уж простите, скажу по этому поводу еще два слова.
Существует у нас опять-таки маленькая странность. Люди, привыкшие к «хозяйственной» части, идут без надлежащего контроля до генеральских чинов и вдруг, во время войны, оказывается, что они совершенно не подготовлены к настоящему [14] военному делу, и можно ли удивляться, что некоторые из наших генералов годились бы скорее для оперетки, нежели для боев. Я мог бы иллюстрировать мои слова целым рядом имен и фактов, но боюсь утомить Вас.
Слава Богу, что теперь три армии, и, кажется, теперь добираются до опереточных генералов.
Если бы Вы знали всю беспардонность некоторых функционирующих учреждений, то, конечно, согласились бы, что многое следовало бы здесь коррегировать.
Сколько здесь лодырей, получающих содержание (и еще какое), ровно ничего не делающих, а между тем «рискующих» получить орден.
Есть и такие явления. Мне в ноябре нужно было получить в Харбине полушубки в складе Государыни Александры Федоровны, но их не оказалось, а вместо них прибыло 70 громадных тюков с летними костюмами и бельем.
Конечно, такое маленькое qui pro quo, т.е. летнее вместо зимнего, может служить темой для юмористического рассказа, но едва ли удобно на войне. Едва ли удобно и такое явление, что Вам отпускают из склада Езерского 5 пудов сахара и 1 пуд чаю, Вы приезжаете домой, и вдруг перед Вами происходит непостижимый фокус: Вы перевешиваете и оказывается, что сахара 3 пуда, а чаю ½ пуда. Знаменитый английский экономический закон law of diminishing returns [15] оказывается применимым и к складам. Конечно, все это явления «трений», без которых не обходится большой механизм, а все же!..
Возьмите хотя бы Красный Крест. Это учреждение довольно бесцеремонно бросает общественные деньги, и даже не на дело, а просто на кутежи. В Харбине, в Главном управлении, без особой необходимости 14 ноября было устроено пиршество на «общественные» деньги с дорогими винами, фруктами и конфектами. Сколько должен стоить такой обед почти на двести человек, тогда как тех же сестер милосердия урезывают в содержании почти на каждом шагу.
К чему, например, такие жалованья врачам в Красном Кресте. Младший врач получает 300 рублей на готовом содержании, тогда как младший врач, взятый из запаса в армию, получает 170.
Положа руку на сердце, я нахожу, что 170 р. достаточно, если я смотрю на войну как на общее национальное дело, а не наживу. Но разве имеет право (конечно, моральное) Красный Крест призывать под свой стяг людей, идущих на войну ради наживы?! Я нашел бы вполне рациональным обязать врачей, работающих в Красном Кресте в мирное время (благодаря многим косвенным преимуществам), работать и на войне; тогда была бы очевидна идейность этого учреждения, столь незаслуженно рекламируемая теперь разными корреспондентами за несколько «сребреников».
Не находите ли Вы, что такие учреждения, как Красный Крест, существующие на пожертвования, не должны платить по 10 тысяч рублей жалования Уполномоченным? Между тем Александровский [16] получает даже до 17 тысяч, а там еще серия — Михайлов, Обрютин и т.д. С какой же стати иметь столь дорогих господ, да еще платить им деньгами, собранными по грошам.
Бросим, однако, это учреждение и перейдем… ох, боюсь, что Вас утомил. Пожалуй, Вы подумаете, что я страдаю манией писания. Что ж, может быть, Вы и будете правы.
Став военным человеком, я познал, и еще как познал, всю безысходную прелесть канцелярщины. Я стал теперь, как боги, по ту сторону добра и зла. Я сделался [пропуск в машинописи] …ем, ибо познал, как может телеграмма, посланная в армии в армию же, бродить три дня и три нощи.
Я познал, что можно быть представленным к двум орденам, и в приятном ожидании провести четыре месяца, и… может быть, и не получить их.
Еще секунду Вашего внимания. В газетах пишут, что земства приглашают врачей на замену товарищей в Маньчжурии. Какая ошибочная мысль. Мне кажется, что нельзя брать отсюда людей, привыкших и приспособившихся к делу, без ущерба этому самому делу.
Что касается меня лично, я счастлив, что попал на войну.
В Маньчжурию я влюблен. Экая богатейшая страна. Чего здесь можно было бы понаделать, и притом идейно.
Я, как и все здесь, убежден, что японцы в недалеком будущем будут сломлены и тогда Маньчжурия будет наша. Попробуйте представить себе такую картину. Маньчжурия взята. Мы замыкаем ее в экономический круг (хотя бы при помощи таможен) и систематически приучаем китайцев к предметам европейской культуры. Благодаря этому является спрос, а с ним, следовательно, и рынок. Наша промышленность, главным образом сибирская, получает могучий толчок, и закипает могучая работа, ведущая к экономическому освобождению из цепких лап Западной Европы.
Мои мечты достигают того, что я вижу дорогую Родину заплатившей свой пятимиллиардный долг, могучей и образованной. Какую можно создать здесь промышленность. Возьмите бумажное дело, мануфактурное, сапожное и проч., и проч. Словом, трудно Вам пересказать все то, чего здесь нельзя было бы не сделать. Я непременно после кампании сюда вернусь и поработаю. (Конечно, Вы простите мне надежду на благополучное возвращение. Так тяжело не верить в сладость увидеть свою Родину.)
Игорь Бояринов: «Не забудь написать, есть ли в городе банк и чековые магазины» (1986)
Игорь Владимирович Бояринов (1964–1986) родился в пос. Найстенъярви Карельской АССР. В возрасте 15 лет был зачислен в Суворовское училище в Ленинграде, после окончания Ленинградского высшего общевойскового командного училища имени Кирова в 1985 году был направлен на службу в Афганистан. Ниже приводятся его письма из Афганистана родителям, которым он сообщил лишь о том, что проходит службу в Туркестанском военном округе, и брату, которому было известно место службы И.В. Бояринова. Погиб 19 сентября 1986 года в бою на перевале Амир.
14 сентября 1986 года
Здравствуйте, дорогие мои мама, папа и Вовчик!
Что-то давно от Вас нет писем, хоть Вы и в Караганду уехали, но все же можно ведь хотя бы пару строк написать, ведь тем более что в поезде все равно времени свободного много.
У меня все по-старому, жив-здоров, чего и Вам желаю. Времени свободного почти нет, все время какие-то дела накапливаются, так что и по вечерам приходится кое-что доделывать.
Погода у нас тут все еще стоит теплая, но по ночам уже прохладно, так что мой отпуск приближается неуклонно.
Мама, я не помню, писал тебе или нет о том, что третью книгу Чаковского «Победа» я уже прочитал здесь, так что в силе остаются только все остальные книги.
Вот вроде и все, что я хотел написать.
До свиданья.
Игорь
Привет от меня всем нашим.
Из главы «Военный быт»
Леонид Покровский: «Все это вместе так полезно и так симпатично!» (1900)
В 1899 году Леонид Семенович Покровский, подпоручик российской армии, написал рапорт о предоставлении ему 11-месячного отпуска для участия в Англо-бурской войне. Российское командование легко отпускало добровольцев в Южную Африку, и в течение 1900 года Покровский принимал активное участие в боевых действиях в составе одного из партизанских отрядов буров. В начале 1900 года переслал домой с оказией несколько писем, которые были напечатаны весной-летом 1900 года в газете «Варшавский дневник». Получил тяжелое ранение 24 декабря 1900 года и скончался на следующий день.
15 февраля 1900 года
Из Трансвааля
От нашего корреспондента
Ледисмит
Ни шумных рукоплесканий, ни торжественных криков «ура», ни теплых сердечных пожеланий успеха и благополучного возвращения, что обыкновенно сопровождает всех здешних воинов, ничего этого не было при моем отъезде из Претории на театр военных действий. Я поехал к Ледисмиту. С дневным поездом пассажиров очень мало. Буры предпочитают уезжать из Претории в 8 часов вечера. Пустые вагоны, пустой вокзал вообще плохо отзываются на нервах, а на развинченных — тем более. Мрачные мысли неотступно преследовали меня: Что будет со мной? А если убьют? Но ведь на то же пошел, — успокаивал я сам себя. Вполне я это понимал, смотрел на все слишком просто, но человеческая душа бывает очень прихотлива. Случались ли с вами большое горе или весьма большая радость? Если — да, то вы сами знаете, как велика бывает тогда потребность открыть свою душу кому-нибудь из друзей, из близких вам, высказаться… А почему нет? Отчета вы себе не отдаете. Вы знаете только, что вы получили какое-то невольное облегчение, как вы говорите, — будто гора с плеч свалилась. Бывает и другое состояние нашей души. Берешься за какое-нибудь опасное дело, знаешь, что выполнишь его, надеешься на себя, на свои силы и, во всяком случае, не боишься результатов, даже и дурных, но… невольно хотелось бы поддержки, хотя бы одного только теплого ласкового напутственного слова. И это-то слово как бы придает энергии, успокаивает возмущающиеся нервы.
Это вообще не трусость и не боязнь неведомого, нет… Это общая слабость человеческой души. Если вы проверите себя, и проверите в надлежащей обстановке, то вы согласитесь со мной… Все это быстро пронеслось в моей голове. И понял я свое одиночество… Вспомнил я родину, отца, мать… Как горько поплакали бы они, провожая своего сынка на опасное дело. Вспомнил я прощальные проводы на вокзале при отъезде из Варшавы: мои добрые товарищи, знакомые дамы, барышни… мои признательные к начальнику унтер-офицеры. Как просты, сердечны и теплы были их напутственные пожелания. А вот мой верный друг В.Ф.М., своим светлым и ласковым взглядом да добрым словом всегда умевший успокоить мои возбужденные нервы. С какой любовью сует он мне в багаж последние №№ русских газет, бутылку старого венгерского, шоколад.
А поезд уже давно идет и далеко унес меня от столицы Трансвааля. Быстро мелькают в окнах вагона зеленые вершины гор, показывая то одну, то другую сторону. А колеса стучат да стучат, то учащая, то замедляя выбиваемый ими такт. Нервно покачиваются вагоны, наклоняясь то в одну, то в другую сторону. Неудобна для езды проложенная в горах железная дорога Южной Африки. Прямой путь невозможен. Туннели были бы слишком часты, а следовательно, дорога обошлась бы очень дорого. Строители предпочли проложить рельсовый путь прямо по скатам гор, не стесняясь вышиной подъемов. То приходится огибать большую гору, то карабкаться на вершину ее, лавируя по одному и тому же скату в три или четыре пути, с обязательным наклоном поезда в сторону возвышенности. Но что неприятно, так это стремительная быстрота при спусках с гор и весьма медленное карабканье на вершину. Картина однообразия была прервана известковыми заводами в окружности города Flesfantijn. Огромные склады плит ослепительной белизны, разбросанные на большом протяжении, свидетельствуют о богатых известковых залежах. Из всех городов, попадавшихся на пути, остановил на себе мое внимание город Heidelberg, расположенный в живописной долине, по обеим сторонам маленькой горной речонки, щеголявшей своей чистотой и строго правильной и красивой распланировкой. Здесь все мило, все уютно. И солнце как будто не так палит. И народонаселение почему-то симпатичнее, а женщины — много красивее, чем в других местах Трансвааля. На попутных станциях вагоны понемногу наполнялись бурами, то впервые едущими на войну, то возвращавшимися из кратковременного отпуска или из госпиталей. Стало оживленнее. Беседы, толки, споры не умолкали ни на минуту, некоторые заговорили о Ледисмите и Коленсо. В последнее время, после Спионскопских дел, ввиду большого сбора войск неприятеля в Капской колонии, оранжевые буры вместе с их артиллерией были отозваны из-под Ледисмита и Коленсо к Кольберу, в свое отечество; туда же было послано и много буров Трансвааля. Защитники Коленсо и Тугелы решили, что в Натале война кончена и что после Спионскопа англичане не захотят атаковать сильные позиции.
Ходили слухи, что много войск неприятеля отозваны в Дурбан и далее в Кап для вторжения в Оранжевую Республику с юга и для защиты Кимберлея. Со дня на день ожидалась сдача Ледисмита. Уже буры в некоторых местах сами перешли Тугелу, выгнали англичан из Коленсо, все, казалось, благоприятствовало, и улыбающиеся физиономии иррегулярной армии надсмехались над европейской тактикой и европейскими воителями. Но вдруг генерал Буллер сосредоточивает большинство своей армии у Коленсо и открывает сильнейшую артиллерийскую канонаду. И понеслись гранаты десятками, сотнями, тысячами… Поняли, что сила и солому ломит.
Куда девалась их самоуверенность??!! Всюду опасения, всюду неблагоприятные предположения.
Легко сказать, — говорили они мне, — ведь у нас под Коленсо всего только две с половиной тысячи, а их, англичан-то, до четырнадцати тысяч. Вот тут и воюй! Да и то мы надеемся победить, — добавляли они уже с заметным недоумением в голосе, — ведь правда, да? И в этом «правда» так вот и слышалось: Ну скажи, что правда, что тебе стоит, видишь, я боюсь, поддержи же меня!
Узнав, что я русский, большинство тотчас же окружило меня, и все стали спрашивать о русской политике в Азии, Герате, Афганистане. Индия интересовала их не менее Коленсо. Отчего вы не хотите идти в Индию, для вас теперь самое время разгромить Англию, — осыпали меня со всех сторон подобными вопросами мои возбужденные соседи. Долго мне пришлось увещевать, что у России слишком много своего внутреннего дела, самим русским нельзя начинать войну, что еще так недавно по почину России собиралась в Гааге конференция по вопросам о международном мире, и, наконец, говорил, что нам Индия и вообще какая-либо чужая земля не нужна и что у нас и так очень много земли. Мои соседи со вниманием слушали и соглашались по каждому пункту в отдельности и даже поддакивали, но представьте себе мое удивление и даже озлобление, когда после всех моих доводов мне красноречиво заявили: вы боитесь Англии, а потому и не воюете с ней, да это не только вы, русские, да и вообще все европейцы. Зачем же я так долго убеждал их, зачем же они выслушивали мои доводы и даже соглашались со мной. Да, наконец, к чему весь этот разговор, если все они с заранее предвзятым решением? — размышлял я, ошеломленный подобным исходом нашего разговора. Оправдываться, оспаривать я находил недостойным для русского офицера: слава русского оружия, доблести и храбрости русского воина далеко гремят за пределами России и одинаково известны им, африканерским бурам.
— Это они вас подзадоривают, — заговорил со мной по-французски мой сосед по скамейке, голландец m-r Kothe, живший в Занзибаре и недавно приехавший в Трансвааль, — они просто хотят, чтобы Россия объявила Англии войну, и тогда прикончится война в Трансваале.
— Но зачем же они все это мне-то говорят, ведь я же ничего не могу сделать для них, — возразил я.
— О нет, — заявил мой сосед, — буры надеются, что вы напишете в Россию и что ваше письмо там подействует.
— Да ведь не могу же я объявить Англии войну, хотя бы даже и в газетах, а если и напишу, так разве послушают меня? — начинал горячиться я.
Тем временем подъехали мы к Elandslaachte, знаменитому каменноугольными копями. Отсюда идут блиндированные поезда. Оседлав свою лошадь, я оставил свой багаж любезному Kothe, а сам поскакал на Моддер-Спруйт, последнюю станцию перед Ледисмитом. При станции — лагерь для приезжающих. Kothe приехал с поездом раньше меня и уже хлопотал у чайника с кофеем. Немного отдохнув и закусив, я отправился в главный лагерь, — это недалеко, ½ часа езды. Что-то мне скажет генерал Жубер? — волновался я, нахлестывая своего уставшего коня.
Леонид Покровский
Николай Коваленко: «Пояс радикулитный я постараюсь найти» (1999–2000)
Николай Дмитриевич Коваленко родился 18 мая 1962 года в станице Старогладковской Шелковского района Чечено-Ингушской АССР. В 1990 году переехал с семьей в Нижегородскую область. В 1996 году поступил на службу в Вооруженные силы РФ. По приказу командования осенью 18 сентября 1999 года убыл на Северный Кавказ. 3 января 2000 года был ранен во время боя с боевиками, скончался от полученных ран.
Без даты, декабрь 1999 года или начало января 2000 года
Привет, сестричка!
Сколько радости приносят весточки от родных и близких тебе людей, может тебе объяснить твой муж. Здесь, конечно, не Афган, но тоже не курорт. Не слишком дружелюбно встретила меня родина. Но от этого только еще долгожданнее становятся ваши письма. Я, конечно, лодырь писать, а вот получать здесь письма просто необходимо. Ими хоть как-то подпитываешь себя. Ведь серая армейская жизнь пожирает очень быстро все положительные эмоции. Да и погода здесь не сахар. Туманы висят и днем, и ночью. Неделями солнца не видно. Грязь долазит до ушей, благо, баня спасает. Соорудили и для солдат, и для себя. Для себя с парилкой, поэтому отмываться и стираться есть где. Со здоровьем проблем пока нет. По службе вроде бы тоже все нормально. Единственное, хочется, чтобы побыстрее все кончилось. По обстановке, пожалуй, к этому все идет. Так что, возможно, возвращение не за горами. У вас прибавилось забот с Мариной. Но ничего тут не поделаешь. Они — наши дети. И если сейчас не побеспокоиться, потом будет сложнее. Благо, у нее есть желание, судя по всему.
Сергею сейчас опять забот прибавилось. Ему всегда везло. Но ничего не поделаешь. Пока носишь погоны, выбирать не приходится. Все равно кому-то надо. А отсиживаться в тени не пристало нам.
Вот такие дела.
Поздравляю с Рождеством Христовым и Старым Новым годом. Всего наилучшего в Новом году.
С массой наилучших пожеланий твой брат.
Николай
Примечания
↑1. Подробнее о фрагментации как основной характеристике травматического письма см.: Ушакин С. Вместо утраты: Материализация памяти и герменевтика боли в провинциальной России // Ab Imperio. 2004. Vol. 2. С. 603–639.
↑2. Подробнее о символизации травматического опыта см.: Травма: Пункты: Сб. статей / Под ред. С. Ушакина и Е. Трубиной. М.: НЛО, 2009.
↑3. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. IV. М.: Прогресс, 1973. С. 151.
↑4. Розанов В. Война 1914 г. и русское возрождение // Розанов В. Последние листья. М.: Республика, 2000. С. 319.
↑5. Подробнее о роли эмоций в социальных процессах см.: Vinitsky I. A Cheerful Empress and Her Gloomy Critics: Catherine the Great and the Eighteenth-Century Melancholy Controversy // Madness and the Mad in Russian Culture / Eds. A. Brintlinger, I. Vinitsky. Toronto: Toronto University Press, 2007. P. 25–45; Angst im Kalten Krieg / Hg. B. Greiner, Chr. Th. Mueller, D. Walter. Hamburg: Hamburger Edition, 2009; Лившин А.Я. Настроения и политические эмоции в Советской России 1917–1932 гг. М.: РОССПЭН, 2010; Interpreting Emotions in Russia and Eastern Europe / Eds. M.D. Steinberg, V. Sobol. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2011; Нагорная О.С. «Полковник беззвучно зарыдал, слезы были на глазах у всех офицеров…»: Коммуникации эмоций за колючей проволокой // Диалог со временем. Вып. 35. М.: URSS, 2011. С. 195–205. О материальности эмоций см. тематические блоки «Объекты аффекта: к материологии эмоций», опубликованные в журнале «Новое литературное обозрение» (2013. № 120, 121).
↑6. Более подробно об этом см.: Говорят живые и мертвые. Воспоминания, солдатские дневники и письма / Под ред. Г. Егорова. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1985. С. 587–588; Martha Hanna. A Republic of Letters: The Epistolary Tradition in France during World War I // The American Historical Review. 2003. Vol. 108. No. 5 (December). P. 1338–1361.
↑7. Benjamin W. The Arcades Project. Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1999. Р. 204–205.
↑8. Ibid. P. 205.
↑9. Ibid. P. 211.
↑10. Stewart S. On Longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir, the Collection. Durham, N.C.: Duke University Press, 1993. Р. 151–166; Clifford J. The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988. Р. 215–251.
↑11. Езерский Семен Иванович (1852–1921), в годы Русско-японской войны генерал-майор, в апреле 1904 года назначен инспектором госпиталей Маньчжурской армии, в феврале 1905 года — инспектором госпиталей тыла, с апреля 1905-го по декабрь 1906 года — инспектор госпиталей Владивостокской крепости.
↑12. Трепов Федор Федорович (1854–1938), в годы Русско-японской войны генерал-лейтенант; с апреля 1904 года — начальник санитарной части Маньчжурской армии, затем — исполняющий должность начальника санитарной части при главнокомандующем всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, действующими против Японии.
↑13. Куроки Тамэмото (1844–1923), японский генерал, командующий 1-й армией.
↑14. Здесь и далее, очевидно, при машинописной перепечатке скопировано авторское выделение.
↑15. Закон убывающей отдачи (закон убывающей доходности).
↑16. Александровский Сергей Васильевич (1863–1907), весной 1904 года заменил Ф.Ф. Трепова в должности главноуполномоченного Российского общества Красного Креста.
Источник: XX век: Письма войны / Сост., вступ. статья, ред. С. Ушакин, А. Голубев; подготовка документов Е. Гончарова, И. Реброва. М.: Новое литературное обозрение, 2016.
Читать также





Комментарии