Нина Кривошеина. Четыре трети нашей жизни. Воспоминания
Ультраправый соблазн русской эмиграции: борьба за «борьбу»
 7 059
7 059 
© Фото: Кривошеина Н.А. Четыре трети нашей жизни: Воспоминания. М.: Русский путь, 2017.
Воспоминания дочери крупного промышленника А.П. Мещерского Нины Алексеевны Кривошеиной (1895–1981), бывшей замужем за сыном министра земледелия и премьер-министра врангелевского правительства А.В. Кривошеина, повествуют о жизни семьи, необычной и в то же время характерной для эпохи. Детство и юность в дворянском дореволюционном Петербурге, уход из России пешком через лед Финского залива, эмигрантская жизнь во Франции, Вторая мировая война, высылка в 1946 году на родину, репатриационный лагерь, арест мужа, нищета и снова Париж…
Младороссы
В один из дней я прочла в газетах о процессе, который был в 1930-м или 1931 году в Ленинграде, где судили «монархистов», во главе которых стоял офицер царской армии Николай Васильевич Карташев; всех, конечно, расстреляли, а Карташев после приговора успел крикнуть: «Да здравствует царская Россия! Да здравствует законный царь Кирилл Владимирович!»
Это известие меня потрясло: на снимке из зала суда, перепечатанном «Последними новостями» из советской «Правды», была группа из пяти человек, какие-то неясные черные фигуры, а посередине — высокий, худощавый, статный, с прекрасными, поднятыми над головой руками Карташев! Я его помнила как чудесного танцора, с чарующей улыбкой, с каким-то особенным плоским, чисто татарским лицом, со светлыми серо-желтоватыми кошачьими глазами, с совсем особой походкой и повадкой — его все же можно было узнать на этом трагическом снимке, милого Кокочку, который, опираясь на трость и слегка приволакивая раненую ногу, пришел к нам на Кирочную в октябре 1916 года вместе с Васей Мещерским. Он бывал часто, играл в общей компании в бильярд; моя старшая кузина наигрывала вальсы, фокстроты и танго в полутемном зале, и тогда я с ним танцевала всласть, ведь он так чудесно танцевал! Но с ним можно было говорить и о другом — он, казалось, всегда все понимал, хотя особого образования, кроме военного, не получил. Но ведь есть же люди, обладающие даром обаяния, и вот у него он был — а ведь вернее всего его можно было бы назвать немецким словом “Taugenichts” — милый бездельник.
Он был неравнодушен к моей сестре, это было серьезно, но… тут вмешалась моя мать, и, увы, Кокочка сразу от нас исчез… Через год или полтора, уже в революционное время, он женился и жил в той самой квартире на Кирочной, 32, в доме Ратькова-Рожнова, где мы прожили целых девять лет до переезда в собственный дом на Кирочной, 22.
Итак, вот этот очаровательный бездельник стал участником громкого монархического заговора, публичного процесса, и теперь уж расстрелян, и… теперь уж герой! Очевидно, никому не нужный герой… как, впрочем, почти все герои.
А кто же начал, в общем, это нелепое дело? Оказалось, «послали», вернее, заслали в бывшую Россию кого-то и этот кто-то собрал монархистов — да и сам был расстрелян. Возможно ли, что еще можно найти там, «за чертополохом», людей, хранящих монархический идеал и даже идущих за него на смерть? Казалось, это просто невообразимо.
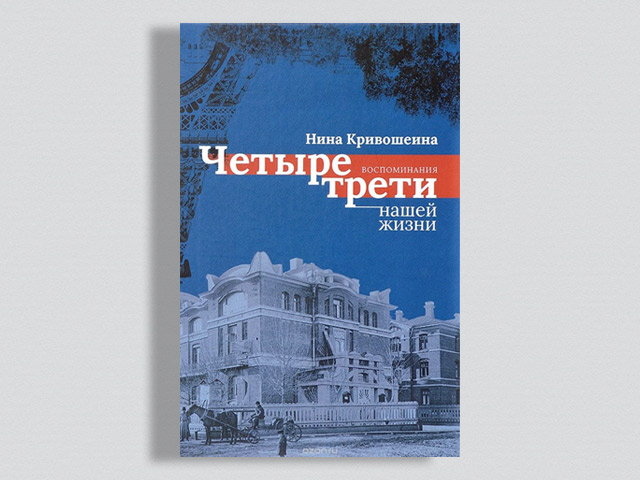
В это время я встретила приятных людей, которых знала мало, они были оба порядочно старше нас: Адам Беннигсен и его красавица жена Фанни. У кого мы встретились, не помню; шел общий разговор, скоро перешедший на обсуждение похищения и гибели генерала Кутепова, — каждый говорил, что знал про это дело, а я потом упомянула и про монархистов в Ленинграде, и про «ненужную, будто бы никчемную смерть Николая Карташева». Беннигсен мне возражал; он сказал, что я не в курсе дела, что корень заговора здесь, в Париже, — партия младороссов. Это еще что за зверь?! Я смеялась и пожимала плечами, все это для России кончено и ненужно. Однако Адам Беннигсен мне сказал, что Миша Чавчавадзе, муж его bellesoeur, уже некоторое время назад вступил в эту партию, что во главе ее стоит некто Александр Львович Казем-Бек и что там много талантливых людей. Беннигсен считал, что это чрезвычайно интересное явление — новая политическая партия, рожденная самой эмиграцией.
Через несколько дней Миша Чавчавадзе сопровождал меня в кафе Le Vaugirard в 15-м районе Парижа, где проживало много русских: так я попала к младороссам и так… там и осталась.
Вскоре в младоросской партии был создан женский отдел — или «очаг», — все члены партии входили в очаги, вверху пирамиды был «глава», этим главой и был сам Александр Казем-Бек, человек примечательный, обладавший блестящей памятью, умением тонко и ловко полемизировать и парировать атаки — а сколько их было! С ранней юности он был скаут, еще в России он был скаутом, в шестнадцать лет участником Гражданской войны, потом участником первых православных и монархических съездов в Европе. Человек честолюбивый, солидно изучивший социальные науки и теории того времени, с громадным ораторским талантом, он имел все данные стать лидером; а так как все русские политические организации — кадеты, эсдеки, эсеры — рухнули под натиском марксистского нашествия, то и надо было найти нечто иное, создать что-то новое. Таким образом, младоросская партия оказалась единственной новой, то есть не дореволюционной партией, а партией, родившейся в эмиграции, и нравилась она или нет — она и до сих пор остается единственным политическим ответом в зарубежье на большевистскую революцию [1].
Был ли это просто ответ на новый социальный фактор 30-х годов XX века — ФАШИЗМ? Да, конечно, это отчасти так и было, и в 1935–1936 годах как белый, так и красный фашизм довольно-таки ярко и четко выявили свою гадкую мордочку среди младороссов. Главное, что меня привлекло к ним, — был их лозунг: «Лицом к России!». Лицом, а не задом, как поворачивалась эмиграция, считавшая, что с ней из России ушла соль земли и что «там» просто ничего уже нет. Конечно, это «лицом к России» не все младороссы могли вполне воспринять и переварить; иногда они впадали в нелепое и почти смехотворное преклонение, в восторг перед «достижениями». В первые же месяцы моей младоросской эры мне пришлось быть на докладе о промышленных и технических достижениях в Советском Союзе, где повторялись вслепую данные советской прессы и где выходило, что до 1920 года в России вообще не было промышленности, ни техники… вообще ничего! Я заявила, что на следующем же собрании этого «очага» берусь доказать, насколько все тут ошибаются. В самом деле, через неделю, собрав в памяти все, что я могла знать о развитии тяжелой промышленности в России от моего отца, я рассказала «очагу» о фабриках московского или волжского купечества, о теплоходах на Волге, о телефонизации (одной из старейших в Европе!) и т.п. Сперва мне кто-то возражал, и даже довольно резко, но я не дала себя забить, и кончилось тем, что многие (из более молодых младороссов особенно) признались, что первый раз в жизни все это слышат.

Нина и Игорь Кривошеины (за рулем автомобиля).
Франция, Изер. 1932 г.
Ну, а другое, что меня привлекло к младороссам, — это принцип «орденства», служения; мы не просто партия, говорил Казем-Бек, мы Орден, но не с тайным заданием, что часто встречается, а с заданием открытым — служение России. Принцип монархического возглавления будущей России сперва казался мне неудачным, недемократичным, уже изжитым — особенно после мрачных событий и атмосферы, окружавших последнего монарха и его столь непопулярную жену… Казалось, этому возврата не будет.
Был у нас в то время друг, много старше нас, Егор Васильевич фон Дэн, последний русский консул в Париже — вежливый, галантный, просвещенный прибалтиец; мать его происходила из старого сибирского купеческого рода. Он твердил мне, что младороссы — это дурость, мода, ерунда, и непонятно, что я там, собственно, делаю?! Как-то он зашел к нам, я была дома одна; сидели, распивая крепкий чай и покуривая, и вдруг, после иных житейских тем, Егор Васильевич сказал (отлично помню каждое слово): «Я упрекаю вас, что вы у младороссов, будто в этом есть какой-то nonsens, а по-настоящему я и сам глубоко предан России и монархической идее: для меня, сына балтийца, государь был сюзерен, которому я был обязан служением, а будучи и сыном сибирской купчихи, я воспринимаю царя русского как своего царя. Да, да, — прибавил он, помолчав, — думаю, даже уверен, что будет момент, когда по Москве проскачет белый конь, и вот если вы, младороссы, успеете в этот момент посадить на него русского царя, то и будет в России снова царь. Но это будет одно мгновенье, и если вы пропустите его, тогда — конец навсегда!» Теперь, в 1978 году, ясно, что если кто и посадит царя на белого коня, то уж никак не младороссы, — иных уж нет, а многие далече, и от всей младоросской партии мало что осталось, даже документы младоросские — все исчезло. А ведь, пожалуй, белый конь когда-то еще проскачет, но… некому и некого будет на него сажать.
Сейчас я уж просто не в состоянии изложить всю младоросскую политическую «постройку» будущего России; писал эти теоретические выкладки главным образом сам Казем-Бек, но ему помогал главный секретарь и доверенное лицо Кирилл Величковский. Это было довольно-таки продуманное сооружение русско-общинной демократической монархии. Величковский, который тогда тоже был еще очень молод, лет двадцати восьми — тридцати, имел солидное политическое образование и вполне очевидно испытывал сильное влияние Шарля Морраса (Charles Maurras), известного идеолога французской монархической партии, издававшего в то время интересный ежемесячный журнал Le Courrier monarchique [2].
Программу свою младороссы тщательно изучали, а некоторые, не столь шибко грамотные, просто зубрили ее наизусть. Понемногу у многих из них укоренилось твердое убеждение, что раз «глава» так сказал или так написал — значит, это правильно, больше и думать тут нечего. «Глава» — это был Казем-Бек, и многие, когда он появлялся, вскакивали и громкими деревянными голосами кричали: «Глава! Глава!» Появились значки под номерами, бело-черно-желтого цвета «штандарт», твердо наметились возглавлявшие «очаги» начальники. К 1935–1936 годам у младороссов окончательно оформились внутренняя структура, иерархия и дисциплина. Итак — все тот же пресловутый «культ личности» и столь нам теперь уж известное построение общества пирамидой, приводящей к «единому, все понимающему отцу»?.. И да, и нет: наверху стоял монарх, он-то и был отец всех, а никак не «глава» партии.
Много тут было и смешного, и жалкого, и подражательства всему тому, что тогда владело умами. Я с большим интересом и азартом работала в женской секции, где под конец было более сорока — пятидесяти участниц; главная наша тема была, конечно, новая женщина, ее облик, ее участие в будущем родной страны. Тогда все это дело мыслилось в плане чисто общественном и политическом. Собрания проходили живо, и это уводило нас всех от эмигрантской рутины.
Я напечатала тогда несколько заметок в младоросской прессе (подписывалась: Н. Алексеева), прочитала за год три открытых доклада о русских революционерках — Софье Перовской, Вере Засулич и Вере Фигнер. Вот это было чрезвычайно занятно; я ходила в Тургеневскую библиотеку, которая в то время была по-настоящему русским культурным центром Парижа и где мне все было по душе; там можно было найти всю нелегальную литературу царских времен, начиная от ленинской «Искры», были и все энциклопедии, и также чрезвычайно интересные книжечки «Издательства политкаторжан», которые появились в СССР в 1920-х годах и которых теперь и днем с огнем не сыщешь. Доклады я готовила тщательно, хоть аудитория и была «своя», — однако на каждый доклад набиралось человек сто — сто двадцать, а после доклада задавали вопросы, и вот на них-то надо было сразу и не задумываясь ответить. Особенно всех волновали вопросы террора, его возможных последствий и вообще допустимости террористических актов. Знали ли все мы тогда о том, что творилось в России — на Соловках, на пресловутых стройках, при коллективизации деревни, при разорении приходов и взрыве церквей? Казалось, должны были не только знать, но и громко кричать про это. Но мы шли своим путем.

Вечеринка в ресторане «Самарканд».
Париж. 1920-е гг.
Помню, как в 1932-м или 1933 году у младороссов появилась Татьяна Николаевна Сиверс с сыном, юношей лет семнадцати; она была старшая сестра Е.Н. Муравьевой, которая в 1926 году выступала с романсами в «Самарканде». Много она рассказывала о жизни в России — ее муж погиб на Соловках, она туда ездила к нему на свидание и если не все, то многое увидела и поняла… Будучи сама по-настоящему верующей, она в те годы принимала активное участие в помощи арестованным священникам и верующим. Полное отсутствие писем из России тоже могло бы навести на мысль о том, что там творится…
Сейчас, через шестьдесят лет после начала эмиграции, многие «союзы», «землячества», «объединения», как ни удивительно, все еще существуют — это, наверное, доказывает живучесть русских на чужой земле. Некоторые чисто бытовые учреждения сами отмерли за ненужностью: приюты, дешевые столовые, ясли — ведь среди русских эмигрантов в третьем поколении нуждающихся родителей больше нет, уже и второе поколение недурно устроилось. Пока держатся лишь старческие дома, давно, правда, перешедшие в ведение французского социального страхования; продолжаются и уроки русского языка для малышей при некоторых церковных приходах, а многие подростки учат в школе русский язык как иностранный.
Из политических же объединений первых десятилетий эмиграции до сегодняшнего дня дожил только НТС — и живет он полнокровно; а вот найти хоть малый обломок младоросской партии нельзя. Подул над Европой ветер — и все сразу рухнуло и распалось! Во время «чудной войны» (drole de guerre, 1939–1940) многие младороссы попали во французский концлагерь Vernet; французская полиция твердо знала младоросский лозунг, скажем прямо, несколько экзотический: «Царь и Советы»; первое слово забылось, а вот “Les Soviets” было весьма мало популярно, оно живо напоминало клики преданных Сталину коммунистов: “Vive les Soviets!”. Сам Казем-Бек тоже некоторое время пробыл в Vernet, но вскоре сумел освободиться, в начале июня 1940 года уехал на юг, оттуда в Испанию, а затем, вплоть до 1957 года, жил в Калифорнии. Его отъезд сильно огорчил и даже покоробил многих младороссов. Правда, некоторые говорили: «Что ж, ему самому, что ли, в петлю лезть? Немцы его живо бы забрали!» Это так, но что-то все же выходило вроде “sauve qui peut!” (спасайся кто может), в Испании у Казем-Бека была высокая протекция в лице Кирилла Владимировича. Отъезд этот похоронил еще вполне живых политически и морально членов младоросской партии, которая никогда не смогла вполне оправиться от «ухода» Казем-Бека и его группы. Война и оккупация докончили этот распад, и во время оккупации, а позже во время Холодной войны многие младороссы уничтожали имевшиеся у них газеты, документы, статьи, так что теперь какие-то случайные обрывки младоросской печати остались лишь в некоторых библиотеках. Говорили, что, например, евразийцы — несколько высоколобое и чисто интеллигентское движение в эмиграции — были вызваны к жизни и даже организованы советскими агентами. Однако с тех пор само слово «Евразия» стало чуть ли не обиходным и всем известным. Говорили и про младоросское движение то же самое. А вернее всего, каждое поколение дает в жизни свои собственные ответы, соответствующие эпохе.
В 1934 году, шестого июля, в невероятно жаркий вечер под Ивана Купалу, появился на свет (именно появился, через кесарево сечение) наш сын Никита, и жизнь моя изменилась целиком. Кроме маленького ребенка, в квартире на Jean Goujon оказалась и няня, так как мне долгие месяцы запрещалось подымать что-либо тяжелое; в ту пору кесарево сечение считалось тяжелой операцией — ее обычно и не повторяли.

Мама с сыном.
Париж. 1934 г.
Няни у Никиты были до четырех лет, и было их две: первая — русская, отличная няня, хотя и несколько капризная; вторая прожила у нас два с половиной года и была неграмотная полька, Анеля, уже немолодая, перешедшая к нам из семьи барона Палена, где она прожила целых двенадцать лет; мне пришлось с ней расстаться в 1938 году, когда во Франции внезапно грянул экономический кризис, цены резко повысились и каждое пятнадцатое число у меня в семейной кассе было просто пусто.
После долгого перерыва я снова стала посещать младоросские собрания; там появились у меня и многочисленные друзья — некоторые на всю жизнь… Из них первые — Ирина Николаевна и Александр Александрович Угримовы. Это был «младоросский брак»: сперва я узнала Ирину, а потом уж ее жениха Шушу (это ласковое прозвище А.А.У.); свадьба их была году в 1931-м; постепенно мы близко сошлись и со всей семьей, с родителями Шушу — профессором Александром Ивановичем Угримовым и его женой Надеждой Владимировной, и дальше эта дружба распространилась и на все их нисходящее поколение и родичей.
Да и жизнь как-то особенно спаяла наши две семьи: в течение целых сорока лет судьбы наши шли параллельно; дети наши — Татка у Угримовых и Никита у нас — родились на расстоянии шести месяцев друг от друга; войну 1939–1945 годов мы прожили почти целиком вместе — вместе спасались от немецкого нашествия в тихом местечке Франции Шабри (на реке Шер, за Луарой), где нас немцы и настигли. А потом Париж, голодный, холодный, черный, и знаменательная дата 22 июня 1941 года. И дальше — оба мужа наши с Ириной Николаевной — участники движения Сопротивления во Франции, и дальше… а дальше замена «нансеновского» паспорта советским в 1947 году, и, наконец, в апреле 1948 года отъезд нашей группы в тридцать два человека из Марселя на электроходе «Россия» туда, на Родину, где уже с октября 1947 года были наши мужья. Ну и потом там, «за чертополохом», костяная рука настигла Угримовых почти сразу, через три месяца после приезда Ирины Николаевны в Москву, а нас с опозданием почти на год, в сентябре 1949 года, когда мой муж был арестован чинами ЧК и, как и Угримовы, осужден на десять лет лагеря…
Но это впереди, а пока еще время довоенное, и тут вспоминается невольно один малоприятный для меня момент. Придя как-то в 1937 году на очередное собрание в кафе «Вожирар», я поняла, что все мои друзья, именно те, с кем я чувствовала себя в полном единении настроений и мыслей, как-то молниеносно покинули младоросскую партию и, звонко хлопнув дверью, вышли из ее состава. Я была потрясена тем, что они это сделали, даже не предупредив меня, — значит, видимо, считали, что я не из «семи пар чистых» и, собственно, к их группе вовсе и не принадлежу! Я позвала к себе Шушу как главного организатора этого «ухода», который тогда вызвал немало шума и толков, и было у меня с ним громкое и малоприятное выяснение отношений. Я ему заявила, что понимаю его положение в этом деле, так же как и всей его группы, но раз уж они меня так презрели и обошли, то я останусь у младороссов и буду продолжать вести все ту же антифашистскую линию… Для меня это событие было очень болезненно — не только личный «провал», но и элемент отчуждения от людей, которых я считала друзьями. Эта группа тоже начала устраивать собрания, она печатала небольшую газету «Русский временник», многих я быстро потеряла из виду. А у младороссов я продолжала как раньше, и даже с большим азартом: особенно много работала с молодежными группами, учила их правильно говорить по-русски, следить за русской и советской литературой и, главное, постараться разобраться в том, что же такое фашизм и что он с собой несет. Я тогда где-то прочла фразу (верно, у Шарля Морраса): “II faut servir l’ideal sans illusions!” («Служить идеалу, не строя иллюзий!»). Это стало основным положением всех моих «собеседований» с иногда очень юными девочками, и неожиданно уж после войны кто-то из них пришел мне рассказать, что многое из того, что тогда говорилось, потом, во время оккупации, сыграло решающую роль в их поведении.

Никита на прогулке с мамой в Люксембургском саду.
Париж. 1936 г.
Лето 1938 года я провела с Никитой, которому тогда было четыре года, в Белграде, и представляла его той, другой семье. Сестра моя жила очень хорошо, работала у одного из виднейших адвокатов Белграда, милейшего хорвата Олипа, квартира была просторная — в старом турецком доме с большим внутренним двором. Лето стояло жаркое, мы часто ездили на Дунай купаться, в доме вечно толклись русские белградцы. По вечерам играли в бридж на несколько столов, потом поздно садились ужинать. Устраивались пикники и поездки. Словом, в этом новом Белграде, преображенном чудными стройками, парками, фонтанами, жилось весело и беспечно. А в середине сентября я с Никитой, моей сестрой и ее мужем Сергеем Ивановичем Энтелем поехали в Блед на виллу Олипа, где нам открыли две громадные комнаты, кухню, ванную; это был бывший австрийский Тироль, очаровательное зеленое местечко на берегу небольшого озера; там отлично отдыхали, гуляли по лесам, где собирали массу рыжиков, которые потом солили, ездили на извозчиках в тирольских шляпах с перышком в дальние поездки по прекрасным бывшим австрийским шоссе… И вдруг однажды утром Сергей Иванович вбежал в дом с газетой в руках, крича: «Война, война! Во Франции уже всеобщая мобилизация!» Да-да, за прогулками и рыжиками мы газет просто не читали… Эта новость ударила, как молния.
Через час я уж решила, что нынче же с ночным поездом уезжаю с Никитой в Париж. Настроение было паническое; сестра уговаривала меня остаться в Белграде, говорила: «Увидишь, немцы в неделю займут Францию, и война кончится, тогда и поедешь». Но я твердо решилась, и вот ровно в полночь ловкий носильщик побросал в тамбур вагона 3-го класса мои вещи, меня и Никиту, и поезд тронулся — а стоял он в Бледе всего одну минуту. Я успела крикнуть сестре, что весь вагон и все проходы заняты сидящими на полу сербскими эмигрантами, едущими в Америку с курами в клетках и кадками, что нигде нет свободного места. И мы поехали в ужасное путешествие среди обезумевших от страха перед начинавшейся войной пассажиров. У меня было с собой всего сто франков, что в пути оказалось невероятным осложнением…
Так началась новая эра. Правда, война началась только через год, но уже все было ясно, карты были сданы, и козырями поначалу владел Гитлер. Поездка наша была ужасна: Никита от такой неожиданности, случившейся в его детской жизни, совсем онемел; он хоть и не плакал, но судорожно цеплялся за мое платье; на швейцарской границе стояли целых пять часов — не то пропустят, не то нет! Но вот, наконец, мы переехали из Базеля швейцарского в Базель французский, нас прицепили к другому поезду, поставили второй паровоз-толкач, и начальник станции в знакомой французской кепке набок, с раскрытым воротом мундира, малиновый от волнения, со слипшимися волосами, наконец махнул красным флажком и крикнул: “Eh la! roulez au diable!” («Катите к черту!»), и мы покатили в темный Париж, где все фонари были уже затемнены, вокзал тесно окружен конной полицией и шла всеобщая мобилизация… А потом Мюнхен, всеобщий вздох облегчения, и через три недели, 13 ноября, смерть моего отца.
* * *
Смерть отца была для меня неожиданным и тяжелым ударом; ему шел семьдесят второй год, уже несколько лет, как он болел диабетом, однако выглядел отлично, был еще полон сил. Мысль о грядущей войне его просто свалила, он считал, что все потеряно, и все повторял: «Нет, неужели и вторую родину потерять! За что это?» — заболел легким гриппом, через десять дней у него сделался удар, и еще через три дня он скончался.
О зиме 1938/39 годов воспоминаний мало, вся жизнь замерла для меня. Весной моя мачеха Елена Исаакиевна с двумя папиными собаками — громадными рыжими chow-chow (чау-чау) — уехала в Грецию к родственникам, ее сын Боба Гревс уже жил в Александрии, окончив Кэмбридж, — словом, вся наша парижская семья истаяла и распалась. Няни у меня уж не было, и я металась с утра до вечера. Жизнь шла трудная, малоинтересная.
Объявление войны застало меня в деревне Elincourt-Sainte-Marguerite, недалеко от Компьеня, где я жила с Никитой — снимала там хорошую комнату; а привлекала нас там русская детская летняя колония «Голодной Пятницы» (удивительно неподходящее название для летнего отдыха!), куда я могла отводить Никиту на полдня и так сама немного отдохнуть: Никиту днем кормили обедом, и я его брала назад уж только в 5 часов. Это французское местечко было целиком освоено русскими эмигрантами, многие там сумели купить за бесценок пустующие крестьянские дома и, отремонтировав их, получили отличные дачи близ Парижа. Да и эта «Голодная Пятница» тоже привлекала многих русских, и бывало, в субботу и воскресенье, когда родители приезжали в Elincourt навестить своих отпрысков, на улицах слышалась одна русская речь. У меня там было много знакомых, словом, как-то вздохнула… И вот третьего сентября, около трех часов, в церкви зазвонил набат; очень быстро начали с поля бежать домой молодые люди, целые семьи — многие уж через два часа должны были из Компьеня отбывать по мобилизационному билету на поезде… Я вышла на главную улицу — там стояли толпы, люди выглядели сумрачно, переговаривались потихоньку — военного энтузиазма и криков «галльского петуха» не было… На следующий день за нами приехал на машине Игорь Александрович и повез Никиту, меня и свою мать километров за двести пятьдесят от Elincourt на запад, в глухую провинцию (департамент Мауеnnе), в château (замок) к родственникам нашего близкого друга Henri de Fontenay. Стояла жара, яблони кругом ломились от плодов, навстречу нам бесконечными колоннами шли к востоку полки за полками. Мы ехали почти молча: что же это? Еще одна война, а мы ведь вот только-только немного отдышались от всяких невзгод. Никиту укачало, он начал хныкать, томился, и никакие «солдатики» не могли его отвлечь.
Про наше пребывание в château семьи de В. стоило бы подробнее сказать… Я каждый день была глубоко несчастна! Хозяева и остальные «беженцы» из Парижа, жившие в château, вся обстановка богатых и чрезвычайно при этом расчетливых людей, ледяной и жесткий тон хозяйки дома, которая каждое утро по всякой погоде шла в шесть утра на раннюю мессу, абсолютно закрытое провинциальное общество, с которым я впервые так близко встретилась, — все это было каким-то сном из прежней французской литературы…
Но, конечно, и там были милейшие и чуткие люди, и их стоит вспомнить с благодарностью. Это были садовник Adolphe и его жена. У них был недалеко от дома (это я уже говорю про городской дом семьи de В. в городке Еrne’е, куда мы всем миром переехали из château, — он был реквизирован под старческий дом, эвакуированный из Парижа через две недели по моем приезде, то есть 15–18 сентября) флигель с садиком, и я к ним иногда заходила посидеть и отдохнуть душой. Они всячески старались меня поддержать и все отлично понимали. Или семья местного нотариуса, или молодой доктор, к которому я водила Никиту, — но приходилось возвращаться в громадный, роскошный дом, где повсюду были гербы и холодное, никак не скрываемое недружелюбие!

Нина Алексеевна Кривошеина.
Париж. 1978 г.
Мне удалось вернуться в Париж только в конце декабря, преодолев невероятные административные трудности; иностранцам во время войны было запрещено передвигаться из одного департамента в другой; но полное отчаяние, до которого я тогда дошла, тоже неплохой двигатель: я, наконец, сумела добраться до главного города Мауеnnе, где было жандармское управление департамента, и там, дойдя до высшего начальства, раздобыла пропуск в Париж и ровно через сутки уехала. Никто меня не провожал, никто мне не помог собрать багаж и зашить в рогожи разные предметы, вывезенные в мобилизационной панике начала сентября; я одна, стиснув зубы, складывала Никитину детскую кровать, сундуки моей свекрови и все благополучно довезла до дома.
В Париже, в комиссариате, никто на мой пропуск и не посмотрел, и служащий, пожав плечами, заявил мне: «Это они с ума сошли там, в провинции с этими пропусками?! Все ездят, куда хотят, и делают, что хотят».
Вспоминая сейчас четыре месяца, проведенные в Мауеnnе в начале войны, ясно вижу, что многое тут было вызвано войной с Финляндией, которую тогда вела советская Россия; нападение «русского медведя» на крошечную страну вызвало всеобщее возмущение, и владельцы château, так же как и остальные, жившие тогда у них (все люди очень богатые и почти все из Лиона), никак не умели меня, русскую эмигрантку, отделить от этой войны… Их колкие замечания по этому поводу, направленные будто бы лично против меня, выводили меня из себя. Но я ведь не «из милости» там жила — я платила хозяйке солидную сумму за питание; вопрос финансовый меня порядком смущал: не из-за него ли? Нет, просто войны будто пока не было, жизнь в Париже текла нормально, и они хотели, чтобы все скорее разъехались по домам, в том числе и я. Словом, незваный гость… а быть им куда как не весело!
Примечания
↑1. В эмиграции в 1920-е годы возникла организация НТС, которая успешно боролась с большевизмом на протяжении восьмидесяти лет, а после распада СССР переместила свою деятельность в Россию. — Прим. Никиты Кривошеина.
↑2. Во время немецкой оккупации Maurras сотрудничал с немцами, печатался в фашистской прессе, а после войны был за то судим и приговорен в 1945 году к пожизненному заключению, а также исключен из Французской академии.
Источник: Кривошеина Н.А. Четыре трети нашей жизни: Воспоминания. М.: Русский путь, 2017. С. 137–149.
Читать также





Комментарии