Андрей Тесля
Цена модерна
Модерн как фатум? Коллизии «неизбежного» в русской истории
 3 700
3 700 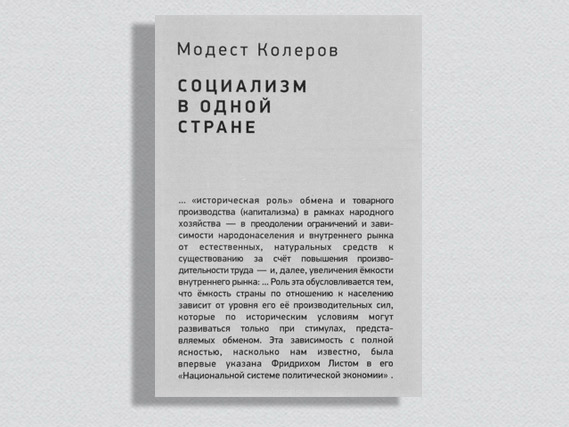
Колеров М.А. Социализм в одной стране. – М.: Издание книжного магазина «Циолковский», 2017. – 272 с.
Новая работа Модеста Колерова, выдающегося специалиста в области истории русской философии и общественной мысли конца XIX — начала XX века, является одновременно и одной из лучших работ по интеллектуальной истории из появившихся в нашей стране за последнее десятилетие, и одновременно весьма актуальным высказыванием. Отчетливее всего свой взгляд Колеров формулирует в предисловии к книге очерков «Сталин», вышедшей этой осенью:
«Сталин — родная и естественная часть западного Модерна, его продолжение [выделено автором. — А.Т.]. Нет ни одного инструмента сталинской власти, который не был выработан еще до Сталина колониальным, империалистическим, технократическим и социалистическим Западом. Маркс дал революции метод, глубоко интегрированный в Модерн. Ленин превратил его в язык немедленной революции. Правящий Сталин вернул этот язык в ландшафт большой истории России» [1].
Тем самым задача исследования — продемонстрировать, что «социализм в одной стране» генеалогически восходит не к каким-либо мессианским чаяниям «Третьего Рима» или чему-то подобному, но тот путь интеллектуальной самоориентализации, который предлагает Бердяев, или ориентализации внешней, предлагаемой целым рядом исследователей, фактически не только неверен, но и влечет за собой идеологические последствия, скрывая, с одной стороны, реальную проблематику, а с другой — позволяя отнести советский опыт к числу «эксцессов», чего-то, не укладывающегося в логику «нормального развития» (то есть когда «норма» определяется не в результате исследования, а постулируется извне).
Прежде всего Колеров демонстрирует, что идея «социализма в одной стране» глубоко вписана в европейскую интеллектуальную историю, восходя к «Замкнутому торговому государству» Фихте. Однако интеллектуальная история не превращается в исследовании Колерова в самодовлеющий предмет — разыскания в области генеалогии идей и понятий постоянно сопряжены с социально-экономической и политической историей, только в свете которых становится вполне понятен и разумен тот или иной конкретный интеллектуальный выбор (тогда как интеллектуальная ситуация задает рамку выбора, ограничивая набор «мыслимых» вариантов). Важно то, что «большевики продолжали искать и находили прецеденты положения СССР в большой исторической глубине немецкой национальной мысли и актуальной политической практике и в общем без особых препятствий их находили. И изображать противостояние троцкистов с их мировой революцией любой ценой — и сталинистов с их изолированным государством — как борьбу нового издания интернационального западничества против нового издания русского национализма нет никаких оснований» (с. 156).
В самом марксизме XIX столетия с интересующей в данном случае точки зрения можно, несколько схематично, выделить два разновременных пласта: во-первых, раннюю концепцию Маркса и Энгельса, ориентированную на «мировое хозяйство» и свободу торговли, и, во-вторых, позднейший пересмотр, связанный с видимым подъемом новых национальных экономик — в первую очередь Германии и США, — построенных на принципах протекционизма. Исходное видение мирового экономического развития предполагало трансляцию в сущности либерального британского видения — и самой Британии, мирового гегемона, однако к последним десятилетиям XIX века картина очевидным образом скорректировалась. Как писал в 1898 году П.Б. Струве,
«нигде вы не встретите пресловутого “естественного” или самопроизвольного развития капитализма, везде он был “искусственным”. Да иначе и быть не может. Современное государство и капитализм — это исторические близнецы» (с. 130).
Промышленный опыт развития и самой Российской империи учил тому же: в условиях открытых рынков преимущество получает тот, кто уже обладает развитой промышленностью, в результате обретая господство над менее развитым: утверждать «открытость рынков», «свободу экономики» означает одновременно утверждать сохранение существующей гегемонии.
В свою очередь, политическая независимость и независимость экономическая оказываются очевидным образом связаны: первая невозможна без последней, а обрести последнюю возможно при обладании первой, поскольку для развития собственной промышленности требуется протекционистская политика, идущая в ущерб тем экономикам, которые уже обладают превосходством.
В логике большевиков в начале революции 1917 года России суждена была роль «слабого звена» мирового капитализма — тем самым здесь работала первоначальная марксистская схема, исходящая из единого «мирового хозяйства». В этой оптике за Россией в любом случае сохранялся периферийный статус — в случае мыслимого, желаемого развития ситуации — периферии по отношению к социалистической Западной и Центральной Европе. Фактическая неудача ставки на мировую революцию, сделавшаяся очевидной уже в 1919 году, но некоторое время еще не признававшаяся, переопределяла ситуацию — актуализируя в том числе и современные дебаты о путях преодоления периферийного статуса, экономической и политической суверенизации. Выбор между «Троцким» и «Сталиным», «мировой революцией» и «социализмом в одной стране», как отмечает Колеров, на практике был предопределен:
«[…] Сталин был вместе с тем партийным большинством, кто искал […] [идеологической] санкции и независимо от ее наличия уже сделал свой выбор [выделено нами. — А.Т.]. За этим выбором “социализма в одной стране”, то есть на деле — не более чем выбором в пользу “власти большевиков в одной стране”, стояли не только общественные инстинкты, но и длительная европейская образцовая традиция “изолированного государства” и протекционизма, приоритетная для любой национальной власти» (с. 210).
На XV партконференции (1926) Троцкий заявлял: «Еще до революции, а также и после нее, мы думали: сейчас же или очень быстро наступит революция в остальных странах, в капиталистически более развитых, или, в противоположном случае, мы должны погибнуть. […] Полная победа социалистической революции немыслима в одной стране, а требует самого активного сотрудничества, по меньшей мере, нескольких передовых стран, к которым мы Россию причислить не можем». Подобное сотрудничество, как отмечает Колеров, «вполне могло быть понято как принципиальное сотрудничество СССР с “капиталистическим окружением” в рамках продвигавшихся Троцким концессий, если не кредитов» (с. 210):
«Ясно, что все эти ленинские экскурсы Троцкого хорошо подходили для обеспечения вождям классических театральных ролей романтических героев, гибнущих в борьбе со враждебной стихией, но вряд ли их трагедийная судьба могла устроить абсолютное большинство тех, кто связал свою судьбу и судьбу своей страны с коммунизмом в СССР» (с. 208–209).
Логика «социализма в одной стране», отсылающая к Листу и фон Тюнену (перевод которого на русский появился как раз в эти годы), ставила вопрос об источниках промышленного развития — эта проблематика была артикулирована уже в самом начале 1920-х годов в неприкрытой формулировке «первоначального социалистического накопления». Необходимые ресурсы могли быть либо получены извне, либо найдены внутри. Первый вариант оказывался неприемлем не только из-за политической и экономической изолированности СССР, но и постольку, поскольку сохранял периферийное его положение (а любой доступ к капиталам в обозримой перспективе оказывался «политически отягощенным»). «Внутри» же таковым источником оказывалось крестьянство — по той элементарной причине, что другого альтернативного источника не существовало. Особенный интерес представляет проделанный Колеровым анализ работ Чаянова и Кондратьева (см., в частности, с. 232–235), в которых, вопреки расхожим представлениям, исследователь демонстрирует ту же логику и понимание общих процессов — возможность получения необходимых ресурсов за счет пролетаризации деревни и эксплуатации ее за гранью физического выживания (что одновременно дает и финансовые, и трудовые ресурсы, через отток в города).
Политически сделанный выбор означал переход от революционной к государственной логике:
«Можно характеризовать эту перспективу как изоляционистскую, суверенную, протекционистскую, народно-хозяйственную, но главным в ней был очевидный отказ от догмы мировой революции (в которой реальный СССР неизбежно превращался в подчиненную периферию [выделено нами. — А.Т.]) и практическое превращение доктрины мировой революции (которой следовал созданный большевиками Коммунистический интернационал) в инструмент мировой политики собственно СССР, обслуживающей его суверенные интересы (которым и был подчинен Коминтерн)» (с. 185).
Принципиально важным было то обстоятельство — являющееся лишь другим аспектом государственной (или государственнической) логики, — чтобы на практике перестать быть «периферией», став самостоятельным центром. Именно в этом ключевое содержание идей Фихте и Листа: когда первый рассуждает о «замкнутом торговом государстве», а второй настаивает на политике протекционизма, то речь не идет о «замкнутости» как таковой, буквально понятом изоляционизме, а о способности быть самостоятельным центром, об экономической и политической автономии — совершенно необходимом требовании с точки зрения сохранения политической самостоятельности в эпоху мировых войн — и, в свою очередь, способным выступить центром для других, образуя собственную периферию.
Колеров подчеркивает, что цена подобного решения представлялась достаточно ясным образом в дискуссиях 1920-х годов: для того чтобы осуществить «первоначальное социалистическое накопление», надлежало создать устрашающую государственную власть, а осуществлено это накопление могло было только путем помещения крестьянства в положение за гранью необходимого для физического выживания минимума: «ценой этому была социально предопределенная гекатомба» (с. 264). Но это одновременно — и цена модерна.
Примечание




Комментарии