Дина Хапаева
«Гадкое отвратительное человечество». Арабески
Цивилизация вне эволюции? Скайп-конференция с историком и литературным критиком Диной Хапаевой
 4 635
4 635 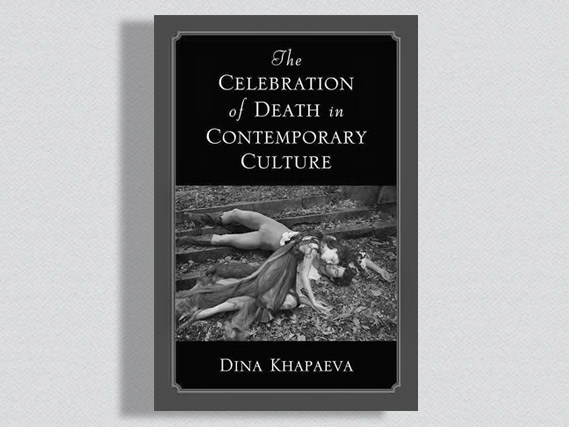
— Gefter.ru продолжает политические диалоги — дискуссию о том, как политика присутствует во вроде бы внеполитических сферах, как происходит политизация и деполитизация, какую мифологию и какую религию создает современная политика. Сегодня наша вторая беседа с Диной Хапаевой, историком культуры, и мы продолжаем обсуждать книгу Дины Celebration of Death — «Прославление смерти» или «Торжество смерти» в современной культуре.
— И наш первый вопрос будет связан вот с чем: нам хотелось бы понять, каким образом мы могли бы рассуждать в предложенной вами сетке координат, если мы пытаемся примериться к новациям современного развития? Насколько подмеченные вами в книге тренды сказываются на формировании новых оснований политики?
— Рамка, в которой живет современный человек, антропологическая рамка жизни и смерти, является и его политической рамкой? На первый взгляд кажется, что все те движения, которые вы описываете, — это движения деполитизации, для которых не существует политической реальности, а только реальность экзистенциальная.
— Ирина и Саша, спасибо большое! Мне очень интересен этот вопрос, он заставляет меня о многом задуматься — о том, о чем я не думала раньше, и спасибо, что вы мне его задали. Дело в том, что в этой книжке я немного говорю о неомедиевализме, но на самом деле неомедиевализм, «Новое средневековье» — это тема моей новой книжки. Для меня, безусловно, вопрос о политическом измерении моей работы очень важен. Конечно, вы правы: то, что я называю культом смерти, — это индивидуальный отказ от «социального контракта», нежелание отождествлять себя с человечеством. Но культ смерти невозможно однозначно определить в терминах правой или левой идеологии.
Но вы абсолютно правы, что культ смерти позволяет по-новому взглянуть на целый ряд очень важных политических явлений. В прошлый раз вы задали мне вопрос о терроризме, я не смогла на него внятно ответить, это был совершенно новый для меня поворот, и я с тех пор думала об этом. Например, когда террористы ИГИЛ убивают человека перед телекамерой, отрезают голову пилой и делают всякие такие ужасы, что они этим выражают? Это ведь не закон шариата, нет такого закона шариата, чтобы человека убивать пилой перед камерой. То есть это не просто проявление агрессивной религиозности. Это выпад против модерности, протест против идей современного демократического общества. Ибо самое главное, что они, вероятно, хотят выразить этим, — это отрицание отношения к человеку и к человеческой личности как к главной ценности. И эта идея мне кажется центральной и очень важной для того, чтобы говорить о неомедиевализме вообще. ИГИЛ есть одна из форм проявления неомедиевализма, и культ смерти, о котором я говорю, является движением популярной культуры, для которой неомедиевализм создает чрезвычайно плодотворную почву.
Неомедиевализм — это то, что мы наблюдаем в совершенно разных формах в современном обществе. И, в частности, Россия — хотя пока и не в таких экстремальных формах, как ИГИЛ, — тоже уверенно идет по пути отказа от демократических институтов, гражданских прав и свобод в пользу неомедиевальных отношений. И, как вы знаете, существует очень мощное политическое движение, которое прямо провозглашает возврат к «Новому средневековью» — реставрацию теократической монархии, сословного общества, власти православия над образованием и разрушение всех демократических свобод — проектом будущего России. Я говорю, естественно, о движении «Евразия», в котором Александр Дугин, Михаил Юрьев и целый ряд других играют крайне важную роль. А эти идеи являются прямым вызовом всем демократическим представлениям о свободе личности. Недаром террор оказывается в центре дистопии «День опричника» Сорокина, которая была ответом на утопию Юрьева «Третья империя: Россия, которая должна быть», воспевающую опричнину.
Когда я говорю о неомедиевализме, я вовсе не имею в виду наступление нового средневековья или феодализма. Совсем недавно Андреас Ослунд, довольно известный исследователь России, экономист, опубликовал короткую заметку, что, мол, в России наступает неофеодализм, что отношения в российской экономике — это отношения неофеодальные. Шляпентох в книжке 2008 года тоже говорил про неофеодализм, он верил в марксистскую теорию формаций и утверждал, что все формации могут существовать одновременно и что Россия вернулась в феодализм. На мой взгляд, все эти идеи не выдерживают никакой критики, потому что история не повторяется. В России не повторяется никакое средневековье и не возникает никаких экономических отношений, которые повторяли бы феодализм. Но то, что происходит безусловно, это формирование особого отношения к человеку, которое подразумевает отказ от свобод, характерных для демократического общества, и от представления о человеке как о свободном гражданине. Вот это, действительно, главная черта неомедиевализма.
Под неомедиевализмом я понимаю прежде всего очень специальный образ Средних веков, который присутствует и в российском дискурсе, и на Западе. В Америке и в Англии об этом много говорят. В этом прежде всего эстетическом идеологически насыщенном образе средневековые аллюзии являются способом выразить пренебрежение к модерности и демократии. Этот образ также предполагает, что считать человека ценностью более высокого порядка, чем интересы государства или религии, — вредное заблуждение. Например, когда вы едете по Подмосковью, видите дома с псевдоготическими башнями, похожие на конструктор «Лего», которые строят новые русские (я когда-то даже собирала эти фотографии). Так вот, как замок Уолпола бросал вызов идеям классицизма и Просвещения, так и эти строения, хотя художественно куда менее изощренные (и построенные вовсе не создателями готического романа), отрицают идеи демократического общества, равенства и порядка, основанного на законе, а не на праве сильного, темницах, башнях и крепостных стенах. Ведь почему эти псевдозамки так нравятся современным постсоветским бандитам? Потому что они подсознательно ощущают, что эти символы вписываются в эстетическую модель и политическую идею, противоположную демократии. Но, конечно, ни о каком возврате к Средним векам говорить совершенно невозможно.
Очевидно, что очень трудно говорить об этой идеологии — неомедиевализме, — исходя из понятий правого или левого в политическом поле. Как определить Дугина? Кто он? Правый? Левый? Он фашист, конечно, но фашист, который при этом еще и заигрывал с левыми идеями, если вспомнить, что он сочинял про «тамплиеров пролетариата» в своей книге 1997 года.
— Вы сейчас берете на прицел фактически партийные, фракционные линии политического процесса. Но каким образом та рамка, которую вы задаете, описывает политику в целом? Как мы могли бы охарактеризовать использование смерти в политике образца 2017 года? Когда мы с Сашей предварительно обсуждали это интервью, я ему говорила, что сама смерть перестает быть уникальной или личной. В очень конкретном смысле — она тиражируется. Причем тиражированием является воспроизведение смерти в виде рассчитанной на аудиторию технологии. Но такая смерть не может не стать революционной. Видимо, за ней должна стоять какая-то радикальная трансформация социальных отношений, социального порядка, если я правильно понимаю. Отсюда идут, например, показательные убийства или сетевые демонстрации страданий и агонии. Смерть встраивается в цепочку устрашения в стиле «и тебе грозит ровно то же» или «мы все наслаждаемся — почему бы не этим?», она перестает отражать неповторимый кейс, личные переживания, уникальность чужого пути. Как в этом случае ставятся цели? И не есть ли всё это попытки вхождения в какую-то радикально новую эпоху — эпоху не только обыденности смерти, но и ее, так сказать, безличности?
— И мы еще обсуждали, что нынешнее празднование смерти — это семиотический проект, если вспомнить, что «сема» — это не только знак, но и могила. Семиотика все превращает в знаки, чистые знаки самих себя, которые уже не признают живой ткани истории и живого достоинства истории, но пытаются обнулить их ради того, чтобы заново начать исторический процесс.
— Посмотрите, ваши монстры убивают с тем, чтобы воспроизводилась не жизнь, а смерть — не история, а какое-то другое время.
— Если можно, я сначала отвечу на ваши первые два вопроса, а к монстрам мы еще вернемся, про них должен быть особый разговор.
Саша, то, что вы сказали, напомнило мне важную идею Пьера Нора, самые важные статьи которого из «Мест памяти» я перевела на русский в 1999 году, — история как бы убивает живую память. Я совершенно с вами согласна: тиражирование смерти, то, что фиктивная насильственная смерть превратилась в одно из главных развлечений и удовольствий, — я занялась этим проектом и писала эту книжку, думая о том, насколько политически это опасная идея. На мой взгляд, корни этого нового отношения — и не столько к смерти, сколько к людям — лежат в проблемах с исторической памятью. Они вызваны неспособностью современной культуры «проработать» прошлое, пережить и изжить опыт концентрационной вселенной. Выплескивание в массовую культуру того отношения к человеку, которое возникло в XX веке в концентрационных лагерях, нормализация опыта отношений между людьми и к людям, который возник в лагере и на зоне, — очень опасное явление, и мало где распространенное более, чем в российском обществе. Об этом я как раз пишу в книжке в заключении, хотя и бегло, потому что тему исторической памяти я из нее исключила, вынесла в отдельный новый проект. Я называю это «памятью палачей». Это не только память тех, кто уничтожал людей в Аушвице и ГУЛАГе, а историческая память тех, кто продолжает испытывать симпатии к советскому режиму и фашизму. Мне кажется, что эта память не была до конца проработана, несмотря на значительные усилия в области гуманистической политики памяти даже в странах с устойчивой традицией демократии. И мне представляется, что эта память, которую не удалось проработать, прорвалась в массовую культуру и стала основой культа смерти. Постсоветская Россия представляет, как обычно, крайний случай, показывая горизонт кошмарного развития этого сценария.
Но в вашем вопросе содержался еще один важный момент, который я бы тоже хотела отметить. А именно: идея того, что уничтожение смерти как индивидуального, экзистенциального переживания человека, как экзистенциального состояния, и ее массовое тиражирование, как вы совершенно правильно сказали, безусловно предполагает, что речь идет об уничтожении человеческого достоинства. Только что на сайте Би-би-си опубликовали статью о том, что придумали новую похоронную технологию. Я в книжке пишу про самые разные новые похоронные обряды. Придумали новый способ избавляться от трупов: тело опускают в какой-то раствор, который разъедает ткани человеческого тела. Можно говорить о том, что больше останется земли, не занятой кладбищами, а можно говорить о том, что это ставит под вопрос представление о человеческом достоинстве. И только ли экология должна нас волновать в этой связи? Ведь представление о том, что человеческие останки нельзя слить в канаву, зарыть, как собаку, бульдозерами заровнять тысячи трупов, — это представление очень долго было исключительно культурно значимым.
И как вы, Ирина, совершенно правильно сказали, мы наблюдаем абсолютно революционный момент в изменении отношения к смерти. Я сама не антрополог, я считаю себя историком культуры и литературным критиком. Но у меня есть большая антропологическая глава — про новые социальные практики и обряды, которые порождает культ смерти, и про похороны, в частности — и мне очень приятно, что Мелвину Коннеру, замечательному антропологу, понравилась моя книжка, хотя в своей рецензии в Los Angeles Review of Books он и не во всем со мной согласен. Антропологи и археологи с давних пор показывают, что изменения в погребальных обрядах являются для нас главным свидетельством смены культур в дописьменных обществах. Ибо похороны — это один из самых консервативных обрядов. И то, что мы сегодня наблюдаем, — крионизация, превращение останков в компост, или когда благодаря особой технологии из праха умерших родственникам могут сделать «алмазные» кольца, брошки, украшения, — это коммодификация смерти, за которой, по большому счету, стоит отрицание идеи человеческого достоинства, права человека на похороны, которые не имеют никакого иного утилитарного смысла, кроме почтения его памяти.
Теперь про революцию, очень быстро. То, что вы говорите, мне весьма близко. Я потому и занялась культом смерти, что мне кажется, что в нем, как мало в чем другом, очень ярко проявляется цивилизационный слом. Называть ли это революцией? За исключением национал-социалистической революции и русской революции, революция — слово скорее хорошее, революция открывает новую эру. То есть в принципе, со времен Французской революции, это слово имеет скорее позитивные коннотации. В том, что это начало какой-то новой эры, я безусловно с вами согласна, и для меня этот диагноз очень важен. Но я бы воздержалась употреблять слово «революция» по отношению к культу смерти, потому что революция предполагает изменения глобального масштаба, но эти изменения по своей природе должны быть социальными и политическими. А здесь мы говорим об антропологическом сломе, о цивилизационном сдвиге, как вы совершенно правильно в своем вопросе подчеркиваете. Мы говорим об изменении фундаментальных представлений о человеческой личности, человеческом достоинстве, о ценности человеческой жизни.
И мы говорим об отрицании истории в том смысле, что люди перестали считать ценностью продолжение человеческой цивилизации и человеческого рода. Это ярко проявляется в популярности апокалиптических фильмов и романов, где тем, что доставляет публике развлечение и удовольствие, является уничтожение человечества. «Восстание планеты обезьян» — прекрасный этому пример: когда вместо отвратительных и гадких людей и их противной цивилизации планетой Земля завладевают разумные и симпатичные обезьяны. Это совершенно новое отношение к апокалипсису — светскому, не религиозному, не христианскому. Конечно, тема апокалипсиса в литературе не нова, а вот это отношение — новое. С тех пор когда Мэри Шелли написала первый светский апокалиптический роман The Last Man в 1826 году и до 1990-х годов апокалипсис, то есть конец человеческой цивилизации, всегда рассматривался как трагедия, как самое ужасное, что может произойти. То новое, что возникает в конце 1990-х годов в современном апокалиптическом жанре, — гибель человечества больше не трагедия. Главная идея этих фильмов и романов — как здорово, что наконец-то это отвратительное человечество исчезнет. Для меня это проявление культа смерти в его крайних формах — отрицание всяческой ценности не просто индивидуальной человеческой жизни, а человеческой культуры в целом. Поэтому речь идет не столько о революции, сколько о вожделении конца человеческой истории. Но не в том метафорическом смысле, в каком говорит Фрэнсис Фукуяма, а в совершенно прямом смысле, свидетельствующем о разочарованности человека в человеке, человечестве и человеческой культуре.
— Если позволите, я вот что могу сказать на этот счет. Некоторое отступление. Давайте зайдем с другой стороны или хотя бы попробуем это сделать. Подумаем о том, чем является эмоциональный шантаж. Я вас несколько удивлю сейчас, но тем не менее. Эмоциональный шантаж, в котором присутствует понятие так называемого «тумана», — использование шантажистом сложной невидимой цепной реакции, которую жертва шантажа окажется неспособной остановить, потому что она не в силах понять, в чем заключается шантаж. Но любой шантаж, как правило, в психологических описаниях строится на трех китах: страх, обязательство и чувство вины. Причем все эмоциональные шантажисты, независимо от типа шантажа, интуитивно работают с этими тремя пунктами. Но здесь важно, что они усиливают эти состояния до максимума, они заставляют испытывать тот тип дискомфорта, при котором жертва готова сделать все, чтобы вернуть шантажиста на прежний уровень, чтобы он только не совершил того, чем угрожает и в чем готов обвинять, — только бы этого не произошло. Жертва чувствует дискомфорт от манипуляции, но не понимает ее. К чему я все это говорю? Мне кажется, что система понятий, которая вами вводится, полностью укладывается в названную объяснительную схему: та смерть, которая навязывается миру ИГИЛом, или та смерть, которая используется рекламистами и культуртрегерами как точка сборки новых удовольствий, — это еще и шантаж. Шантаж какого-то невиданного прежде обвинения. Я недавно пересматривала документальные материалы Нюрнбергского процесса, и там в кадрах повешения нацистских палачей на зрителя из глубины кадра наплывает огромная надпись Guilty — «Виновны, виновны, виновны». Так вот, в современных схемах шантажа присутствует этот момент бесповоротной вины, требующей только казни. И человек не ценится, и достоинство его отвергается именно благодаря тому, что независимо от того, виновен человек или нет, он неотделим от какой-то неотвратимой для него виновности, доведенной до ужасающего предела — «не быть». И здесь принципиально, что якобы нет вины, не присущей очередной выделяемой категории людей — всем и каждому в ней, без лишних разборок. Но тогда и природа смерти тоже должна меняться, и природа политического действия — мутировать. И мне кажется, что нам сегодня стоит попытаться поговорить о том, не возникает ли манипуляции виной в тех процессах, которые мы сейчас обрисовали? Кто в состоянии управлять виной, которая уже напрямую не связана с виновностью или невиновностью жертв? Как производится их приписывание к изначально приговоренным? Не является ли страх еще и шантажом безысходной виновности?
— Ирина, это очень интересное рассуждение. Это абсолютно новый для меня поворот, я об этом ничего в книжке не пишу и ничего с этим не делала. Моя спонтанная реакция на то, что вы сказали, будет состоять вот в чем: идея шантажа, терроризм как шантаж — это вы совершенно точно подмечаете, это абсолютно правильная идея. Я когда-то думала о том, что одна из проблем модерности состояла в том, что человек предстал совершенством: помните, Руссо, Дидро, просветители все были об этом — об отрицании идеи первородного греха, о безгрешности человеческой природы, о пороках общества… И одна из проблем утопических учений XX века была безусловно связана с этими же идеями. Это представление, что человек по природе прекрасен, разбилось об Аушвиц и ГУЛАГ. В основе краха этой иллюзии, вероятно, и лежит то глубокое разочарование в человеке и человечестве, о котором я говорю, когда говорю о культе смерти. Поэтому я думаю, что, конечно, чувство вины играет здесь важную роль, но я не до конца уверена, насколько к таким людям, как те, кто воюет в ИГИЛ, вообще применима категория вины в том смысле, в котором ее имеете в виду вы. Мне трудно говорить об ИГИЛ потому, что я не знаю никаких языков этой части света и никогда не изучала эту культуру. Но если взять гораздо более близкий и, к счастью, пока еще менее кровавый пример наших собственных неомедиевалистов, евразийцев, неоевразийцев или постевразийцев (потому что, конечно, генеалогия к Бердяеву, которую они выстроили, — это ложная, придуманная задним числом генеалогия; на эту тему, в частности, Тимоти Снайдер писал), то для них как раз идея вины или виновности вторична по сравнению с идеей отрицания личных гражданских свобод, с попыткой отринуть все, что модерн и демократия принесли в общественное устройство, с представлением о том, что общество должно строиться на принципах личной зависимости, кастовом принципе, — о чем Дугин пишет в статьях 2014 года, где он воспевает кастовую идею организации общества.
— Но модерн и демократия приносят в общественное устройство rule of law, который связан именно с идеей справедливости, в свою очередь связанной с индивидуализацией вины, с уточнением до конца того, что справедливо и несправедливо в отношении к конкретной личности. Я хочу пояснить, что имею в виду, когда говорю о вине и в том числе об эмоциональном шантаже. Чтобы вам точнее задать вопрос, потому что я сейчас вместе с вами думаю и додумываю.
— Я думаю, у вас, Ирина, появляется очень интересная тема для исследования.
— Я читала документ, с помощью которого ИГИЛом пояснялась манчестерская история — очень короткий текст на самом деле, — «наш воин убил крестоносцев, согласно нашему приказу». Очень коротко и ясно, но при этом люди, находящиеся в зале, суть люди, которым навязана вина — которые скопом обвинены в том, о чем они не имеют понятия, быть может. Это почти то же, что делалось в отношении евреев внутри Холокоста — навязанная вина, стигматизирующая настолько, чтобы эта вина была сочтена их природой. В этом смысле, мне кажется, мы должны говорить о том, каким образом возникает новейшее представление о смерти, неотделимой от вины как неизменной природы виновного… Жертва описывается таким образом, чтобы ее нельзя было не убивать…
— Здесь две вещи. Концепция другого как жертвы — вы очевидно имеете в виду Рене Жирара. Но, мне кажется, то, о чем вы говорите, гораздо более интересно по сравнению с тем, что он сделал, и ново по сравнению с тем, что делают его последователи. Возможно, что здесь надо смотреть на исследования каст — индийских, прежде всего. В какой степени важна идея вины для идеи создания кастового общества — я ничего на эту тему не знаю. Думаю, какие-то исследования по этому поводу были. Но тема очень интересная. Мне ваш поворот очень нравится, я сама этим не занималась и заниматься, естественно, не буду, но это прекрасная тема для исследования. Поздравляю!
— У меня вопрос такой. Мир мертвых всегда опознавался как мир окончательных решений. Как бы ни представлялась смерть и посмертное существование, это мир, в котором уже все решено, в отличие от нынешнего мира, где действуют злые или благие силы и до сих пор ничего не решено. Тогда как нынешний культ смерти подразумевает, что смертью можно овладеть, ее можно обратить, смерть может быть той точкой зрения, которая позволит оценить и пересобрать всю жизнь. Сообщества смерти — от экстремистских, типа того же ДАИШ, до каких-то реконструкторов — постоянно исходят из того, что можно и изнутри смерти судить и говорить о жизни. Можно приводить разные примеры. Это и культ смерти, связанный с памятью о воинах, например в современной России, связанный с памятью о Победе, что смерть касается абсолютно всех, и в клипах маленькие дети выступают в военной форме и говорят о своей готовности умереть так же, как и все; это и реконструкторы, участвующие в войнах и военных конфликтах в самых разных концах мира; участники компьютерных игр и фандомов, исходящие из множества жизней, которые есть, — все это складывается в единую картину, когда не жизнь является местом непредрешенности, а смерть. А что делать с жизнью, как будто эти люди уже знают.
— Это очень интересный поворот, и вы абсолютно правы: смерть, представленная как развлечение, как это происходит, например, в Гарри Поттере, и должна носить такую неопределенность. Это очень интересная мысль. И компьютерные игры, в частности, для этого очень показательны. В книжке я пытаюсь говорить о том, что культ смерти в современности абсолютно уникален. И очень просто объяснить, почему он не имеет никакого отношения ни к культу умерших предков, ни к культу павших воинов, будь то Рим, Мексика или греческие культы. По одной простой причине — потому что героями современного культа смерти не являются люди. Его герои — это не умершие люди, а вымышленные монстры: вампиры, зомби, что угодно. Это идеализируемые монстры, главная функция которых состоит в том, чтобы превратить человека в пищу, потребить его таким образом, чтобы уничтожить и его достоинство, и представление о его исключительности. Для этого очень показательно возникновение Celebrity Culture вокруг серийных убийц или популярность каннибалов. Прекрасный пример — телесериал Hannibal, шедший с 2013-го по 2015 год, в котором Мадс Миккельсен играет главную роль и который был страшно популярен. Каннибал в нем представлен голливудским сердцеедом — элегантным, красивым, очаровывающим женщин, — который при этом все время убивает людей и поедает их, сопровождая это замечательным вином, классической музыкой и так далее.
Монстры — зомби, вампиры, каннибалы, серийные убийцы, превращенные в персонажей романов или фильмов, — являются главными героями культа смерти, а никакие не обычные умершие родственники, граждане, воины. Придуманные монстры становятся предметом обожания и восторга в массовой культуре, на мой взгляд, по одной-единственной причине: они есть главные носители идеи антигуманизма в современной культуре.
— А как бы вы определили, кто такие монстры?
— Монстры, как я уже сказала, — это вымышленные персонажи: это могут быть нелюди, то есть вампиры или зомби, либо если это люди, то бесчеловечные люди: серийные убийцы, каннибалы. Но важное новшество, которое появляется, только когда возникает культ смерти, а именно в конце 1980-х — начале 1990-х годов, состоит в том, что эти монстры в массовом порядке становятся главными героями романов и фильмов, от их лица ведется повествование, их глазами мы видим то, что происходит в повествовании. Предполагается, что читатель или зритель идентифицируется с ними, а не с людьми-жертвами. Мне часто возражают: «Вампир — это новый романтический герой». Но вопрос, который возникает в этой связи, прост: собственно говоря, почему впервые в нашей культуре для того, чтобы представить любовные отношения, оказываются необходимы монстры, функция которых состоит в том, чтобы пожирать людей? Главная задача нового образа вампира — показать, что с человеком можно сделать все, что угодно, — например, съесть его, как цыпленка.
Все вампирские саги — и «Сумерки», и «Дневники вампира» — являются романами взросления. Когда мы говорили о монстрах, мы говорили, что читатель или зритель идентифицирует себя не с человеком, а с вампиром, и особенно явно это видно на романах взросления. То есть детям в качестве модели преподносится вполне человеконенавистнический персонаж. Об этом у меня как раз есть статья по-русски в «НЛО».
Тема каннибализма сейчас крайне популярна в связи с тем, как мне кажется, что культ смерти обнаруживает еще один важнейший цивилизационный сдвиг, а именно изменение нашего базового табу — табу на поедание людей. Моя гипотеза, что в последнее время прямо-таки нездоровый интерес к пище — что можно есть, как есть, всплеск Food Studies — связан не с тем, что на планете наступает голод — наоборот, никогда, во всяком случае в западном мире, не было такого изобилия еды, — а потому что в связи с резко меняющимся отношением к человеку задается вопрос: собственно говоря, а нельзя ли человека тоже кушать или как-то утилизировать? Есть целое направление, которое называется Death for Food — смерть ради пищи, а именно, что человека, когда он умер, можно и нужно использовать в пищу для животных. Такие вот предлагаются разного рода технологии, что очень тесно связано с новыми погребальными обрядами и практиками, о которых мы ранее говорили. Я считаю эти идеи страшными потому, что это способ отрицания уникальности человеческой жизни и идеи человеческой исключительности.
— И, наверное, последний вопрос, Дина. Скажите, пожалуйста, как все это лечить? Можно ли придумать какие-то техники, которые ставили бы в центр внимания не пафос происходящего, а его уродство?
— Ирина, отличный вопрос. Я думаю, что единственный способ лечить это дело состоит во внимательном критическом анализе. Дело в том, что когда огромное количество моих друзей рассказывают мне, что они читают детям «Гарри Поттера»… Люди просто не понимают, с чем они имеют дело. Необходимо создание критических орудий анализа для взрослых и детей, чтобы показать, что, когда убийство десятилетней девочки, этой самой Плаксы Миртл, превращается в комедию и развлечение, где жертва описана безо всякого сочувствия, просто как глупая и претенциозная плакса, или когда зомби жрет на экране человека, или пилой пилят женщину пополам, — а мы знаем, что это все происходит не на самом деле, — все это не невинное развлечение, что эти образы имеют колоссально значимые культурные и психологические последствия. И думать, что эти фильмы или романы — это протест против «капитализма» или «западного империализма», просто наивно, ибо здесь речь идет об отрицании человечества как такового. Но вот правое это или левое явление — трудно сказать однозначно.
Возвращаясь к вопросу о монстрах, я хотела бы о них поговорить в связи с уже чисто российскими сюжетами. Вы меня в прошлый раз спрашивали про монстров и о том, какое это имеет отношение к современной российской ситуации. В 2007 году в своей книжке «Готическое общество» я предложила идею о связи между формами, которые принимает массовая культура на постсоветском пространстве и прежде всего образами монстров, вампиров, и подавленной памятью о терроре. Моя идея состояла в том, то эти антигуманистические, чудовищные образы — например, Лукьяненко со своими «Дозорами» — свидетельствуют о том, как размываются представления о ценности человеческой жизни и личности, и показывают, что российская массовая культура наполняется агрессивной «памятью палачей», а именно — памятью и чаяниями тех, кто симпатизировал и продолжает симпатизировать советскому режиму и террору как форме власти. И активно способствует возрождению неомедиевального авторитаризма в России, который я тогда, в середине 2000-х, назвала готическим обществом. Я говорила о том, что монстры — вампиры и прочие нелюди — это выражение нежелания большинства российского населения осознать советское прошлое как преступление и ощутить за него историческую ответственность.
Но потом мое прочтение этой связи между постсоветскими монстрами и памятью о терроре было подхвачено и сильно искажено. И появились рассуждения, что «поскольку миллионы остались непогребенными, то репрессированные возвращаются как зомби, не вполне ожившие мертвецы», что в «тени вампиров, которые витают вокруг» надо «вогнать осиновый кол» в виде памятников, и тогда с памятью в России станет все в порядке. Мне, честно говоря, сами эти рассуждения, построенные на сомнительной словесной эквилибристике — репрессированное у Фрейда / репрессированные жертвы ГУЛАГа, — представляются чудовищными.
Спрашивается, что значит, когда жертвы ГУЛАГа, а не их палачи, называются «жуткими монстрами», причем не в путинской пропаганде, а в «научных публикациях» и в либеральном дискурсе? Разве это что-то объясняет про природу постсоветской памяти? Или способствует тому, чтобы назвать сталинизм страшным преступлением и заставить россиян признать свою историческую вину и ответственность за террор, а Сталина и его приспешников — преступниками, повинными в массовых преступлениях против человечества? В России и так идет триумфальное шествие победившей памяти палачей: у нас «Пермь-36» закрыли, музей Сталину открыли при поддержке министра культуры, в каждом городе уже снова есть памятник Сталину, — вы знаете об этих печальных событиях, наверное, лучше, чем я. Какую роль они играют в «ресталинизации всей страны»?
Или следует, исходя из этой логики, считать недавнее открытие памятника жертвам репрессий в Москве удачным завершением «работы горя», а не циничной попыткой перехватывания политической инициативы властью, когда в стране ширятся политические репрессии? Не говоря уж о том, что понятия «травмы» исторической памятью о терроре или «скорби» плохо применимы для описания ситуации в обществе, где агрессивное большинство активно поддерживает искоренение всех демократических институтов и либеральных практик, противоречащих наследию сталинизма.
У меня дед погиб в лагере, и когда я слышу, что «умершие, которым не оказаны погребальные почести, не уходят из мира живых, а превращаются в жутких и мстительных призраков», мне эти рассуждения представляются неуважением к памяти жертв.
— Но концовка, наверное, все-таки должна быть связана с новым пониманием техник уничтожения.
— Я думаю, что совершенно необходимо создавать набор критических орудий, которые позволяли бы читателям и зрителям, являющимся потребителями культа смерти, понимать, что эти образы имеют определенную культурную функцию — отказ от признания человеческой жизни и человеческой исключительности как высшей ценности — и что за этим может стоять политический проект — неомедиевализм. Когда я писала свою книжку, я надеялась на то, что она станет вкладом в создание набора таких критических орудий. Очень часто люди думают: ой, я смотрю фильмы про вампиров, где вампиры такие милые, симпатичные, — культурная функция этого образа остается для людей непонятной. Или про «Гарри Поттера». Когда начинаешь анализировать текст и объяснять, что самоидентификация ребенка с маньяком-убийцей или с монстром, который пожирает людей, приводит к вполне определенным идеям о том, что человеческая жизнь не является ценностью, что человеческая культура не является ценностью, что человеческая цивилизация не является ценностью, иногда это заставляет людей задуматься. Мы часто выступаем потребителями массовой культуры, не осознавая, как эти вещи работают. Создавать новые критические методы размышления над этими сюжетами очень важно еще и потому, что исследования, посвященные вампирам или «Гарри Поттеру», в массе своей воспевают либо вампиров, либо Гарри Поттера, исследователи относятся к этим героям с большой симпатией. И критическое осмысление того, что негативного присутствует в этих образах, — это очень важная задача.
И здесь есть еще одна проблема. Речь идет о том, что за последние годы произошла инфляция того, что мы привыкли называть образом другого. Я об этом довольно подробно пишу в книжке: инфляция образа другого сыграла очень важную роль для идеализации монстров и насилия. Но, наверное, это уже совсем другая тема.
— И подвопрос к последнему вопросу. Когда вы говорили, что человеческая жизнь не является ценностью для тех людей, которые создают индустрию смерти, что в таком случае для них является ценностью? Ведь не смерть же? Они никогда в жизни этого не признают и будут это отрицать.
Или все-таки смерть?
— Многие из них, будучи спрошены так же, как вы сейчас хорошо и прямо задали вопрос, конечно, будут отрицать это. Я не предполагаю, что Стефани Майер вообще способна к такого рода рефлексии. Очень многие, кто эксплуатирует эти темы, конечно, не отдают себе отчет — точно так же, как и потребители массовой культуры, — что, собственно говоря, они делают, в чем состоит их культурная функция. Но некоторые отдают. Роулинг, например, прямо пишет о том, что ее книга — о смерти. Она отдавала себе отчет — я уверена — в том, как она создавала образ Гарри Поттера на основе трех очень мощных новых культурных героев, которые только возникали в Голливуде в момент, когда она писала свои книги. Это образ маньяка-убийцы, психически больного человека и вампира. Она соединила эти три образа — в книжке у меня есть анализ этого, — завернув этих монстров в образ десятилетнего очкастого сироты. Я думаю, что она это делала сознательно. Но многие это делают бессознательно. Нам с вами надо отдавать себе отчет, что мы обсуждаем не Марселя Пруста, мы обсуждаем вещи, главной целью которых является коммерческий успех, и не будем закрывать на это глаза. Это ведь не Федор Михайлович Достоевский, Гарри Поттер не Раскольников, нет там никакой философской идеи, но есть огромная инвестиция всего, что угодно, в коммерческий успех. То, что «Гарри Поттер» был замыслен как коммерческий проект, это не моя идея, об этом написана масса книжек.
— Спасибо, Дина! Я думаю, мы сегодня вышли на массу новых топиков. И это не последняя попытка с нашей стороны.
Беседовали Ирина Чечель и Александр Марков
Читать также





Комментарии