Михаил Гефтер
Приветствие участникам круглого стола «Альтернативы развития» в журнале «Рабочий класс и современный мир», посвященного 70-летию со дня рождения М.Я. Гефтера
Текст посвящен роли историка в обществе и становлению Гефтера как историка.
 3 253
3 253 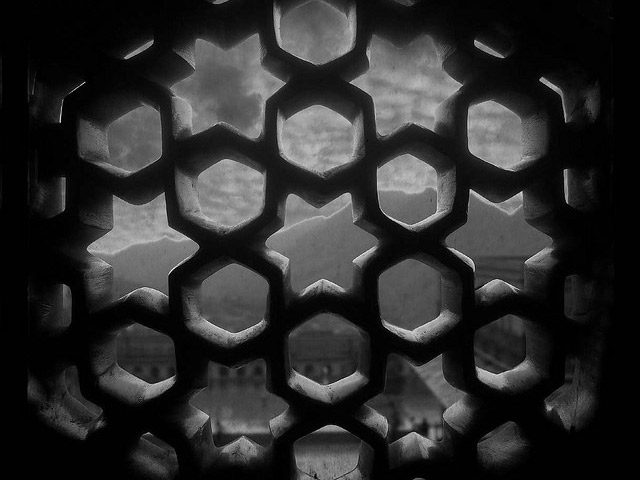
Частично опубликовано: М. Гефтер. К альтернативе //Век ХХ и мир. 1992. № 3. Текст надиктован.
Я приветствую вас всех вместе и каждого в отдельности. Не стоит скрывать, что я рад тому обстоятельству, что мое «-летие» послужило поводом для этого круглого стола, который, судя по составу участников, с которыми я познакомился, обещает быть интересным и мыслями, и, надеюсь, продуктивным своим «разномыслием».
Я хотел бы как-то отдельно поблагодарить своего неизменного друга Игоря Константиновича Пантина и всех, кто были инициаторами этого собрания.
Поскольку мне наперед предоставлена маленькая привилегия, познакомившись с тем, что будет сегодня сказано, добавить к этому что-то от себя по существу дела, я ограничусь сейчас всего лишь несколькими словами, касающимися нашего ремесла и немножко меня лично.
В школьные годы я собирался стать физиологом. Но моя бурная общественная активность вынесла иной приговор: я стал и остался историком (сейчас уже смешно выражать по этому поводу сожаление; ну, а о радости говорить ни к чему). Стал и остался. И таковым уже буду, вероятно, до самого конца.
Когда я начинал им быть, это занятие, это ремесло представлялось мне не только увлекательным, но и относительно несложным. Правда, я уже знал, ну, не скажу с самого детства, но все-таки знал достаточно уже в ранние годы, что это ремесло, это занятие требует труда, черновой работы по добыванию фактов, что историк — это прежде всего голый факт. «Was ist eigentlich gewesen?» — как говорят немцы. — «Что же на самом деле случилось?»
Потом, впитывая знания и получая уроки жизни, я понял, что факт, или, как его иначе иногда называют, «упрямый факт» — это очень хитрая, это очень непростая штука. С ним связаны и тягости его добывания, и радости его добывания, но с ним связано еще нечто иное, о чем мы не раз долго говорили с моим другом, университетским и секторским, философом Владимиром Библером. Факт уходит из рук в тот момент, когда кажется, что ты уже выловил, овладел и держишь его в своих руках. Он — как рыба, которая выскользнула из рук и ушла в море. И ты уже имеешь дело не с рыбой — ты имеешь дело с морем. Факт совершает невиданные, непредуказанные, прихотливые путешествия, своего рода «одиссеи» по ступеням человеческого сознания и человеческого действия, пока где-то на самом верху он не достигает той вершины или полувершины, на которой написано, что история — это непроверяемая гипотеза. Вещь как будто бы очевидная. В нашем деле два раза опыт не поставишь. Когда его ставят, за это расплачиваются люди жизнями. Это известно везде. Вероятно или может быть, у нас в России это известнее. Мой любимый Щедрин как-то сказал, что «история — это занятие, которое должно утешать людей; у меня же лично оно сдирает кожу заживо». Боюсь, что это мог сказать такой человек только в такой стране.
Непроверяемая гипотеза требует от историка строгости, а иногда и мужества. Во всяком случае, он должен в это вкладывать кусок своей души и своей жизни. Кроме того, и это самое главное, он должен знать, что, когда он ошибается, начинают «опечатываться» поколения людей. А когда начинают «опечатываться» поколения людей, то могут появиться мертвые. Человек моей профессии это хорошо усвоил. Но не сразу. Про себя могу сказать: «Не сразу», — и, с некоторым упреком, адресуемым себе: «Я понял это сравнительно поздно». Но, понявши, мне кажется, сделал из этого некоторые для себя выводы.
И еще об одном я хотел сказать. С детства моего, школьного, пионерского и дальше, для меня было два понятия до неразличимости близкие, родные, собственно, настолько близкие, слившиеся друг с другом, что они воспринимались мною как одно понятие, — Россия и Мир. Как у всякого юноши-подростка, у меня были свои любимые образы, любимые строки, любимые герои, будь то Овод или Хаджи-Мурат, или безымянные люди из пушкинского «Ориона», или воспетый Маяковским Кемп «Нит гедайге», и недосягаемый для меня образец мужества и чести князь Андрей; но был один и остался один образ, который впечатался в мою душу, врезался в нее особенно резко, он стоял рядом, со всеми и отдельно ото всех: это был, это есть Гуимплен — «человек, который смеется». И не только романтическая история его жизни, рассказанная Виктором Гюго, породнила меня с ним, но одно место, несколько слов, которые я потом повторял, как какую-то присягу или какие-то слова молитвы, если бы я был верующим юношескую и дальше часть своей жизни. Это было то место, где он, по прихоти судьбы бродяга, изгой, вдруг оказался пэром Англии. И, изуродованный навсегда смехом, появился в Палате Пэров и сумел произнести только одну фразу: «Милорды, я пришел сообщить вам новость: на свете существует человечество!» Когда я прочел впервые эту фразу (я помню этот день, этот вечер; мне кажется, что я даже помню, какого цвета было небо), я был потрясен до глубины души. Ведь действительно — на свете существует человечество! Для меня это было ясно, для меня это было незыблемо, но вместе с тем это — ну, как бы сказать, чтобы не было очень выспренно, — это как-то распрямляло, расправляло крылья моей души. И эти слова вмещали в себя до поры до времени Россию и Мир на равных, скажу еще раз, неразличимых началах, они были вместе. Они были вместе, несмотря на многие испытания моей жизни, на тяжкие утраты, на разочарования; они были во мне до того момента, пока эта близость не разорвалась, едва не превратив меня самого в осколки. Но я остался жив.
В этом году я прочел одну из человечнейших книг, как мне кажется, на свете — «Памяти Каталонии» Оруэлла. Там в конце (речь идет о событиях 36-го года; книга вышла в 38-м), там в конце он приводит, он вспоминает о своей встрече с Артуром Кестлером, которому он сказал: «Ты знаешь, для нас история кончилась в 36-м году». И Кестлер тут же отозвался: «Конечно!» А в 36-м я провинциальным мальчиком ехал в поезде в университет в ожидании грядущего, счастливый тем, что мне ожидало узнать, увидеть. А, наверное, сегодня в этом зале найдется немало артуров кестлеров, которым если я скажу: «История для меня кончилась в 68-м году», они ответят: «Конечно!». А между тем, в 68-м году начинали только жизнь, вступали в жизнь многие мои молодые друзья, без которых я не представляю свою жизнь сегодня. Но эти слова, я не берусь отвечать за Оруэлла, тем более что он после этого написал «84-й», но эти слова для меня означают, что история кончилась в 68-м не только в смысле, адресуемом самому себе, людям моего возраста, моего поколения, моим единомышленникам, моим друзьям, — для меня кончилось нечто большее.
Мне надо было найти какой-то выход из этой ситуации, при котором я мог бы продолжать жить в качестве человека, продолжающего заниматься историей. И тогда ко мне пришло в том смысле, который я до сих пор столько лет пытаюсь прояснить, снова пытаюсь его понять и, не понимая, отступая, возвращаюсь к нему, пришло это, ныне обкатанное, расхожее, вроде бы иностранное слово «альтернатива». Оно стало означать для меня что-то непохожее, но по близости и важности для моего существования близкое, родственное тем словам, которые потрясли меня в юности: «Милорды, я пришел сообщить вам новость…».
Я не сообщаю новостей, но я хочу сказать, что для меня человек есть человек в меру того, что он способен на альтернативу, в меру того что он теряет эту способность и в меру того что он находит в себе мужество и силы, иногда на кромке смерти, иногда перед лицом неизвестного, снова и снова искать и находить в себе импульс к этому. А уже что такое это — тема сегодняшнего собрания…
1988 г.




Комментарии