Андрей Игнатьев, Роман Стойчев
Суверен и ресурс справедливости
Мы публикуем отклики философа Романа Стойчева и социолога Андрея Игнатьева на статью Александра Филиппова «Суверен Гоббса», показывающие, что дискуссии о суверене уже не укладываются в шмиттеанскую концептуальную рамку.
 4 231
4 231 
© Thomas Hawk
От редакции: Статья А.Ф. Филиппова «Суверен Гоббса» не могла не вызвать дискуссию: интересно, что эпицентром дискуссии оказалось не само по себе понятие суверена, учреждающего социальный порядок, но техники легитимации этого суверена. Мы публикуем отклики, показывающие, что дискуссии о суверене уже не укладываются в шмиттеанскую концептуальную рамку и требуют экспансии либо в сторону исследования стратегий социального признания (что не обязательно означает следование методологии П. Бурдьё), либо в сторону риторического анализа власти. Риторика современной власти явно отличается от античной парресии, свободы публичных выступлений, о ценности которой для становления европейского самосознания напомнил в свое время Мишель Фуко. Но будем ли мы описывать риторику власти как подрыв парресии, как определенный набор манипуляций речевыми и экономическими ресурсами с целью растворить политическое в новом изводе реальной политики ― глобальной реальной политике без субъекта? Или мы будем считать, что сама ситуация парресии проблематизировалась, так как дерзким может быть не только публичное выступление, но и различные социальные и экономические перформансы ― и вслед за оккупацией Уолл-Стрит следует ждать оригинальных перформансов от самих ее клерков. По сути дела, современные споры между левыми и правыми, социализмом и либерализмом ― это уже не спор между социальной справедливостью и экономической целесообразностью, а открытая тяжба между сторонниками старой парресии, то есть публичного заявления на политизацию социальных требований, и сторонниками «креативной экономики», в которой риторика оказывается одной из функций уже состоявшейся политики, а рычаги управления отождествляются с ресурсом креативности. Можно долго говорить об этой новой политической конфигурации ― пока нам важно только то, что в условиях мирового экономического кризиса исчезает суверен-инвестор, а риторическая тяжба о природе власти обрела полную силу.
Роман Стойчев: Место согласия?
Конечно, у Гоббса государство может быть основано на договоре, а может ― на захвате. Но второй случай, который, к сожалению, Гоббс толком и не рассматривает, потому и противопоставляется первому, что принципиально исключает факт самого договора/согласия. Автор статьи почему-то начинает их смешивать, говоря, что во втором случае речь идет о неком «гипотетическом» согласии, понимаемом как «лояльность». Но лояльность, если понимать ее как факт отсутствия сопротивления суверену, двойное отрицание «не-не-согласия», никак не может заменить понятие договора как явно выраженного позитивного согласия! Сама эта линия мысли, восходящая к Макиавелли, да и к полемосу Гераклита (можно назвать ее силовой, исторической, реалполитической), является контрюридической в принципе: для нее вопросы легитимации вообще не важны; и здесь Гоббс не изобретатель, а последователь, констатирующий очевидный факт: государство возможно без согласия.
Автор статьи признает, что состояние войны у Гоббса никуда не исчезает и подпитывает суверена. Такая версия есть, например, у Агамбена, но Агамбен при этом не рассуждает о согласии, Гоббс у него не либерал, тут нельзя усидеть на двух стульях: либо полемос, либо согласие. Вспомним чеканную формулу Клаузевица, по-моему, вполне релевантную и для государства, основанного на захвате у Гоббса: «Война ― это способ насильственно навязать другому свою волю».
Но в конце статьи оказывается, что ставка делается не просто на поиск согласия в государстве, основанном на захвате, а на поиск непременно «свободного признания» власти мыслящими индивидами. Идеализировать гоббсовского индивида довольно проблематично, текст «Левиафана» явно говорит об антропологическом пессимизме Гоббса. Нельзя сбрасывать со счетов и патентованный реализм Гоббса: гражданский мир для него несомненно дороже, чем тьмы низких (пусть и научных) истин. В главе «О правах суверенов» специально оговаривается необходимость цензуры и контроля над общественным мнением: «Ибо действия людей обусловлены их мнениями, и в хорошем управлении мнениями состоит хорошее управление действиями людей с целью водворения среди них мира и согласия».
Возможно, что поиск философского камня «согласия» (как и рассмотрение классического для этих теорий вопроса, распространяется ли общественный договор на потомков) вытекает из самой социологической перспективы рассмотрения, которая, с одной стороны, констатирует, что власть связана с насилием, с другой ― хочет наблюдать «свободных агентов», которые признают власть. Очевидно, такая позиция восходит к тезису Макса Вебера о государстве как господстве, опирающемся на «легитимное насилие», и является попыткой скрестить две указанные линии понимания власти: юридическую и силовую. Сама по себе такая попытка довольно проблематична, так как если «насилие» можно «наблюдать», то «согласие» ― нет; остается лишь рассмотренный вариант с «отсутствием сопротивления» (Вебер же прибегает к психологии), в котором сложно признать «согласие», тем более в контексте разговора о Гоббсе, идеологе самосохранения, обосновавшем возможность сопротивления насилию суверена.
Андрей Игнатьев: Томас Гоббс и подвиги сыщика Гурова
Для начала ― чистосердечное признание: я трудов Гоббса не читал (разве что какие-нибудь извлечения в хрестоматиях и чужих публикациях), более того ― в этом своем воплощении почти наверное не прочту никогда: история социальной и политической мысли ― не мой предмет, у меня свой, достаточно специфический круг интересов и чтения, за границы которого мне, как правило, незачем выходить, а кроме того ― не вижу, что бы такое чтение могло мне дать в ситуации, когда реальным или виртуальным, не важно, партнером по диалогу является А.Ф., который Гоббса читает давно, очень внимательно и, я бы сказал, «по жизни», а не по долгу службы. Интернет с его специфическими нравами, как и вообще post-modernity, безусловно, располагает к тому, чтобы отважно вступать в полемику с кем угодно и о чем угодно, но это не в моих правилах, соответственно, я бы категорически воздержался от непосредственного и активного участия в обсуждении заметок А.Ф. о Гоббсе, если бы понятия «естественного» и «общественного» модусов повседневной жизни вкупе с понятием суверенитета не входили в тезаурус той области исследований или дисциплины, более или менее компетентным представителем которой я себя считаю, и не конституировали бы ее по-прежнему актуальную традицию, т.е. комплекс более или менее общепринятых и привычных навыков дискурса.
Более того, подозреваю, что именно эта сложившаяся традиция социологии, в которой А.Ф., сколько знаю, воспитан и которую тоже знает лучше многих других, а вовсе не аутентичная мысль Гоббса, которую нам сегодня все равно не прочесть, сколько бы мы ни учили историю и библиографию вопроса, идиоматику конкретного места и времени, где этот вопрос был поставлен, или какую-нибудь другую «матчасть», обусловливает предлагаемый нам отказ от трактовки «естественного» модуса повседневной жизни как прагматического эквивалента для «варварства», в историческую реальность которого как повсеместного общего прошлого многие верят до сих пор, в пользу его трактовки как особого контекста, альтернативного «цивилизации», она же пресловутый «общественный» модус, а вовсе не предшествующего всему этому во времени. «Варварство» с его bellum omnium contra omnes давно уже признано мифологемой, так называемый «псевдогенезис», т.е. отождествление структурных типологий со стадиями развития, тоже давно уже признан логической ошибкой, а вот бинарная (или дуальная) организация повседневной жизни, напротив, оказалась одним из ее антропологических инвариантов, во всяком случае, оппозицию «естественного/общественного» у Гоббса, как ее трактует А.Ф., трудно не сопоставить с оппозицией «хаоса» и «космоса» у Гесиода, «фирмы» и «рынка» у Стэнли Коуза, стохастических и детерминированных систем в прикладной математике, континджентного и конститутивного режимов социального признания в так называемой «когнитивной социологии» или, наконец, «города» и «дикого поля» в героическом эпосе.
У нас в семье есть традиция: каждый вечер, если, конечно, нет какого-нибудь серьезного биатлона, футбола, тенниса, легкой атлетики или прыжков в воду, уступать мне в безраздельное владение телевизор, чтобы я мог беспрепятственно принять свою ежевечернюю дозу сериалов, обычно это какая-нибудь эпическая сага на НТВ. Так вот: на днях в очередном выпуске сериала о подвигах сыщика Гурова, имя которого ― очевидная, хотя и весьма двусмысленная аллюзия на давний отечественный водевиль, нам как раз перед встречей национальных футбольных сборных России и Польши, не исключено ― специально, показали столкновение между двумя этиками ― континджентной этикой текущей оперативной целесообразности, которой придерживается сыщик Гуров, и конститутивной этикой автономных моральных принципов, которой придерживается его антагонист ― некий польский офицер шляхетской породы, кажется, его фамилия Невядомский, но это тоже аллюзия, внятная лишь тем немногим телезрителям, кто знает польский язык и тамошние порядки. Коллизия, составляющая фон любого такого телесериала и непреходящую личную драму его героев, заключается в том, что в обществе, которое руководствуется чисто континджентной этикой, заслуга и меритократия невозможны, героя вознаграждают исключительно тем, что оставляют в живых, на свободе и при уже занимаемой должности. Вот почему тамошние генералы ― это всегда бездарные, но хитрые интриганы, тогда как герой никогда не получает очередного и давно им заслуженного воинского звания, отпуска, повышения зарплаты или другой награды.
Если и когда мне еще раз выпадет разъяснять, зачем нужны социальные конвенции или, тем более, в чем разница между «естественным» и «общественным» модусами повседневной жизни, я сошлюсь не только на Гоббса или А.Ф., но и на этот самый выпуск телесериала о сыщике Гурове, который, как, впрочем, и все без исключения его коллеги в других современных отечественных сериалах, причем не только на НТВ, действует именно что в контексте «войны всех против всех», где этика текущей оперативной целесообразности оказывается единственно уместной. Оттого-то его победа в отдельном конкретном поединке, а он побеждает всегда, никогда не имеет системообразующих последствий и не сказывается сколько-нибудь заметно на состоянии общества, подобно какому-нибудь мифологическому чудищу снова и снова извергающего из своего чрева преступность. Именно в этом состоит «месседж» знаменитой киноэпопеи Ф.Ф. Копполы, именно поэтому (чтобы сразить Левиафана) предводитель франков Хлодвиг некогда принял христианство (это позволило ему основать династию, т.е. институт, обеспечивающий «транспарентную» передачу власти). Иными словами, оппозиция «естественного/общественного», о которой пишет Гоббс или А.Ф., конституирует не только типологию модусов повседневной жизни, но и реальные стадии исторической трансформации общества, все равно ― революции или реформы, которую предстоит инициировать и организовать политическому лидеру, действующему как суверен, т.е. «физическое лицо», как теперь говорят, подотчетное только воле Божией, законам истории и голосу собственной совести.
Тут, конечно, стоило бы задержаться на имени собственном, которое Гоббс поставил в заглавие своего труда, а М. Ямпольский сделал центральной метафорой одной из своих книг о дискурсе post-modernity. Для читателя, хоть сколько-нибудь знакомого с библейской идиоматикой и традицией (англичан XVII века ― безусловно), это имя является недвусмысленной аллюзией прежде всего на историю Иова, человека, волею обстоятельств на неопределенное время ввергнутого в «естественное» состояние (как нетрудно заметить, именно эту историю нам без конца на свой лад пересказывают телесериалы «о ментах и бандитах»), а кроме того ― на историю пророка Ионы или даже на неканоническую литературную и фольклорную агиографию, образцом которой, в частности, может служить «Моби Дик» Мелвилла. В этом контексте Левиафан ― псевдоним, за которым сокрыт враг рода человеческого, искушающий нас всякими погибельными соблазнами и оттого перманентно вынуждающий к bellum omnium contra omnes, тогда как политическое амплуа суверена, действующего как персонифицированное обетование порядка, спасения и благополучия в этой жизни, оказывается (как и помянутые выше телесериалы) очередной хорошо камуфлированной версией архетипического поединка между героем и драконом. Как видим, философия и социология Гоббса отнюдь не является всецело рациональной теорией, которую можно верифицировать обычным порядком или даже редуцировать к императивам практической компетенции, в подтексте его труда ― парафраз универсального (для «западной» культуры, во всяком случае) эсхатологического мифа, экзегеза которого, в том числе разграничение «естественного» и «общественного» модусов повседневной жизни, а также аналитика суверенитета, требует выхода далеко за рамки секулярного политического дискурса.
Коротко говоря, суверенитет ― вовсе не эвфемизм режима личной власти и не алиби для произвола, а необходимое исходное условие трансформации общества, впавшего в глубокую аномию, без этого нельзя. Так понимаемый суверенитет, разумеется, чреват разнообразными парадоксами, о которых можно почитать у Карла Шмитта, мыслителя, по версии А.Ф., если я правильно его понимаю, впрямую наследующего Гоббсу. Однако их сколько-нибудь детальное обсуждение увело бы меня сильно в сторону, отмечу только, что разрешение этих парадоксов, вообще говоря, достигается лишь тогда, если и когда суверен является персонификацией «общего блага», а не его гарантом, т.е. инструментом или условием доступа к соответствующему ресурсу. Конкретный индивид приобретает такой статус в тех случаях, когда этот индивид ― единственный доступный сексуальный партнер, больше трахать некого или некому, этот индивид ― единственное, что годится в пищу, ничего другого, что может спасти от голодной смерти, помимо его или ее тела, нет, наконец, этот индивид ― носитель аутентичной харизмы, лидер, следование примеру которого позволяет справиться с любой «чрезвычайной» ситуацией. Возможна, конечно, и контаминация любых двух или даже всех трех указанных признаков, отсюда мифологема сотера, тело которого приносят в жертву и затем съедают или с которым вступают в интимную связь. В такой перспективе суверенитет ― это формат отношений («фрейм», как сказал бы, наверное, Эрвин Гофман), источником и прототипом которого является инфантильный опыт матери с ее грудью, полной меда и молока, который затем уже в стрессе, кризисе или других подобных контекстах проецируется на политическую жизнь.
Читать также
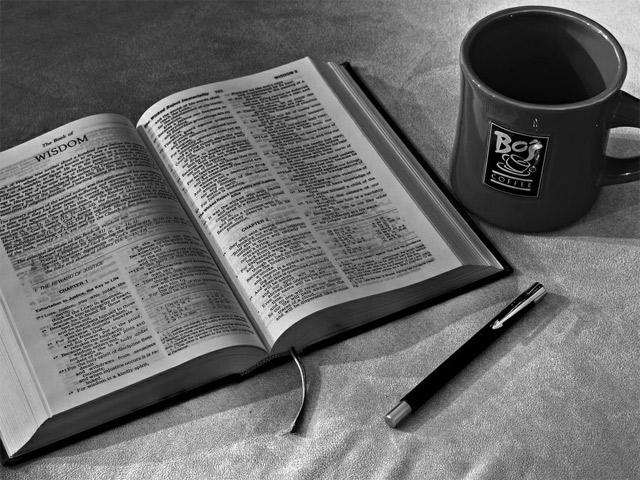
Естественная теология и противоестественная сакральность
Продолжают поступать отзывы на статью Александра Филиппова «Суверен Гоббса». На этот раз культуролог Виктория Файбышенко связывает идею суверена с идеей уже освященной истории, в которой есть постоянное сотворение политики.





Комментарии