Глеб Павловский
Тренировка по истории
В книге собраны беседы Михаила Гефтера с Глебом Павловским. М., 2004.
 25 602
25 602 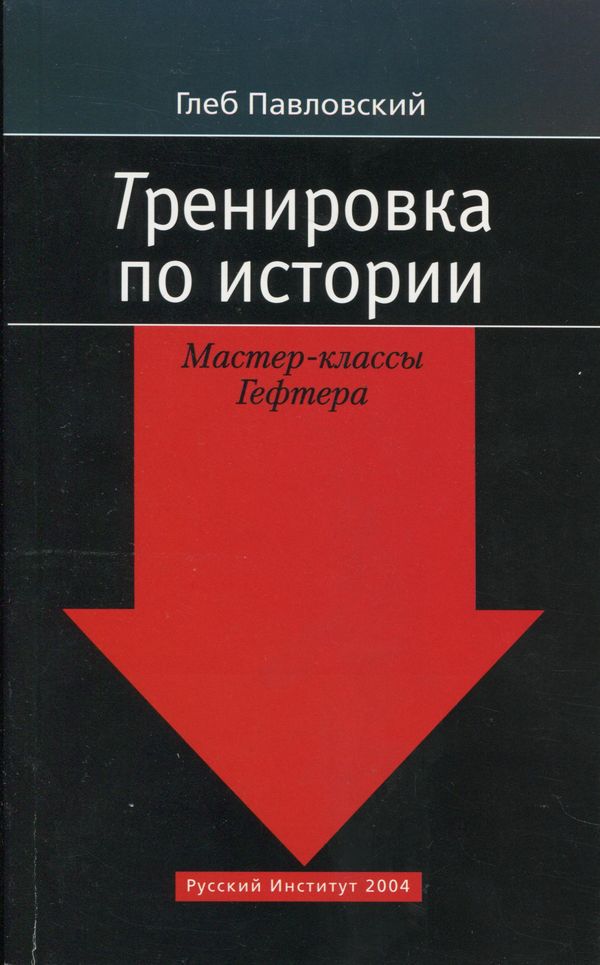
История не сдается — она отчаянно и иногда победно сопротивляется; она погибает с честью! И во время Сопротивления, и в наших 41-42-м. А вот уже после войны явна неспособность выразить в исторических формах результаты войны, и начинается истинное отмирание, история загнаивается. Раздел мира, зоны влияния, блоки… Социальные различия держав перестают играть всякую роль. Это видно на пальцах. Разве Англия в пору своего владычества на морях и господства повсюду могла переустраивать мир, а тем более грозить ему ликвидацией? Или еще: представим себе Ленина, делящего мир, — это просто смешно! Для него возможен временный компромисс по поводу сдачи чего-либо, но никак не ради приобретения! Представить себе компромисс Ленина со старым Миром для приобретения территорий, чего-то для себя, а?!! Абсурд. Достаточно привести этот пример, чтобы увидеть несопоставимость — не фигур, а миров.
Завязывается начало какого-то промежуточного состояния: старт его можно считать от двух японских городов в 45-м, а следующий перегон, пожалуй, идет от Чернобыля: после него перелом…
— Давай переведем дух. Не теряем ли мы берега вопроса, когда полем действия становится история мира?
— Ничуть. Пытаясь добраться до глубины вопроса, мы касаемся самых оснований человеческого существования. Оно не абстракция, это наше существование, хотя в спорах о нем без абстракций не обойтись. Я начну с одного парадокса, хотя он вовсе не парадокс, а самая существенная сторона нашей жизни, которую мы недостаточно понимаем.
Мы все продолжаем жить в Мире, которого уже нет. Мы живем его привычками, руководствуемся его стандартами, говорим его языком — а его уже нет, он другой. И чересчур мало времени еще прошло с тех пор, как исчез тот, прежний мир, чтобы мы успели это осмыслить и примириться с новым — с новым Миром же, а не просто суммой «внесенных временем корректив».
Давай сразу оградим себя от банальностей, от рассуждений об «апокалиптическом времени» и «угрозе гибели». Не потому, что такой угрозы нет, она реальна, — а потому, что дурно понятая угроза никого ни от чего не предостерегает. Человеческое существование всегда предстояло смерти как вещи реальной, неукоснительной и «тотальной». И все варианты созданных человечеством структур жизнедеятельности прямо, накоротко замкнуты на смерть. Речь, впрочем, идет не о вариантах, а о своего рода «эрах», не равновеликих по времени, но равно фундаментальных полосах жизни рода человеческого.
Первая из них — время, когда над существом человека безраздельно господствовали циклические законы эволюции, где нормой существования была гибель. Погибали цивилизации, смывались с карты государства — иногда в полном составе жителей!.. Страдания живого существа весили столько же, сколько наши страдания, однако у окружающих они не вызывали особого волнения, просто ими не замечались. Шла вселенская выбраковка, нормой которой была гибель в буквальном смысле слова. Именно этой выбраковке мы обязаны тем, что сегодня ни с того ни с сего можем раскопать в песках культуру, о которой не подозревали: именно потому, что культуры и миры уходили в гибель, в песок…
Вторая полоса гораздо короче по времени, но нам несравненно понятней — это история. В ее пределах развитие уже носит непрерывный характер, история не знает абсолютных, абсурдных разрывов. Само понятие «невосполнимой потери», если вдуматься, — чисто историческое понятие, оно предполагает коллективную память, тоску по прошлому, отношение к канувшему в Лету «чужому» как к своему.
Ничего подобного прежде не было. Никто в Ассирии не тосковал по Шумеру; и весьма осведомленные египетские жрецы совершенно безучастно поведали грекам про гибель Атлантиды — вот только Платона ее судьба глубоко взволновала!
Вторая, историческая полоса — не менее кровавое дело, чем первая. Войны и столкновения порождали чудовищное озверение, кровь лилась рекой; в столетние и тридцатилетние войны народы вырождались морально и физически; чума косила целыми городами — и все-таки на протяжении истории мы имеем дело примерно с одним и тем же составом этносов, наций, государств. Меняются общественные системы, границы, идет экспансия прогресса на все пространство Земли — процесс также кровавый, но жертвы процесса, хотя это и малоутешительно для них самих и для нас, не исчезают в ничто — их память становится достоянием прошлого и, следовательно, всеобщим достоянием, проблемой духа.
История тоже гибель — но гибель избирательная! Не все погибают, иногда больше, иногда меньше, и — что невероятно важно — начинается борьба за ограничение гибели. Эта борьба также оплачивается смертями. Мы знаем: ничто великое не было бы достигнуто, если бы другое — также великое! — не приносилось в жертву. Жертва — иное имя прогресса, и поэтому прогресс надо искупать. Гибель уходит в подтекст, отражаясь опосредованно в других механизмах — столкновениях партий, классов, религий… Смерть действует как фундамент непрерывности, то прорываясь наружу, то уходя вглубь, например в культуру, где проблема смерти вообще главная, хотя и не в биологическом, а в нравственном смысле. Проблема цены, которую люди платят за развитие.
Прогресс превращается в своего рода «автомат», непрерывность его окупается гибелью некоторых людей, классов, поколений. Этот автоматизм мучителен для культуры, тем более что культура тоже — кружным путем — работает на прогресс. Муки совести одиночек, включаясь в цикл избирательной гибели и расширяя, обновляя ее инструментарий, вдруг оборачиваются физическими муками для других.
Цикл становится все короче. Обновление — всенепременней. Всякий раз требуются «новые силы», а что это означает для уже задействованных? Вытеснение живых людей из жизни! И тут же, рядом, — борьба за сохранение того, что есть, за продление и спасение индивидуальной жизни…
Где-то подспудно в культуре присутствует знание о том, что для человеческой жизни смерть очень важна. Ведь собственно жизнь — это обновление; она сама себя обновляет, и это выражается в том, что надо очищать место следующим поколениям. Нет обновления и развития без того, чтобы уступить место следующим!
Тут подспудно нарастает трудность, которая развернулась именно сейчас. Некогда Достоевский сделал правильное замечание: надо говорить не «отцы и дети» а «дети и отцы». Это нормальная коллизия — надо уступать место. Такова цена, которую платят за развитие.
— Можно ли смерть превратить в главное начало всех тонких процессов цивилизации?
— Это не биологизм. В истории смерть, конечно, выступает опосредованно. Через цели и средства, например. Не механизм жизни и смерти движет человеком историческим, он как бы отражается в других механизмах: столкновениях партий, классов, вер, религий… Культура требует принять смерть как условие человеческого развития, настаивая на обновлении человека в сроки, которые никакая эволюция ни обеспечить, ни знать не могла, которые для нее, собственно, не существовали как сроки. И потому проблема поколений — не биологическая проблема. Историческое время, как мы видим, — время непонятное. Оно не совпадает с часами: то скорей, то медленней, то спешит, то стоит на месте… Можно ли сказать, что смена поколений занимает точно определенный срок? Нам даже трудно сказать, что такое поколение: сколько поколений проходит за сто лет американской истории? Сколько — за сто лет русской?..
Я веду к тому, что вторая полоса человеческого существования, видимо, подходит к концу, когда смерть начинает выступать уже не в культурном переосмыслении, а как таковая. Смерть выступает в своем первичном, непосредственном, остром и неумолимом виде. Для Гитлера и Сталина это исходный пункт.
Если к победе Сталина и возникновению его детища, универсума повторяющихся экстремальных ситуаций, вело поражение Ленина, то к торжеству Гитлера — крах довоенного космополитизма. Концепции и идеи XIX века терпят поражение во всех проекциях и повсюду… Но графика тут никакого нет! Самый злодейский замысел растет из личностей, по ходу развития событий…
— Ты рассказываешь о герое, не знающем, что и сам он смертен. Какой успех заставил Сталина возомнить себя неуязвимым, запустив цепь просчетов, завершившихся 1941 годом?
— Первым таким успехом был страшный поначалу момент 1930 года, когда вся его система чрезвычайных мер привела к катастрофе, стала разваливаться — и он все-таки вышел из этого сухим. Но верхом его эйфории были, разумеется, 1938 и 1940 годы. К 1940-му Сталин, казалось, достиг всего. Убил Троцкого — и одновременно открыл себе всемирное поприще.




Комментарии