Глеб Павловский
Тренировка по истории
В книге собраны беседы Михаила Гефтера с Глебом Павловским. М., 2004.
 25 603
25 603 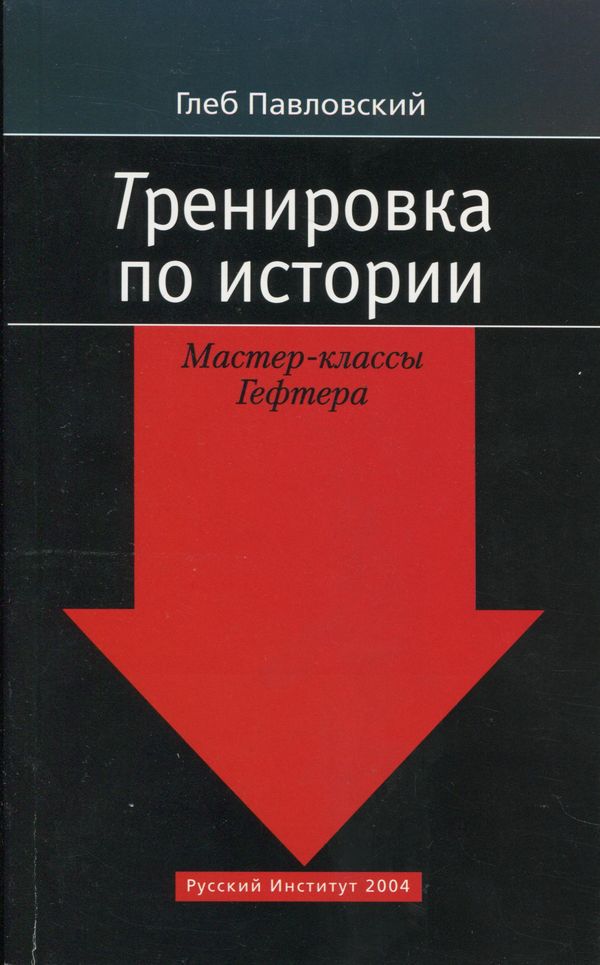
Русская гамма
— В одном из рассказов Кортасара хозяин обнаруживает, что в доме завелись чужие — дверь дальней комнаты становится недоступна, но дом велик, он отступает из комнаты в комнату, пока вся его жизнь не стесняется в последней оставшейся. И вот он уже взаперти, ожидая развязки… Не то же ли самое с русскими? Одна за другой захлопываются двери в нашем доме — пока не окончательно, пока неплотно, но все более определенно… Всплеск сегрегирующего сознания в Прибалтике больно задевает во мне русского. Я не признаю политику, в рамках которой ставят вопрос о сортировке людей по племенам. Сознавая, впрочем, все неприличие своих чувств.
— Но ведь мы для того и говорим. Мы выясняем, что нас нечто беспокоит. Говорить откровенно значит говорить о том, кто мы и что мы есть. Русские демонстрируют целый спектр форм неоткровенных предрассудков — от того, что все вступили в заговор против них, до запрета произносить слово «Великороссия» и обсуждать русский национальный вопрос. Даже друзья, русские и евреи, не могут, не готовы обсуждать национальные проблемы между собой, что делает все их общение насквозь неоткровенным! И с полуслова начинаются взаимные обиды. Я не уверен, что даже муж с женой решаются обсуждать свою национальность. Хорошо сказала Маргарет Мид Болдуину: «У вас в книгах все верно, кроме одного: всякий раз, как собираются потолковать о своих бедах, тут же в центр выходит некто, заявляющий, что ему хуже всех. И он всегда — негр!» У нас это занятие евреев и русских, в равной мере.
— С этой точки зрения неясно, кто теперь у нас главные негры. В то время, когда республики осознают себя как нации, начинают говорить на языке независимости, чем заняты русские? Аплодируя национальным движениям других народов, они боятся собственного, не ощущая единым народом себя самих. Навстречу им ступает то, что я бы назвал русским сионизмом «Памяти»: сплотимся тесней, станем заодно, почувствуем себя русскими в кругу инородцев и поищем от них отличий. Глубочайшая идея перестройки — не свобода, а идея черты, границы, отдельной земли для «наших»… Условной «России», сильно смахивающей на священную землю евреев. Это какая-то нерусская Россия — а где русская? Ушла и невосстановима?
— Да. И теперь можно прийти только к миру в Мире. Но этот действительно русский мир и будет Россией — тем, что искала наша культура в любви-ненависти к русской государственности. Россияне, под каким бы деспотическим правлением они ни находились и как бы они функционально ни срастались с этой властью, — россияне всегда были гаммой, а не монолитом: гаммой прото- и предцивилизаций. Всегда сибиряки были сибиряками, казаки — донскими либо астраханскими, а архангельский или вологодский север был Севером — все это различия цивилизационные, а общим для них были русский писатель украинец Гоголь и русский поэт еврей Пастернак.
— А ты сам?
— Это, может быть, мое еврейское качество, еврейская черта русского. Потому что я русский еврейского происхождения. Мне самому редко случалось оказаться объектом антисемитизма, но я, конечно, представляю, как ожидание еврея, что с ним опять поступят грубо, нетактично, бесчестно, вызывает опережающую отчужденность, сросшуюся с еврейским характером, начиная казаться чуть ли не свойством нации. Интересно, нечто подобное бывает и с русскими — именно со «всея Руси русскими». Они тоже вечно боятся, что с ними поступят как-то не так, что в них оскорбят это суверенизующее их свойство, — и освобождаются через превентивную, недоверчивую ксенофобию, уличающую народы Союза в таких же свойствах. Вопрос надо ставить с детской прямотой, в лоб: да что мы проигрываем оттого, что мы признаем, что нет их, особых и неделимых русских?! Мы можем стать русскими людьми, гражданами, распорядителями земли, собственности, недр и плодов своего труда. Мы только выигрываем!
— Честно говоря, не понимаю, для чего я должен перестать считать себя русским, чтобы «стать русским» же?
— Вот недавно по телевизору рассказывали, как на Севере, прежде чем подоить корову, с ней принято поговорить — иначе будет не то молоко… Вот тебе другая цивилизация: доение, этикет вхождения в дом, обращения, свадьбы… Считаясь русским, ты примешь на себя обязательство жить таким же образом?
Для того чтобы быть армянином, совсем не обязательно повторять себе с утра: я армянин, я армянин… Нация складывается из бытового. Армянин и относится к повседневности как армянин. Как повседневный человек ты складываешься из отношения к твоему учителю, из отношения к женщинам, детям… Ничего здесь нет специально русского! И на самом деле не в этом твоя нужда, нужда — в другом. Нужда в том, чтобы тобой не распоряжались. Чтобы отношения с повседневностью не навязывались и не разрушали других отношений. Переведи все это на язык этноса, пожалуйста… Но для русских на язык этноса это уже непереводимо. Если ты действительно русский не по решению паспортистки, а по культуре, то ты — россиянин. Ты русский только в меру того, что ты россиянин, в этом все дело!
— Не совсем так. Я желаю быть суверенным, но не могу чувствовать себя суверенным, оттесняемый в собственной стране, независимо от того, властью ли центра, национальными ли республиками: «белорусская Вандея» не милей мне «самохозяйственной Эстонии»…
— Но ты сейчас перешел на другой язык. Итак, ты русский в меру того, что тебя теснят? Переверни это — и получится сталинское определение русских: чтобы быть русским, надо неустанно теснить других, служа винтиком всеобщей системы стеснений.
Я же говорю о другом — о позиции человека русского языка, русскоязычной культуры. Русская культура находится в конфликтном отношении к русскому этносу. Культура, говорящая по-русски, сформировалась в пределах империи как союзник, оппонент и соревнователь прав на человеческие души — но не как выразитель особого этноса!
Там же, где она действительно ближе к этничности, там она представлена фигурами иного калибра. Лесков — прекрасный русский писатель, но не Толстой, не Тургенев. Кольцову в роли русского поэта далеко до таких космополитических метисов, как Пушкин и Лермонтов. Или русский националист Тютчев, который жил за границей, а патриотические статьи писал по-французски. Самый русский из них всех, Салтыков-Щедрин, всю жизнь провоевал с «русским духом». Впрочем, это и есть русское — быть в споре с самим собой.
— Вот и я о том. Та русская культура, которая вечно в споре с собственным народом и властью, которая ненавидит свою ограниченность с такой яростью, как антисемит еврея, — эта русская культура не может быть загнана в нацию, вколочена в некую «свою» этническую государственность! Мы не можем стать просто нацией среди наций! А не этого ли добиваются от русских новые суверены республиканского уровня? Все это разом загоняет русского в московский медвежий угол.
— Ситуация загоняет тебя в угол, тобою же выстроенный. Строя государство как систему национально-бюрократических резерваций, более или менее обширных, ты являешься функционером процесса — и сегодня процесс неизбежно поворачивается против нас. Первый глоток свободы для нас в том, чтобы по-русски сказать: я — русский россиянин, в том самом многоцивилизационном смысле. И в этом качестве многоцивилизационного я берусь — уже без помощи Минпроса, без МВД — стать снова властителем дум всех, многоцивилизационных же этносов и наций.
— Тогда мы уже сейчас должны пытаться вернуть свою поликультурность, сделать русских наиболее многоязычным народом СССР. Культура может доминировать без государственных подпорок, когда она интересна. А мы за последние двадцать лет стали серым обществом, неинтересным для остальных.
— Дать русскому стать русским значит сделать его человеком региональной цивилизации, полным распорядителем собственной судьбы в оптимальных земельных пределах и одновременно посредником между всеми на новом языке различий — через русскоязычную культуру, у которой есть исконный опыт взаимного диалога различий. Причем даже внутри самой себя русская культура говорит на разных языках. Уже в Пушкине она говорит на всех языках, не становясь на чью-либо сторону. А далее Достоевский, Платонов… Вообще все крупные представители русской культуры внутренне диалогизированы. Это огромный потенциал, который русская культура употребляла в застрявших экстремальных ситуациях на безысходный и односторонний диалог с властью. Образный русский язык обладает гигантской емкостью. Он легче открывается проблемам (категориальность и систематичность легче скатываются к окостенению). Но я говорю конечно, не о языке «Краткого курса истории ВКП(б)» — оказененном месиве слов-обрубков, жаргоне, говоря на котором с властью, культура и растеряла свой потенциал. Но не до конца же!




Комментарии