Глеб Павловский
Тренировка по истории
В книге собраны беседы Михаила Гефтера с Глебом Павловским. М., 2004.
 25 604
25 604 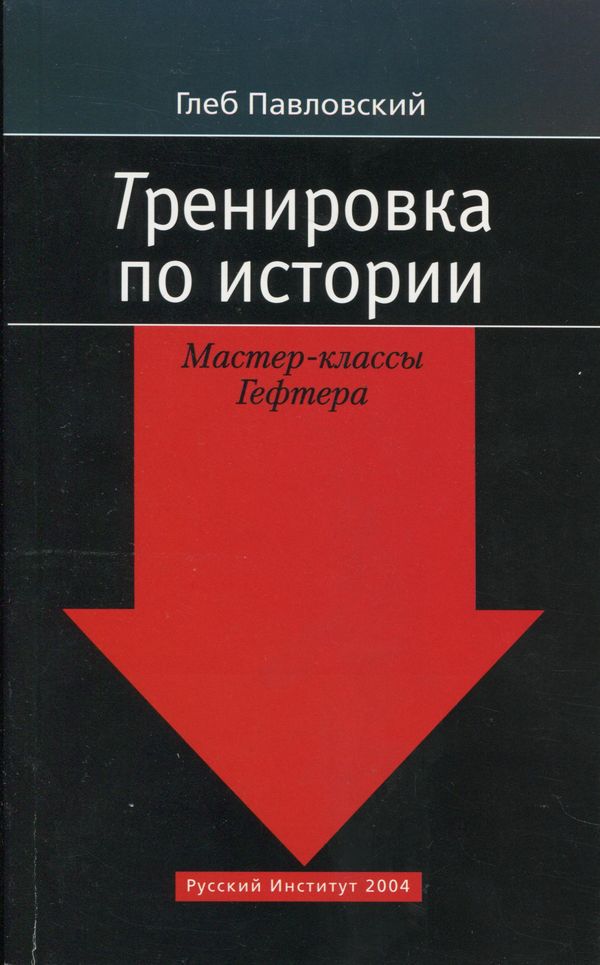
Postscriptum
Со странным чувством я прочитал отрывки из моих уже давних разговоров с Глебом Павловским.
Не отпираюсь — говорил. Может, не в той очередности, да и перенесенная на бумагу интонация в чем-то убывает, где-то вовсе исчезает, дожидаясь иного самовыражения. (Не говорю о досадных неточностях, простительных устной речи, но запрещенных письменному тексту; здесь, в этом сборнике, они исправлены.) Но взялся я за перо не для извинения и не с целью очертить некую дистанцию между размышляющим вслух и его собеседником, которая все-таки существует, даже при сращенных жизнью биографиях.
Это тема особая, тут надо бы приоткрыть шлюзы воспоминаниям, охватывающим уже десятилетия — от преддиссидентских до «перестроечных». Люди, прошедшие бок о бок этот путь, вероятно, и общаются по-своему. Передашь ли эту близость читателю: близость и в особом домашнем идиоматизме, и во многих других трудноуловимых вещах, включая нечто вроде общей собственности на строй мысли и отношение к изгибам судьбы?
Бывшему инакому нелегко мириться с внезапным осмелением людей, которые не вчера, так позавчера еще держались, и если б только по необходимости, казенной прописи! — и переходили, предохраняясь от небезопасной встречи с «отщепенцем», на другую сторону улицы. Свыкнуться трудно, а надо — «ради жизни на земле», как говорил наш великий поэт, замученный и не одною лишь откровенной подлостью, но еще и дружелюбной трусостью, какая тоже не сама по себе, а симптом бедствия, про который если скажешь сегодня — недостача общества, то угодишь в расхожесть и не сразу поймешь, что и эта нынешняя расхожесть в оплакивании отсутствующего — из того же корня, что и само отсутствие… Ближе мы к нему, к долгожданному обществу, или дальше? Либо там, где мнится: всего ближе, — там и дальше?..
Стоп. Здесь поворот к началу: и то чувство, какое испытал я, прикоснувшись к нашим прерывистым диалогам, оно как раз сродни заданному вопросу.
Странность же от сомнения — на тему ли дня? Разумеется, не в имени Сталина устарелость, не в опасении — как бы ненароком не вернули нас (люди и обстоятельства) к тому, что оборвалось в первые весенние дни 53-го — не по историческому сценарию, не по детерминистской подсказке, а по самой человеческой из случайностей, имя которой смерть. Сегодня вроде бы очевидно: той смертью мы спаслись от всеобщего конца. Вернее, не окончательно спаслись, но все-таки отодвинулась развязка, дав время, чтобы самый сценарий вместил перемены, которые в силах избавить людей от распорядительства судьбами и жизнями (какое, восходя к одному, закрывает возможность, чтобы этот один был по меньшей мере не из худших, не из страшных…). Сегодня то, что позади, виднее, но понятнее ли? Да и в самом ли деле распорядительство жизнями и судьбами — позади? Или тут оно — над нами и в нас, и не один лишь «пережиток», но еще и «новообразование», про которое не скажешь с размаху — нужда ли в этом, притом из крайних, либо даже если нужда, то такая, какая норовит заново возвестись в добродетель (и тогда уж не во временную, а снова — в «вечную»)?
Ответов едва ли не столько же, сколько самодельных партий, «фронтов» и движений. События, в свою очередь, с пугающей путаницей распределяются между «да» и«нет». В одну сторону гласность, пик ее, героика «выходов из КПСС», возвраты гражданства в соответствии с неписаной «табелью о рангах» и прочие текущие достопримечательности. В другую — свежие могилы, число коих растет изо дня в день, как и число убийц, среди которых не только беглые рецидивисты, но и входящие во вкус крови этносы, юные генерации их. Кто берется дать безошибочный прогноз предстоящему?
Гороскопы вне профессии историка. Но он в состоянии свести тех, кто теперь доискивается ответа и жаждет выбора, с теми, кто искал его раньше и у кого отняли его, выбор и право выбора, и с теми, кто, на пагубу себе и другим, уступил его, отступился от него…
Эти встречи без встреч — вот что показано жизни сегодня не меньше, чем поиски работающих жизненных механизмов и средств социальной защиты от них же. Как одержимый повторяю: не войдя в наследство, мы потеряем себя. Надо ли доказывать, что не к всеядности зову, не к амнистии памятью? «Мертвые сраму не имут» — даже это в XX веке спорно. Но именно — спорно. А спор требует равенства — и не только спорящих, но и тех, о ком самый спор этот. Никто не убедит меня, что справедливости можно в одинаковой мере добиться, вытаскивая истлевшие скелеты из могил — и собирая по крохам письменные и изустные свидетельства выживших и ушедших: последнее прочнее. И более того — незаменимее именно тогда, когда не ладится жизнь и новыми утратами, свежими тупиками обращает мысль к Выбору, который всегда неизвестность.
…Еще год, еще одна авария сердца. На выходе из первой мне излечил душу «Хаджи-Мурат». Сегодня лечусь у Пришвина, глотая мудрую полынь его дневников. Проверяю себя трагедией Винниченко, мучительно доискивавшегося, как соединить свою неистовую коммунистическую веру с тем, что превыше всего, — с украинской вольностью. Кажется, впервые и не то чтобы понял, больше — сроднился с Борисом Пастернаком, прочитав страницы из афиногеновского дневника 1937 года: наивный провидец, сродни российским юродивым… А какие жуткие строки.
Запись разговоров одного ждущего со дня на день гостей с Лубянки с поэтом, столь «нерасчетливо» открывшимся вчера еще совсем не близкому человеку: «Жена гонит его на собрания, она говорит, что П-к не думает о детях, что его непременно арестуют, если он и дальше будет отсиживаться. Он слушает ее, обыкновенно очень кротко, потом начинает говорить, что самое трудное в аресте его для него — это они, оставшиеся здесь. Ибо им ничего не известно и они находятся среди нормальных граждан, а он будет среди таких же арестованных, значит как равный, и он будет все о себе знать…» Значит, как равный! Это мирило, сближая с предками, с Пушкиным, с XIX веком, вводя в великий неостановочный ряд… И соседствовало с будто полярным, несовместимым, безумным.
17 ноября 1937 года. Афиногенов с Пастернаком читают Сталина — из речи угольщикам и металлургам: «Руководители приходят и уходят, а народ остается. Только народ бессмертен. Все остальное — преходяще».
Резюме долгого разговора двух: «Тут все ясно — мы сейчас живем не только в историческое время, но сами объекты исторических дел, и от этого нелепо и смешно жаловаться, что ветер дует слишком сильный. Что вообще не знаешь, за что берут людей… А если бы ты знал, тебе было бы легче?»
Еще: «Мы все хотим думать о людях лучше, но почему только о тех, которые садятся, а не о тех, которые сажают? Давайте будем справедливы. Равноправие подходов — непременное условие правильных выводов». А Пастернак все же с удивлением: как же так, получается — жил человек и жил, потом его забирают, говорят — грешен и наказывают. «Но он-то ведь мог и не знать, что прежняя его жизнь была не такой, как нужно».
Ждал объяснения, жаждал его…
Читаю. В голове — осколок из своего прошлого. В тот же самый день, в старом клубе МГУ: на сцене однокурсники репетируют «монтаж», и оная нынешняя бабушка, воздевая руки патетически: «Орленок, орленок, взлети выше солнца!..» — а мы — в зале, с тогдашним другом, держим в руках газету с этой же речью и друг другу, буква в букву: «Ясно!»
Пожалеть ли «объектов исторических дел» или отрешить их задним числом от истории?.. Один из модных «сезамов»: «самообман». Что ж, самообман. Не один. Гроздья, целые поросли их. Удобнее бы сказать: самообман самообману рознь. Ведь так? Так. Однако не будет ли это все же самообманом относительно самообманов? Не верней ли предположить, что самообман — один из псевдонимов Истории, неотторжимый от нее («незаконно» прижитое дитя — и двигатель, возбудитель, правофланговый ее), и потому не освободиться ни здесь, ни не-здесь от самообманов, не расставшись с историей, не подытожа собою уже не десятилетия, не века даже, а тысячелетия. А как стать таким итогом, Концом — Началом, не отворивши былому ум и душу, не включивши его в собственную родословную, которая оттого уже и не вполне собственная, хотя все более личная?
Вроде бы сегодня и постскриптум этот ни к чему, да и сам текст. Иной раз думаешь — жевано и пережевано, а другой раз — крик вопиющего в пустыне. Поэтому решили с Глебом Павловским: поставить на «первом разговоре» точку. Последующие же — в архив. В память о тех, уже далеких, ненастных днях, когда, сидя вдвоем-втроем в Черемушках, примеряли к тому, что нас ждет, участь людей Двадцатых, Тридцатых, Сороковых нашего «века-волкодава».
Преклонивши голову перед ними. С надеждой — не повториться.
Но без уверенности, что превзойдем.
Михаил Гефтер
1 сентября 1990 года




Комментарии