Клаудио Магрис
Замки и «дрéвеницы» (Словакия)
Расставание с войной: перечерчивая карту культуры в мирном духе
 3 148
3 148 
От редакции: Благодарим Издательство Ивана Лимбаха за предоставление права публикации отрывка из книги итальянского писателя, исследователя австрийской и немецкой культуры Клаудио Магриса «Дунай», вышедшей в этом году.
1. В аптеке «Красный рак»
Братислава. На входе в старинную аптеку «Красный рак» на улице Михальска потолок украшает фреска с изображением бога времени. Кажется, будто окружающие его настойки и микстуры бросают богу вызов и вместе с распахнутым перед его глазами научным фолиантом грозят лишить волшебной силы, остановить его победное шествие. Аптека XVIII столетия, в которой сегодня расположен Фармацевтический музей, заставляет вспомнить блюдущий порядок и симметрию военный парад, наглядно демонстрирует скромное, но упорное искусство войны против Хроноса. Украшенные цветочными узорами и фразами из Библии кобальтово-синие, изумрудно-зеленые и небесно-голубые сосуды выстроились на полках стройными рядами, напоминающими ряды оловянных солдатиков, расставленных в макетах с изображением знаменитых сражений. Настойки, бальзамы, экстракты, аллопатические, очистительные и рвотные средства замерли на своих местах, готовые ринуться в бой, ежели того потребует военная стратегия или придется отражать неприятельскую атаку. Этикетки и надписи с сокращениями тоже напоминают язык военных: Syr., Tinct., Extr., Bals., Fol., Pulv., Rad.
Своим искусством аптекарь пытается возместить ущерб, наносимый годами, отреставрировать тело и лицо, как реставрируют дворцовый фасад. Знойным летом в маленьком музее хорошо, покойно и прохладно, как в церкви или под зеленым навесом у трактира; приятно осознавать, что находишься в скромном и опрятном буржуазном доме, разглядывая перегонные кубы из лаборатории алхимика, бюст Парацельса, установленный в память о его пребывании в Братиславе, склянки с аконитом и корицей, трактаты по фармакопее, написанные в эпоху Возрождения и в эпоху Просвещения, и деревянную статую святой Елизаветы, покровительницы барочных аптекарей.
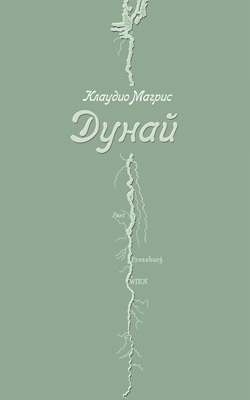 Этот музей орудий сопротивления беспощадному бегу времени — музей истории, которая воплощает его вековую власть (орудия становления и сопровождающего его разрушения) и одновременно лекарство от него, память о случившемся и избавление от постепенного исчезновения и забвения. Рядом с австрийским журналом Союза фармацевтов (на немецком языке) на полке стоят толстенный учебник «Pharmacopea Hungariae» [1] и книга «Taxa Pharmaceutica Posoniensis» [2] Яна Юстуса Торкоша, изданная в 1745 году на четырех языках — латыни, словацком, венгерском и немецком. Братислава, столица Словакии, — сердце Миттель-Европы, здесь накладываются друг на друга прошлые столетия, нерешенные конфликты и споры, незатянувшиеся раны и неснятые противоречия. Память, которая по-своему тоже является врачебным искусством, все хранит под стеклом — открытые раны и нанесшие их страсти.
Этот музей орудий сопротивления беспощадному бегу времени — музей истории, которая воплощает его вековую власть (орудия становления и сопровождающего его разрушения) и одновременно лекарство от него, память о случившемся и избавление от постепенного исчезновения и забвения. Рядом с австрийским журналом Союза фармацевтов (на немецком языке) на полке стоят толстенный учебник «Pharmacopea Hungariae» [1] и книга «Taxa Pharmaceutica Posoniensis» [2] Яна Юстуса Торкоша, изданная в 1745 году на четырех языках — латыни, словацком, венгерском и немецком. Братислава, столица Словакии, — сердце Миттель-Европы, здесь накладываются друг на друга прошлые столетия, нерешенные конфликты и споры, незатянувшиеся раны и неснятые противоречия. Память, которая по-своему тоже является врачебным искусством, все хранит под стеклом — открытые раны и нанесшие их страсти.
Миттель-Европе неведома наука забвения, наука сдавать прошлое в архив; глядя на четырехъязычный учебник по фармакологии и прилагательное Posoniensis, я вспомнил, как мы с товарищами по гимназии обсуждали, кому какое название города нравится больше: словацкое Братислава, немецкое Пресбург или венгерское Пожонь, восходящее к Позониуму, — так назывался римский передовой пост на Дунае. Очарование трех имен одного города говорило о многосложной и многонациональной истории; в предпочтении того или иного названия по-детски проявлялось подспудное отношение к Мировому духу: инстинктивное почтение к великим, могущественным цивилизациям, например к немецкой, — цивилизациям, что сами пишут историю; романтическое восхищение подвигами восставших, полных рыцарского духа отважных народов — например мадьяров или сочувствие к тем, кому суждено играть второстепенную роль, оставаться незаметным — к малым народам, например к словакам, которые длительное время были терпеливым, не привлекающим внимания субстратом, смиренной и плодородной почвой, столетиями ожидающей расцвета.
В Братиславе, некогда знаменитой умелыми часовщиками и коллекционерами часов, которые теперь выставлены в музее на Жидовской улице, ясно ощущается присутствие прошлых эпох, видевших немало конфликтов. Столица одного из древнейших славянских народов на протяжении двух столетий была столицей Венгерского королевства, когда после состоявшейся в 1536 году битвы при Мохаче его почти полностью захватили турки; в габсбургскую Братиславу приезжали за короной святого Стефана; юная Мария Терезия после смерти отца, императора Карла VI, держа на руках новорожденного сына Иосифа, прибыла сюда просить о помощи венгерских дворян. В те времена влиянием в городе обладало лишь доминировавшее венгерское население, да разве что еще австрийско-немецкое население; достоинство и значение крестьянского словацкого субстрата не признавали.
До 1918 года жители Вены относились к Братиславе как к живописному пригороду, куда можно добраться меньше чем за час, чтобы попробовать местные белые вина: их производила еще в IX веке во времена славянской державы Великая Моравия под защитой покровителя виноделов святого Урбана. Когда гуляешь по городу, по его чудесным барочным площадям и тихим уголкам, чувствуешь, что история, уйдя вперед, много чего здесь забыла, — забытое по-прежнему полно жизни и по-прежнему цветет. Ладислав Новомеский, величайший словацкий поэт XX века, рассказывает в одном из стихотворений о целом годе, который забыли в кафе, словно старый зонтик. Но вещи находятся, зонтики, которые за всю жизнь ты где-то позабывал, в один прекрасный день вновь оказываются у тебя в руках.
2. «Где же наши замки?»
Так называется эссе Владимира Минача, написанное в 1968 году. Hrad, замок, возвышается над Братиславой: мощь башен, четкость симметрии, массивность крепости, в которой грубоватая, несгибаемая верность стража соединяется с чем-то сказочно далеким. Вся Словакия усеяна замками, бастионами, дворцами знати; неприступные укрепления на вершинах гор и холмов, напоминающие причудливыми силуэтами башенок Диснейленд, хотя здесь-то все настоящее, чередуются с дворцами знати и приземистыми строениями, в основном цвета охры, постепенно обретающими привычный облик больших деревенских домов.
Но эти замки, — утверждает Минач, — принадлежат не нашей, а чужой, написанной не словаками истории. В своем большинстве жившие во дворцах господа были венграми. Словацким крестьянам оставались «дрéвеницы» — хижины или небольшие избы, которые складывали из бревен, скрепленных соломой и сухим навозом. В замке города Оравский Подзамок, расположенном в долине Оравы, висит картина, на которой изображен светлейший князь Николай Эстергази, — кожа у князя белая, ручки пухлые; руки крестьянок в лежащей у подножия замка деревне до сих пор землистые, сухие и узловатые, словно корни пробивающихся между камней деревьев. Разница между их руками символизирует различную историю двух народов: на протяжении столетий словаки оставались незаметным, темным субстратом — основой, на которой держалась страна, — похожим на скрепляющие древеницы солому и сухой навоз. У нас нет истории, — пишет Минач, — если история состоит исключительно из королей, императоров, герцогов, князей, побед, завоеваний, насилия, грабежа. В одном из стихотворений национальный венгерский поэт Петёфи добродушно рисует латающего кастрюли красноносого словака в линялом кафтане.
Однако те, кого в XIX веке называли «нациями без истории», словно речь шла о мифических сообществах людей, обреченных самой природой заниматься земледелием и вечно пребывать в подчиненном положении, на самом деле были нациями, лишенными (вследствие политических и военных поражений) собственного правящего класса. Минач напоминает о том, какую огромную и незаметную созидательную работу проделали словаки, хотя их история долгое время была историей проигравших, а не тех, кто способен на разрушительное насилие. В 1848 году, когда Европу охватило пламя революционных надежд, словаки выдвинули венгерским поработителям, восставшим в свою очередь против Габсбургов, требования, сформулированные в городке Липтовски-Микулаш: они просили дать словацкому народу основные права, однако венгерские власти ответили на это арестами и жестокими репрессиями; впрочем, после поражения революции 1948 года австрийцы решили помириться с венграми и предоставили им самим разбираться со словаками. Словакам, особенно после 1867 года, при двойной монархии, пришлось туго: их рассматривали (особенно после принятия в Венгрии в 1868 году закона о национальностях) почти как фольклорную группу внутри мадьярской нации, им было отказано в национальной самобытности и в праве использовать родной язык, им не разрешали открывать свои школы и чинили всяческие препоны, выступления словаков подавлялись с кровопролитием, у них не было возможности подняться по социальной лестнице или быть представленными в парламенте. Данные, которые приводит Людовит Голотик, свидетельствуют о подавлении словаков венграми в социально-экономической сфере: словаки были обречены оставаться крестьянами, им было крайне сложно получить образование, капитализм среди словаков не развивался, национальная буржуазия не формировалась, многие словаки эмигрировали, главным образом в Америку. Словацкую нацию сберегала прежде всего Церковь (и католическая, и евангелистская), при церквах открывались школы, сохранялся презираемый и считавшийся второсортным словацкий язык.
Языковой вопрос осложнял отношения и внутри славянского братства, препятствуя его укреплению. Часть чехов (возглавлявших движение австрославизма) призывали использовать в качестве письменного языка чешский, в том числе в Словакии, чтобы обеспечить своему политическому движению единство и силу; словацкий должен был стать диалектом, домашним языком, играющим подчиненную роль. Подобной точки зрения придерживался даже Ян Коллар, выдающийся словацкий поэт и ученый, ассимилировавшийся среди чехов, однако его соотечественники не могли согласиться с подобным решением, понимая, что оно уничтожит их как самостоятельную нацию, они отстаивали автономность своего языка, обсуждая его варианты и сферы употребления.
Тогдашние разногласия, проявляющиеся и сегодня в соперничестве между чехами и словаками, подрывали единство славянского освободительного движения, особенно австрославизма. С одной стороны, словаки как нация, жившая обособленно и сохранившая первозданный облик, претендовали на роль подлинной, первозданной колыбели Славии, древней единой цивилизации, поэтому им были особенно близки другие славянские крестьянские народы, например рутены и словенцы. Еще в XVIII веке Ян Балтазар Магин подчеркивал сохраненную, первозданную чистоту словаков и опровергал в написанной на латыни «Апологии» очерняющие его народ утверждения, которые принадлежали профессору университета города Трнава Михалю Бенчику. Ян Коллар, перешедший на чешский и писавший на чешском, хотя он был словаком, выразил восторженные славянофильские взгляды в поэме 1824 года «Дочь Славы». Именно в Словакии раньше и с большей силой, чем среди чехов, распространился славянофильский мессианизм.
Посеянные семена давали разные, зачастую противоположные плоды. Один путь развития был связан с прорусским панславизмом, другой — с австрославизмом (его отстаивал такой упорный лидер, как Милан Годжа, разделявший воззрения и планы Франца Фердинанда, который мечтал о создании триединой империи). Но если исповедуемый чехами австрославизм давал самим чехам надежду занять в будущем видное положение и добиться желаемого переустройства империи, словакам (подвергавшимся мадьяризации и отделенным от чехов) этот политический проект не предлагал никакого выхода, не давал надежды расстаться с положением малого народа: поэт и патриот-революционер Штур, участвовавший в событиях 1948 года, в конце жизни написал книгу «Славия и мир будущего» (изданную посмертно на русском языке в 1869 году под названием «Славянство и мир будущего»), в которой он предрек распад габсбургской империи.
Словацкая литература, как объяснил мне ученый, член Академии наук Станислав Шматлак, в ходе суда над всемирной историей выступит на стороне обвинения, свидетельствуя о присущем истории страшном «духе уничтожения», как называл его Ницше. В статье, написанной по случаю прошедшего в Праге Конгресса борцов за мир, Шматлак напомнил о традиционном миролюбии и нелегкой судьбе своего народа — эта мысль красной нитью проходит через всю словацкую литературу, от «Gentis Slavonicae lacrimae, suspiria et vota» [3] Якуба Якобеуса (1645) и «Desideruim aureae pacis» [4] Михаля Инститориса (1633) (сочинений на латыни, оплакивающих и осуждающих трагедии войны) до появившихся в роковом 1914 году «Кровавых сонетов» Гвездослава, одного из отцов национальной поэзии, памятник которому украшает площадь почти каждого большого или малого города.
Современная литература нередко обращается к этим темам: в одном из стихотворений Мигалик описывает мечты служанок, в стихах Валека рассказывается о жизни старенькой бабушки, течение которой словно подчинено ударам хлыста, о равнине, исполосованной колесами барских колясок, — на дне колеи скапливается кровавый пот. Франтишек Швантнер, плодовитый и яркий прозаик, в замечательном рассказе «Сельский священник» описывает робкое, смутное пробуждение нравственно-политического сознания (во время национального антифашистского восстания 1944 года) у крестьян, которые на протяжении столетий подчинялись привычному, неспешному ритму, смене времен года, аграрному циклу, жизни земли. Винсент Шикула в своей прозаической трилогии излагает историю народа, увиденную его глазами, глазами темных, угнетенных классов. Роман Петера Яроша «Тысячелетняя пчела», прославившийся после того, как в 1983 году на Венецианском кинофестивале показали снятый по его мотивам фильм — семейную сагу, повествующую о судьбе семьи каменщиков из деревни под Липтовом.
Этим народам выпала нелегкая судьба: на одном из гербов в Городском музее Братиславы изображен габсбургский двуглавый орел, надпись на гербе гласит: «Sub umbra alarum tuarum» [5], однако словаки подчинялись не толерантным и корректным австрийским властям, которых славянские народы нередко мифологизировали, а националистически настроенным венгерским правителям. Возникновение панславянской идеологии, связанной с отстаиванием архаичной исконности славян, объясняется потребностью защититься, мифологизируя и прославляя собственную неистребимую глубинную природу, от тех, кто опьянен властью, и от очарованной властью культуры, отказывающейся признавать достоинство и гарантировать будущее тем, кто до сегодняшнего дня оставался в тени.
Философы, формулировавшие в прошлом столетии законы исторического развития, зачастую не испытывали жалости и оптимизма в отношении малых народов, к которым тогда относились многие славянские народы. Когда тебя манит «огромный мир» политики, легко забыть о том, что все огромное некогда было малым, что для всякого наступает час взлета и час падения и что малый тоже когда-нибудь подымет голову.
Однако малому народу, пытающемуся покончить с презрительным и невнимательным отношением со стороны великих народов (которым, возможно, недолго оставаться великими), необходимо избавиться и от собственного комплекса «малости», от потребности постоянно подтверждать или опровергать это ощущение, поменять знак с минуса на плюс, научиться гордиться своей малостью как знаком избранничества. Тот, кто долгое время был вынужден играть роль «малого» народа и тратил все силы на попытки определить и отстоять собственную идентичность, нередко продолжает вести себя так, когда необходимости в этом больше нет. Замкнутый на самом себе, поглощенный отстаиванием собственной идентичности, тщательно следящий за тем, чтобы ее уважали другие, такой народ рискует потратить все силы на самозащиту и обокрасть самого себя, сузить свои горизонты, не научиться быть господином в отношениях с миром.
Кафка, которого очаровывала жизнь еврейского гетто и его литература, с решительностью и горечью заявил, что поэт обязан оторваться от всякой литературы малого народа: эта литература, вынужденная защищаться от влияния извне и полностью поглощенная борьбой за выживание, не допустит появления великого писателя. Как подчеркивает Джулиано Байони, Кафка сознательно стал великим писателем, которого малая, подавляемая литература, отстаивающая собственное национальное и культурное своеобразие и желающая слышать лишь утешающие и одобряющие голоса, отвергает, поскольку вокруг великого писателя неизбежно возникает пустота, он нарушает целостность, представляет опасность для сплоченной малочисленной группы людей.
Писатель — не отец семейства, а сын, которому предстоит выйти из дома и пойти своим путем; он хранит верность своей малой, истерзанной родине, рассказывая о ней правду, иными словами, глубоко переживая ее угнетенное положение, воспринимая его как свое собственное; он должен на время отдалиться от родины на расстояние, необходимое для всякого искусства и всякого освободительного опыта. До сих пор в отношениях между чехами и словаками сохраняются взаимное недоверие и подозрительность, они омрачены тенью старых предрассудков, связанных с чувством превосходства одних и настойчивым стремлением других отстоять свои права.
Лучшие представители словацкой культуры уже избавились от этого и, любя свой чудесный край, научились рассказывать о его тревогах и бедах. В 1924 году публицист Штефан Крчмери сетовал на то, что из-за ограниченных политических условий и обусловленной этим узости взгляда и небогатого опыта трудно написать словацкий социальный роман. Сегодня, несмотря на тяжелейший полицейский режим, Словакия воспринимается как страна, народ которой вернул себе свою историю или возвращает ее. Можно сравнить это с тем, как стиль общественных зданий и господских домов — австрийский и венгерский стиль, царящий на застроенной низкими одноэтажными крестьянскими домами славянской равнине, медленно сливается со стилем этих домов, перестает подавлять их высотой и величием. Замок Пезинок, возвышающийся там, где некогда находился окруженный виноградниками свободный королевский город, незаметно переходит в бастион, где находится местная «винарня» — трактир с убогой обстановкой, где отменно готовят рыбу и подают вкусное белое вино. Возможно, богиня Правосудия (ее статуя, установленная на крыше административного здания в Оравском Подзамке, держит в руках весы и кривую турецкую саблю, а не меч) решительно разрубила несправедливо затянутые гордиевы узлы и принесла рыбу и вино, некогда привилегию магнатов, на стол простого народа.
Как ни странно, Словакию, которая внесла заметный вклад в весну 1968 года, жестко отреагировавшие на известные события советские и просоветские силы пощадили, отнеслись к ней почти благосклонно, сосредоточившись на подавлении и удушении чешской культуры. Прага была обезглавлена, в Словакии тоталитарная реставрация 1968 года также урезала гражданские и личные права, но вместе с тем (из политического расчета, из веры в традиции панславизма и в пророссийские настроения среди словаков) увеличила политический вес местного элемента. Поэтому сегодня Словакия одновременно остается притесняемой и переживает исторический взлет, национальное пробуждение и рост собственного значения. Очарование прекрасной Праги после 1968 года — во многом очарование заброшенности и смерти; в Братиславе, несмотря ни на что, кипит жизнь и веселье, это живой, развивающийся организм, не тоскующий о былом, а растущий и глядящий в будущее.
3. Этот смутный объект желания
Хотя мы в Словакии, знаменитой своим вином, нас мучает вполне законное желание выпить пива (Чехословакия — один из лучших производителей пива в мире). Удовлетворить его так же трудно, как удовлетворить желание заняться любовью или поесть в знаменитом фильме Бунюэля. Хотя Амедео изнывает от жажды, настроен он миролюбиво, зато заводящийся с пол-оборота Джиджи начинает оправдывать свою страшную славу. И в самых известных заведениях, вроде «Вельки Франтишкани», и в заурядных кафе просьба принести пива ставит официантов в тупик. Как нам потом объяснили, не надо было просить просто «пива», надо было заказать «Пльзень» или «Будвайс», самые знаменитые сорта. В гостинице «Киев», типичном для Восточной Европы большом отеле, где шик соседствует с неприглядными и неоднозначными сторонами жизни, иностранцы могут заказать что угодно — от дорогих крепких алкогольных напитков до готовой составить компанию девушки (арабы из Кувейта проводят с девицами шумные ночи, смущая покой спящих за стенкой благопристойных соседей). Но даже в «Киеве» пиво остается химерой: как-то вечером портье тайком сует нам одну бутылку, да и то теплую.
Поглощенные все более нервными и суетливыми поисками пива, мы движемся через долины и реки, городки и холмы, от предгорий к высоким Татрам; тем временем путеводители, в которые мы то и дело заглядываем, продолжают страница за страницей расхваливать различные сорта пива, производящиеся в здешних местах, уточнять его крепость, давление, под которым оно хранится в бочке, оттенки цвета, тончайшие различия в образовании пены. Одни из нас высказывают предположение, что что-то нарушилось в механизме распределения пива, и принимаются рассуждать о социалистическом характере этого распределения, другие склонны рассматривать происходящее как словацкий заговор против типично чешского напитка. Войдя в трактир в Подбьеле, небольшой деревушке в Татрах, мы видим на столах пенящиеся бокалы, но, когда подходит наша очередь, пиво в бочке кончается. В Тренчине, неподалеку от величественного замка, наконец-то появляется официантка с кружками пива, но, не дойдя до нашего столика, поскальзывается, кружки летят на пол и разбиваются; следующие за этим продолжительные методичные действия (собрать осколки, подмести, вымыть и вытереть пол, убрать тряпки) откладывают исполнение нашего желания на неопределенное время.
4. Каждому свой час
На улице Гондова находится философский факультет Братиславского университета, названного в честь Яна Амоса Коменского, философа и педагога, чей труд «Orbis Sensualium Pictus» [6] в старинных четырехъязычных изданиях можно найти в библиотеке любого старинного словацкого города. Достоинство, которым веет от этих зданий, напоминает одного выдающегося персонажа, которому я обязан со школьной скамьи зарождением интереса к немецкой культуре и открытием дунайского мира. Он был учителем гимназии, а в молодости преподавал итальянский в похожих на братиславский центральноевропейских университетах — он описывал их атмосферу с выразительностью гениального актера-любителя. Назовем его Трани: в нем было нечто от расплывшегося Наполеона и нечто от шекспировского Шейлока; лицо с резкими чертами, которое никогда не было хорошо выбритым и вымытым, казалось непроницаемой маской великого актера — того, кому судьбой было предначертано играть во всемирном театре главные роли, стать выдающимся человеком и кого случай забросил в гимназию — преподавать ребятишкам немецкий.
У школьников и их родителей имелось немало веских причин жаловаться на Трани: у его жадной до жизни, театральной, скрытной личности было много темных сторон; отсутствие предрассудков вряд ли можно приветствовать, однако именно гению Трани мы обязаны многими прозрениями. Он не рассматривал нас как сидящих в партере зрителей, недостойных его таланта — таланта, который мог и обязан был проявиться в другом месте, а тщательно готовил для нас эффектные сцены, словно мы были зрителями «Комеди Франсэз» или членами Шведской академии, раздающими свидетельства вечной славы.
Он разговаривал с нами исключительно на немецком или на триестинском диалекте; объясняя нам, что такое поэзия, он читал стихи Данте о «сирене, мутящей рассудок моряков» [7]; объясняя, что, по его мнению, поэзией не является, читал стихи Кардуччи о дочери Титти, которая похожа на воробушка, но наряд ее не из перьев и питается она вовсе не семенами кипариса. По мнению Трани, лишь напрочь лишенный вкуса итальянский профессор мог упрекать дочь за то, что тратит на ее содержание жалкие гроши. Надобно соблюдать приличия, — прибавлял он, — разве можно себе представить, чтобы вы пришли к профессору Кардуччи, позвонили в дверь, и вам открыла его дочь, совершенно голая? Раньше надо было думать, — продолжал он на диалекте, — заводить детей вовсе не обязательно, но раз завел дочь — береги ее, заботься о ней, содержи ее. Однако сильнее всего он сердился, читая полные ностальгии слова, с которыми Кардуччи обращается к кипарисам и от которых ради удобства мгновенно открещивается: «О, я б всем сердцем желал остаться с вами… о, всем сердцем! Но, кипарисы милые, отпустите…» Кипя возмущением, Трани объяснял: «Магрис, я еду в Париж. Навестить твою бабушку? — О, спасибо, это было бы замечательно, бедная старушка так обрадуется. — Ну да, только, знаешь, я пробуду в Париже всего пару дней, нужно столько всего успеть, а она живет на окраине, три остановки на метро, потом еще на автобусе… — Да чтоб тебя, разве я тебя о чем-то просил?»
Он хотел научить нас презирать сладенькую пищу для сердца, фальшивую доброту, с которой из самых добрых побуждений тебе искренне обещают подарить моря и горы, упиваясь собственным великодушием, а потом, когда пора переходить к делу, берут свои слова обратно, приводя кучу веских и достойных причин. Он по-своему любил нас и хотел подготовить к встрече с безжалостной жизнью. «На завтра — выучить триста строк наизусть, — приказывал он, — кто не выучит, не получит хорошей оценки. Знаю, что это несправедливо, потому что за один день триста строк наизусть не выучишь, но жизнь несправедлива и требует невозможного, вот я и готовлю вас к тому, чтобы вы научились мириться с невозможным, чтобы оно не подкралось неожиданно и не сломило вас. Итак, завтра вам ходить».
Этому человеку, о котором бесконечно судачили родители, встречаясь в школьных коридорах, я обязан не только открытием миттель-европейской цивилизации, но и одним из самых необычных и великих уроков нравственности. Если слухи, что он вынуждал многих брать у него частные уроки, правдивы, значит, сам он не умел быть справедливым, однако он научил нас различать, что справедливо, а что нет, научил презирать зло. У нашего класса, как это нередко случается, была любимая жертва — толстый застенчивый мальчик, легко красневший и потевший, не умевший противостоять обидчикам и подвергавшийся ненамеренным, но оттого не менее отвратительным издевательствам, на которые способен каждый из нас, проявлениям жестокости, которая, если ее не сдерживать жесткими нормами внешнего и внутреннего закона, бессознательно обращается против слабейшего.
По отношению к нему никто из нас не был невиновен, однако никто не осознавал свою виновность. Однажды, когда Трани, театрально размахивая руками, объяснял нам спряжение сильных глаголов, паренек, который сидел за одной партой с толстяком и которого звали Сандрин, выхватил у соседа ручку и разломил пополам. У меня до сих пор стоит перед глазами пунцовое, покрывшееся потом лицо жертвы, его глаза, наполнившиеся слезами из-за унижения и понимания того, что он не сумеет дать отпор. Когда учитель спросил Сандрина, зачем он так поступил, тот ответил: «Я нервничал… а когда я нервничаю, я себя не контролирую… так уж я устроен, такой у меня характер». К нашему огромному удивлению (а также к радости нападавшего и к вящему унижению жертвы нападения), Трани ответил: «Понимаю, ты не мог иначе, такой у тебя характер, ты не виноват, такова жизнь», — и продолжил урок. Через четверть часа он стал жаловаться на духоту, распустил узел галстука, расстегнул жилет, начал с грохотом распахивать и закрывать окно, жаловаться, что нервы у него на пределе, а потом, словно в приступе гнева, принялся хватать ручки, карандаши и тетради Сандрина, ломать их, рвать, подбрасывать вверх, швырять на пол. В конце концов, делая вид, будто он успокоился, учитель обратился к Сандрину: «Прости меня, милый, у меня сдали нервы, так уж я устроен, такой у меня характер, ничего не поделаешь, такова жизнь…» — и продолжил объяснение сильных глаголов.
С тех пор я понял, что сила, ум, глупость, красота, подлость, слабость — жизненные ситуации и роли, с которыми рано или поздно столкнется каждый. Тому, кто злоупотребляет своим положением, ссылаясь на неисправимость жизни и собственного характера, через час или через год в силу действия тех же непреодолимых законов придется принять удар. То же самое происходит с народами, с их достоинствами, ошибками и расцветом. Вряд ли чиновник Третьего рейха, занятый окончательным решением еврейского вопроса, мог представить себе, что пройдет несколько лет, и евреи создадут мощное и обороноспособное государство. Братислава, полная жизни столица малого народа, который долгое время угнетали, наводит на подобные мысли, заставляет вспомнить давний урок справедливости.
5. Дунайское пролетарское воскресенье
Одна из самых известных книг Новомеского, увидевшая свет в 1927 году, называется «Воскресенье». Ладислав Новомеский с самого начала — с той поры, когда он был совсем юным и когда самобытность словацкого народа ставилась под сомнение, пытался разгадать, в чем эта самобытность заключается. Новомеский был поэтом-авангардистом и активным коммунистом, в его творчестве и политической деятельности неразрывно переплелись борьба за национальную культуру и интернационалистская перспектива, «тоска по Востоку» (которая, как он признается в одном стихотворении, у него в крови) и марксистская революция. Он верил, что, сражаясь за революцию, сражается за права всех угнетенных, а значит, и за права собственного народа, почти пролетарской нации; ненадежность границ Словакии, нередко превращавшая ее в жертву иностранных завоевателей, в его стихах символизирует мир без границ.
Впрочем, «меланхоличное дунайское шествие», как говорил о «Воскресенье» критик Штефан Крчмери, — не только выстроившиеся в ряд незаметные и печальные человеческие судьбы, которые воспел Новомеский, в этом шествии ощущается меланхолия, характерная для всей его поэзии, превращающая ее в великую поэзию и делающая ее важнейшей частью словацкой политики и культуры. Поначалу Новомеский примыкал к прóклятым, бунтующим поэтам, его творчество представляло собой симбиоз поэзии революции и революции поэзии; в нем присутствовало отрицание существования, пронизывающее весь европейский авангард и объясняющее, почему занятые общественной борьбой поэты переворачивали реальность с ног на голову, призыв к утопическому созданию новой действительности и нового человека, сбросившего цепи отчуждения.
Но если поначалу меланхоличность поэзии Новомеского была обусловлена ощущением бессмысленности поэзии в отчужденном мире, позднее, с наступлением реального социализма, на смену ему пришло ощущение собственной бесполезности в мире, которому требуется проза труда, а не поэзия революционных ожиданий, воплощенных в жизнь или опровергнутых новой системой (в зависимости от того, как к ней относиться). Еще печальнее повторять после свершившейся революции строки, написанные задолго до этого, в грустную минуту, в ожидании революции: «Этой поэзии-девочке / лик мира не изменить».
Новомеский никогда не впадал в уныние, даже когда в 1951 году его арестовали и осудили как «буржуазного националиста» и до 1956 года он просидел в тюрьме. За накрытым столом погребка «Клашторн», среди бочек, из которых цедят сладковатые ароматные вина, Шматлак долго рассказывает мне о Новомеском — не только символе поэзии, но и о символе недавней словацкой истории. Здесь в память врезался не 1968 год, год Пражской весны, а 1951 год — сталинские процессы 1950-х, когда были вырваны лучшие ростки коммунизма. На Западе коммунисты разглядели советский тоталитаризм лишь в 1956 году; процессы и казни начала 1950-х, еще более страшные из-за своей извращенной, бессмысленной природы, в то время мало кого взволновали.
Реабилитированный в 1963-м и завоевавший былой почет Новомеский (скончался он в 1976 году) не поднялся на защиту Пражской весны. Отдавать ему дань уважения сегодня означает отдавать дань уважения человеку, воплотившему преемственность коммунизма, нарушенную тем, что официально признано его кровавым сталинским извращением, но не нарушенную, а напротив, согласно жесткой официальной идеологии, восстановленную советским вмешательством в 1968 году. Новомеский символизирует поэзию, уходящую корнями в словацкую и интернациональную почву, антисталинскую и одновременно далекую от брожения 1968 года; его трагическая судьба парадоксальным образом предоставляет алиби конформизму и авторитаризму режима.
Создается впечатление (и это не просто впечатление, поскольку об этом обычно предпочитают умалчивать), что в Братиславе легче смирились с реставрацией режима, которую в 1968 году осуществили советские силы. Как писал в те месяцы Энцо Беттина, накануне Пражской весны Братислава играла роль ловкой фронды: ее отличало стремление к внутренней демократизации и одновременно сентиментальная и духовная близость с Россией. Формальные и реальные перемены, последовавшие за 1968 годом, способствовали повышению роли Словакии, дали ей повод испытывать гордость и удовлетворение по сравнению с пустыней, образовавшейся в чешской литературе и среди чехов.
Если чешская литература была отправлена в отставку и теперь продолжает жить среди изгнанников (оставшимся в Чехии приходится выбирать, кем стать — трутнем, паразитом или кафкианским зверем, копающим ходы под землей), словацкая литература обладает сегодня реальной жизненной силой, даже когда она заявляет о необходимости рождения нового эпоса и нового положительного взгляда на мир, склоняясь к сотрудничеству с властями и не составляя общественно-политической оппозиции. Безусловно, в критике Мнячко (уехавшего в Израиль писателя, чьи «Запоздалые репортажи», пользовавшиеся в 1960-е годы огромной популярностью, разоблачают сталинский террор) присутствует большая доля оппортунизма, однако повесть «Лихорадка», в которой Йозеф Кот критически описывает весну 1968 года, невозможно сравнить с подхалимскими панегириками, которыми в 1950-е годы отдельные представители чешской интеллигенции выразили согласие с уничтожением своих собратьев и товарищей по партии.
Положительная эпичность, столь характерная для современной словацкой литературы, неприемлема для западного поэтического мышления, однако она вполне соответствует нации, которая даже под тяжким гнетом бюрократической элиты сегодня больше, чем в прошлом, ощущает себя творцом собственной истории, а значит, находится в начальной, а не заключительной стадии развития. Мир изменился, хотя, скорее всего, заслуги поэзии Новомеского в этом нет.
6. Придорожные кладбища
В одном из стихотворений Новомеский описывает словацкое кладбище. Во многих горных деревнях кладбища не огораживают или ограду трудно заметить, открытые кладбища расстилаются среди луговой травы, тянутся вдоль дорог (например, в Матьяшовце, недалеко от польской границы) или предваряют въезд в деревню, словно палисадник перед входом в дом. Подобная эпическая близость со смертью (характерная и для мусульманских могил в Боснии, которые нередко находятся прямо в огороде, в то время как у нас о смерти с нарастающим невротическим напряжением пытаются вовсе не думать) вытекает из стремления к справедливости, выражает отношения между отдельным человеком и поколениями людей, землей, природой, составляющими ее элементами, законом, обуславливающим соединение этих элементов и их распад.
В окнах древениц, стоящих неподалеку от кладбищ, виднеются широкие спокойные лица, похожие на крепкое дерево, из которого сложены эти дома. Не ведающие печали кладбища помогают понять, насколько обманчив и суеверен страх перед смертью. Кладбища предваряют повседневную жизнь и находятся рядом с ней, а не где-то в отдалении — возможно, и нам нужно научиться иначе смотреть на смерть. Как сказано в стихах Милана Руфуса, «Смерть пугает, когда она стоит перед тобой. / Когда она позади, / все внезапно становится прекрасно-невинным. / Карнавальная маска, в которую / после полуночи набираешь воду, / чтобы напиться или, если вспотел, обмыться».
7. В Татрах
В лиловом свете изумительного заката Высокие Татры высятся черной громадой, от них веет великой тайной гор. Амедео и Джиджи беседуют об игре света, о его преломлении, о том, как наше зрение воспринимает удаленные предметы. Все мы точно знаем, что сегодняшний лилово-голубой вечер где-то, каким-то образом будет существовать вечно, в Гиперурании [8] или в мыслях Бога, подобно платонической, вечной и неизменной идее вечера. Кажется, будто эти очертания, этот свет, это сияние материально содержат в себе проживаемые нами дни, их тайну, словно волшебные предметы из сказок: потрешь их — и появится спрятанный внутри джинн.
Мы едем по темному лесу, фары внезапно освещают указатель, сообщающий, что в двух километрах отсюда находится Матляри. В тамошнем санатории Кафка провел несколько месяцев между декабрем 1920-го и августом 1921 года; когда фары дальнего света выхватывают указатель из мрака, я вспоминаю фотографию, на которой Кафка запечатлен вместе с другими людьми на фоне матлярского леса: Кафка робко и почти счастливо улыбается. Фотография, увековеченная на ней густая, полная загадок листва, лес, которым мы едем, напоминают унесенные ветром тончайшие стены; жизнь, мгновение которой остановила фотография, навеки исчезла. Даже творения Кафки не способны до конца раскрыть нам ее секрет, ведь они написаны на бумаге, и, хотя бумага крепче и правдивей, ей все равно далеко до исчезающего существования и до тени леса, в котором мы оказались.
На отдых в Татры, например в Татранску Ломницу, в городки, чей блеск и лоск под стать туристам bellе époque, сегодня в основном приезжают жители Чехословакии и Восточной Германии. В элегантности здешних заведений есть что-то неправдоподобное и кричащее, как и во всех местах, оживающих в туристический сезон, там, где этот сезон вытеснил и отменил жизнь, которой жили прежде, ее ритмы. Вычурная, выставленная напоказ пошлость празднует победу, когда приезжаешь сюда не только и не столько для того, чтобы насладиться тихими или запретными удовольствиями, сколько для того, чтобы совершить подобающий положению в обществе ритуал. Либертин, снисходительно уступающий своим склонностям, безусловно, нетривиален, но либертин, снисходительно уступающий своим склонностям и думающий при этом не столько о том, чтобы получить удовольствие, сколько о том, чтобы совершить общественно и культурно значимый поступок, превращающий его в существо высшего порядка, исключительно вульгарен.
Элита, выполняющая свою общественно-политическую функцию (правящая до сих пор аристократия или находящаяся у власти военная каста), может быть ненавистной или преступной, но ее не назовешь грубой или снобистской, потому что она выполняет настоящую, сверхличностную задачу, значение которой больше, чем значение каждого члена элиты. Знаменитые туристы, создавшие каприйский миф, нередко отмечены стигматами пошлости, поскольку составляют серую толпу эксцентриков, не представляющих никого и в то же время уверенных в том, что они кого-то представляют благодаря своим предсказуемым причудам и показной утонченности. Так что мы без особого сожаления уходим из ресторана большой гостиницы в Татрах, хотя ужин был вполне сносным и наконец-то (благодаря международному обществу) нам удалось выпить вкусного пива.
8. Магазин букинистической книги, жизнь и закон
В послевоенные годы букинистические магазины в Чехословакии были настоящей сокровищницей для тех, кого интересовало все немецкое. Семьи, приехавшие некогда из Германии и веками жившие в Чехословакии, высылали, проявляя глупость и несправедливость, которой пытались ответить на преступления нацизма, а на самом деле обедняя собственную страну, лишая ее важнейшей составной части. Этнические немцы уезжали и распродавали домашние библиотеки: в букинистических магазинах можно было рукой притронуться к уничтожению немецкой культуры в Чехословакии. С тех пор прошло много лет, следы трагического исхода почти стерлись, тех книг уже не найти. Зато в руки нам попались переплетенные тома «Lecture illustrée» [9] — увлекательного французского журнала конца столетия и два тома на латыни — «Ethica catholica (Generalis и Specialis)» [10] — доктора Йозефа Качника, профессора богословского факультета университета моравского города Ольмюца, изданные в Оломоуце (то есть Ольмюце) в 1910 году.
В одном из номеров «Lecture illustrée» исследователь физиогномики описывает рот Клео де Мерод, великой актрисы и любовницы: «Я видел рот мадам де Мерод, когда ей было пятнадцать лет, — широкий, жадный, любопытный, — и вижу его сегодня. Это совсем другой рот. Он сжался, закрылся, сузился, как рот пресытившегося, удовлетворенного человека, которому нечему больше учиться. В очертаниях этого чувственного и прекрасного рта ощущается утомленность и первые признаки усталости. А еще печаль». Учебник доктора Качника — настоящий научный труд, автор которого, не претендуя на оригинальность и преследуя исключительно цель изложить учение Церкви, перечисляет все людские поступки, связанные с ними вопросы и правила, которым полагается следовать; он описывает и классифицирует свободу и необходимость действия, порядок и природу человеческих и религиозных законов, обязанности и исключения, отступления и правовые обычаи, обстоятельства и страсти, объясняет различия между разнообразными грехами и добродетелями, рассматривает виды адюльтера и феноменологию пьянства, нравственные и общественные ценности, препятствия, смягчающие и отягчающие обстоятельства, призраки, смущающие сознание, и коварный самообман, с помощью которого сознание пытается обвести себя вокруг пальца.
Одна глава, отличающаяся невероятной психологической глубиной и риторическим мастерством, посвящена «зажатой» и терзаемой угрызениями совести душе, невротическому, сбившемуся с пути больному сознанию тех, кто одержим идеей греха и видит его повсюду, тем, кто с маниакальным упорством исповедуется разным исповедникам, никому из них полностью не доверяя, не избавляясь от мнительности, и, испытывая мучительное наслаждение от собственной тревоги и собственного высокомерия, окончательно запутывается в пустом морализаторстве, пытается разобраться в том, что дозволено, а что нет, постоянно меняя свое мнение.
Чтящий логику автор трактата, отличающийся смешным педантизмом и наивной клерикальной ограниченностью, проявил редкую проницательность, поняв, что одержимость «зажатого» сознания, которую Церковь рассматривает как зло и как грех, — болезнь, dispositio mentis (расположение ума), обусловленная corporis constitutione (телесной конституцией), склонностью к меланхолии и органическими дисфункциями. Депрессия, сопровождающаяся угрызениями совести, — следствие какого-то nevrorum atque cerebri mala affectio (скверного состояния нервов и рассудка), нарушающего психологическую целостность индивидуума. Постоянные угрызения совести не имеют ни малейшего отношения к морали, они обусловлены смесью упрямого высокомерия, не желающего поверить в собственную безгрешность, и невротической тревожности. Подобные люди «безо всякой причины боятся согрешить как до, так и после действия, видят грех там, где его нет и в помине, бессмысленно терзают себя по самым незначительным поводам и, даже когда их уверяют в том, что некое действие дозволено, упорно продолжают сомневаться в его дозволенности».
Как отмечает автор трактата, робкие юноши и девушки по неведению могут испытывать волнение в связи с сомнениями, касающимися шестой заповеди, однако правильное воспитание легко избавит от этого. Автор призывает исповедников проявлять терпение с людьми, постоянно терзаемыми угрызениями совести, и в то же время не быть снисходительными к их фобиям, а, наоборот, внушать им уверенность, которой им так не хватает, не позволять увлечься навязчивыми, доставляющими удовольствие комплексами вины, подробно рассказывать на исповеди обо всех причудах, маниях и предполагаемых грехах, особенно si de turpibus agitur (если они вызывают стыд). Наряду с прочими средствами, он советует таким людям избегать общества других невротиков (никаких conversatio com scrupolantibus, бесед с тревожными людьми), но главное — преодолеть страх общества и любовь к одиночеству, представляющие собой ложные признаки глубины и духовного избранничества; он призывает чаще беседовать с людьми, чаще бывать в обществе — как хорошо знал еще гётевский Мефистофель, только так человек способен обрести самого себя.
Французский язык знатока физиогномики и облаченная в мантию латынь богослова кажутся противоположными, хотя и в равной степени полными очарования и мудрости способами понять жизнь и пройти по ней. Историю, которую физиогном прочел, разглядывая рот прекрасный актрисы, можно понять интуитивно, но нельзя объяснить; это история жизни, невольно и неосознанно движущейся к меланхолии, повинуясь демону, который твердо руководит этой жизнью, скрываясь за едва заметными жестами, улыбками и уступками, за последовательностью маленьких, легких шагов, каждый их которых кажется совсем незначительным, но которые в сумме прочерчивают непреклонную траекторию судьбы. В подобных случаях жизнь протекает и на темной глубине, и на поверхности, где трудно что-либо различить; кажется, будто все происходит само собой, ты ничего не выбираешь, ничего не способен объяснить. Знаток нравственного богословия не позволяет себе быть очарованным или смущенным непрозрачным потоком жизни, нечеткой тенью, противоречивым шепотом состояний души; ему хочется пролить свет, установить законы, закрепить универсальность понятий.
Куда труднее встать на сторону жизни, а не на сторону закона, на сторону изменчивого, спонтанного творчества, а не подчиненного строгой симметрии кодекса. Впрочем, в дантовских терцинах больше поэзии, чем в чем-то расплывчатом и бесформенном. Способность к нравственному творчеству — это способность искать законы и свободно их устанавливать; лишь умение навести порядок в потоке жизненных противоречий отдает должное этим противоречиям, которые высокомерно подменяются, когда в них, в их колеблющейся неопределенности видят высшую истину существования, когда, забыв о заветах Марка Аврелия, их принимают за продукт деятельности ума.
Когда путают друг с другом и рассматривают как нечто равнозначное всякий жест и всякое действие во имя философии «такова жизнь», воспользоваться которой мой учитель Трани не позволил моему однокласснику Сандрину, рассудок затуманивается, жизненное начало, увязнув во лжи, наполняется печалью. Смысл и строгость закона не подавляют страсть, а придают ей силу и реальность. Кто знает, если бы Клео де Мерод изучила латынь и прочла труд Качника, возможно, на ее прекрасные уста не легла бы грустная тень, ведь главное, чему учил теолог из Ольмюца, — не поддаваться софизмам и слабостям indoles melancholica, меланхоличной натуры…
Примечания
↑1. «Венгерская фармакопея» (лат.).
↑2. «Перечень лекарственных средств Позониума» (лат.); Позониум — латинское название Братиславы.
↑3. «Народа словацкого слезы, вздохи и желания» (лат.).
↑4. «О стремлении к драгоценному миру» (лат.).
↑5. «В тени твоих крыльев» (лат.).
↑6. «Мир чувственных вещей в картинках» (лат.).
↑7. Данте Алигьери. «Божественная комедия» (Чистилище. Песнь XIX). Перевод М. Лозинского.
↑8. Мир идей в философии Платона.
↑9. «Иллюстрированное чтение» (фр.).
↑10. «Католическая этика (общая и частная)» (лат.).
Источник: Магрис К. Дунай / Пер. с итал. А. Ямпольской. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016. С. 335–366.




Комментарии