«Диаспоральный терроризм»: репортаж Вероники Пехе
Мемориальная лекция Зигмунда Баумана в Венском музее 8 апреля 2015 года — т.н. «лекции Яна Паточки»
 3 831
3 831 «Близость чужаков питает террор» — таково начальное утверждение лекции Зигмунта Баумана, дважды лично выбравшего ссылку: в 1939 году он бежал в СССР от наступления германских войск, а в 1968 году покинул Польшу из-за разразившейся антисемитской кампании. «Диаспоральный террор», к которому он обратился в своей лекции, проявляется в отдельных терактах, когда террористы вдруг чувствуют себя «на нужном месте, но не подходящими к месту». Легкодоступность оружия и интерес медиа к терактам сливаются, по Бауману, в едином искушении для террориста: войти великим злодеянием в историю (лекция состоялась всего через несколько месяцев после атаки на офисы французского сатирического журнала Charlie Hebdo). Эти террористические акты, тем не менее, говорит Бауман, — часть разделяемого нами всеми риска жизни в модерных обществах.
Странный вид террора
«Близость чужаков» проистекает из самой логики диаспоризации: группы людей переселяются в новые для них страны, но не отказываются от своей изначальной идентичности. Это новация современного мира, в отличие от издревле существовавшей эмиграции. Традиционно мигранты стремились к интеграции в принимающее их сообщество, тогда как сегодня, настаивает Бауман, их особо не принуждают отказываться от собственной идентичности, что подпитывает новые виды террора.
Не желающий ассимилироваться чужак, по Бауману, являет собой неудобную и амбивалентную категорию между привычными полярностями «дружбы» и «вражды». Чужаки вызывают чувство неопределенности, как только вторгаются в «сидячие общества», вроде тех, что мы и наблюдаем в современной Европе. В ходе двухдневных дебатов в Republikanischer Club, после его лекции в Венском музее, Бауман отметил, что «неопределенность» резко усиливается из-за фрагментации времени, когда мы воспринимаем нашу жизнь как «эпизоды», — Бауман назвал это «пуантилистским временем» — и не можем поэтому разглядеть контуров будущего. Но фрагментация времени мешает рефлексии, которая, сказал Бауман, не может быть «кофе мгновенного приготовления», — наоборот, она требует времени, которое похищает у нас современный стиль жизни.
Современность и начинает производить «людей без места», которые не вписываются в сообщество и не ценят благополучно устроенную жизнь. По словам Баумана, мигранты — «ходячая дистопия», несущая террор «в самую сердцевину» нашей жизни, напоминая, что и наше положение ненадежно. Мы чувствуем себя и политически бессильными, и фрустрированными повседневностью. Бауман все время употреблял свою знаменитую метафору, уподобляя современное состояние (modern condition) «самолету без пилота, пытающемуся сесть в аэропорту, все еще находящемся на реконструкции».
Более того, указывает Бауман, отличие современной молодежи, впервые со времен Первой мировой войны, в том, что молодые поколения уже не могут достичь стандарта жизни, доступного их родителям. Класс, более не способный воспроизводить себя, перестает существовать как класс — и становится «категорией», в данном случае категорией прекариата. По Бауману, страхи неопределенного будущего, внедряемые общим состоянием «ненадежности», фокусируются в фигуре мигранта или чужака. Потому столь расхожей становится антииммигрантская риторика: мигранты ходят перед нами как живое воплощение наших страхов. Что происходит с ними, то может произойти и с нами.
Оптимальное решение для времен неопределенности
Мультикультурализм представлялся некогда одним из возможных ответов на вызовы диаспоризации. Но, по Бауману, это не более чем косметическая мера: люди для вида вовлечены в иные культуры (например, восхищаясь национальными кухнями), но в реальности не вступают в глубинный диалог с Другим. Бауман считает закрытые сообщества (gated communities) характерными для такой ситуации. Но закрытые сообщества не гарантируют безопасности, а только усиливают опасность террора: ведь люди утрачивают способность иметь дело с обладателями других взглядов или иного бэкграунда, чем их собственный. Подобные механизмы дистанцирования, возможно, могут дать временную передышку, но не перспективные решения. Кроме того, существует неприятный побочный эффект дистанцирования: нации, еще недавно приверженные общеевропейскому проекту, теперь увлекаются, по Бауману, «примитивной демагогией» антииммигрантского национализма. В Republikanischer Club Бауман подобным же образом раскритиковал концепт «толерантности» как «декларацию равнодушия»: толерантность позволяет людям разных культур жить бок о бок друг с другом, не испытывая какого бы то ни было взаимного интереса. Бауман стоит за развитие «толерантности» в сторону нового этапа — «солидарности».
Решение, предложенное Бауманом как «оптимальное», — не ново, но необходимо. Мы нуждаемся в серьезном вовлеченном диалоге. Бауман привел пример Папы Франциска, давшего первое интервью в качестве Папы открыто антиклерикальному изданию. Только воля к сотрудничеству позволит хоть отчасти справиться с диаспоральным террором. Состояние мультикультурности, в котором мы живем, может оказаться плодородной почвой для такого диалога. Вместе с мигрантами, от которых никто не ждет интеграции в принимающие их сообщества, мы тогда участвуем в сложной динамике развития: новоприбывшие и местное население не делятся на «дающих» и «берущих», но вовлечены во взаимодействие. К такому взаимодействию наши общества пока не готовы. Перспектива постоянного соседства с другим, отличным от тебя, одновременно учительство и ученичество по отношению к нему, несет в себе риск признания собственной неправоты. Но только пойдя на этот риск, мы победим террор чужака, который может проснуться в нас.
Подготовка текста — Вероника Пехе, аспирант Университетского колледжа Лондона
Источник: IWMpost. No. 116. Fall/Winter 2015.
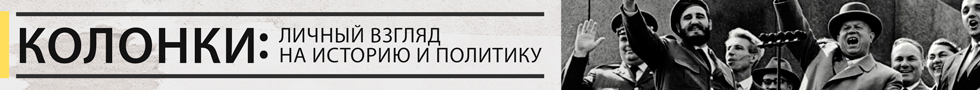


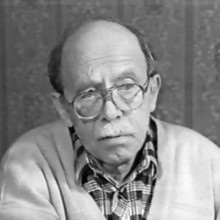
Комментарии