Глеб Павловский
Тренировка по истории
В книге собраны беседы Михаила Гефтера с Глебом Павловским. М., 2004.
 25 432
25 432 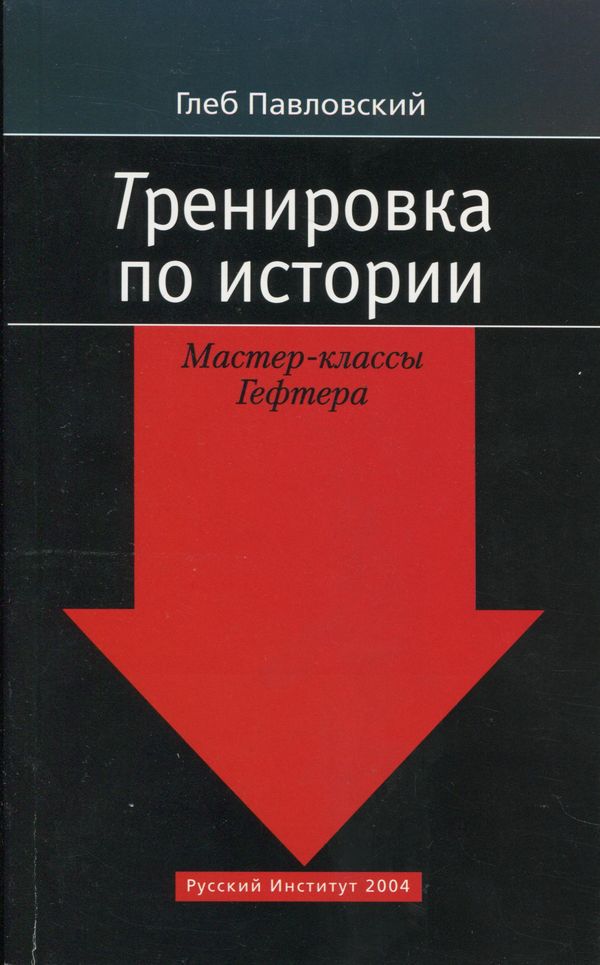
Однажды в Империи
— Знаешь, я тут приготовился, и прежде чем выслушаю твой вопрос, хочу выставить свой эпиграф к нашему будущему разговору, из письма Грановского осенью 1844 года: «Надеюсь, что известие об «Отечественных записках» не подтвердится (в смысле закрытия), иначе придется сложить руки и ждать XXII столетия, потому что ранее этого срока на Руси едва ли что будет». Грановский приготовился ждать XXII столетия! Мы, летом 1985-го, на это не рассчитываем.
— Почти дождались, можно сказать.
— Да, дождались. Исходя из постулата, что у нас нет этой оптимистической перспективы…
— И, живя в те именно времена, о которых «мечтали лучшие люди России», мы просто не можем…
— …Да, не вправе позволить себе сложить руки, несмотря на то что «Отечественные записки», заметь, все так же закрыты. В свете этого, дорогой мой, слушаю твои вопросы.
— Их целая серия. Вот первый: русская культура — не бессмысленное ли слово, не обманный ли термин? У меня стойкое ощущение липы в этом понятии. Где она вообще, русская национальная культура? То есть она, то нет; явится, как Бог из машины, наломает дров, а потом исчезает с поверхности, не становясь образующим фактором.
Между тем большинство пишущих на тему русской истории признают проявление в ней каких-то метаусловий, какого-то механизма, управляющего логикой событий. Если этот механизм — «культурная традиция», как говорят обычно, то почему она не укоренена в образе повседневной жизни?
Как отдельный и, видимо, частный случай этого вопроса — можно ли, изобличив всевозможные сталинские злодейства, вернуться к добрым досталинским временам?.. Нельзя, ясное дело. Но и альтернатива неминуема. Так вот — не имеет ли сам злодей, Иосиф Виссарионович, некоего отношения и к альтернативе тоже? Не является ли безумие русской истории XX века результатом прививки альтернативы в качестве противоядия ей же — и тогда нельзя снять блокаду противоальтернативности, не проводя некоторой интеллектуальной «ресталинизации», что ли? Как еще мы вернем в ткань истории все ее спорные фигуры, не сознаваясь в своей к ним близости?
Кстати, разве историческое самосознание не сопоставимо по функции с совестью? Где способность нашего ума осознавать себя заново, внутри заново понятой истории? Или ее импульс рассеялся навсегда и русской истории нам впредь уже не дано?
— Такие вот маленькие, невинные, бесхитростные, частные вопросики — и на них дай тебе внятный ответ… Итак, русская культура — не обманный ли термин? По-моему, уместный вопрос. В нем, конечно, есть доля наглости, но и та уместна. Вот если бы этот вопрос был эпатирующим, мы бы его отредактировали, сделав более солидным, более академичным — с какого времени можно говорить о русской культуре и в каком смысле, какие внутренние изменения она претерпевала, оставаясь русской или переставая на время ею быть, становясь снова или оказываясь к этому неспособной. Так выглядело бы солиднее и, может быть, даже вразумительнее, но при этом потерялся бы задор твоего вопроса — а не говорим ли мы о том, чего нет?
Говоря «русская культура», мы разумеем для себя некие вещи. Первая — очевиднейшая, но не перестающая от этого быть существенной: это культура людей, говорящих на русском языке и думающих на нем. Весь процесс мысли в России сугубо небезразличен к русскому языку, к его духовным возможностям и к его невозможностям, небезразличен к его непонятийности, его склонности самые метафизические вещи внутренне сближать, вдвигая их друг в друга.
Для нас безразлично, от родителей какого вероисповедания и «пятого пункта» родились люди, которые думают, живут, изъясняются с Миром в пределах русского языка. Очень важное свойство — его напряженная образность, которая нарастает по мере приближения человека к сокровеннейшим и фундаментальным вопросам.
Значит, когда мы говорим, что русская культура — культура людей, думающих на этом языке и, видимо, не способных на другом языке передать свое внутреннее содержание, свои тревоги, свои вопрошания, мы уже ставим перед собой серьезную задачу. Мы обязуемся втянуть в рассмотрение вопроса склад, строй этого языка, нашу расположенность к тому, чтобы жить внутри него, — и потерю самих себя при выходе из языка, что также удостоверено рядом громких примеров.
Так — с какого-то времени; и я думаю, с этого только времени можно говорить о русской культуре; эта культура, не со всеми в стране разговаривая, вместе с тем говорит именно с Россией — говоря с Миром внутри нее.
— Чем это отличается от всякой другой? Разве грузинская, французская культуры не «говорят с Миром» по-своему?
— Грузинская культура, поскольку она — грузинская, принадлежит общине, и каждый грузин себя ощущает принадлежащим к ней. Она не то чтобы в паре с этносом, но во всяком случае связей с ним не утрачивает. Для культурного грузина застолья, законы родства или другие бытовые, обыденные формы этой культуры, ритуальные и обрядовые, — столь же близки, как традиции философской рефлексии. Не будучи шовинистом, грузин ощущает свою культуру нормально противопоставленной другим культурам. Это, в общем, применимо ко всем малым и средним народам, отмеченным историческими превратностями судьбы, не позабывшим, как им доводилось в буквальнейшем смысле отстаивать свое существование. Народы, пережившие геноцид, всегда готовятся к его вероятному возврату — и готовы сопротивляться.
— Для культуры «было» значит «будет».
— Да, именно так. Как-то раз в доме отдыха у меня зашел разговор с журналистом-грузином о царице Тамаре и каком-то ее полководце, о национальности которого у армян есть особое мнение — отчего грузины ожесточенно, веками отстаивают его грузинскую чистоту. Он понарассказал массу анекдотического: оказывается, на эту тему выходят какие-то исторические романы, из-за романов идет яростная полемика партийных журналов Армении и Грузии, — я ему и говорю: вы молодой человек — что вам до национальностей времен царицы Тамары?
Тут мой грузин затрясся от ярости! И ответил мне, как отбрил: если и это у нас отнимут, у нас не останется ничего! Для них прошлое аксиоматично. Они — община, в общине все достояние их, она и есть они сами. Это ощущение внутренней противопоставленности — как двери, захлопнутые перед носом у чужака, но двери могут распахнуться, и тогда конница этноса вырывается наружу, сама топча чужаков.
— С этой точки зрения — что такое русская культура по отношению к тем историческим судьбам, в пределах которых она возникла, существовала и которые до известной степени сама формировала?
— Вот пример, который можно отметить исходным пунктом, этакой беспокойной точкой. Для формирования французской нации, конечно, сугубо небезразлична фигура Генриха IV, нашего с тобой любимца. Но насколько эта фигура злободневна для культурного француза? Возможны ли на этой почве сегодня во Франции серьезные политические распри, схватки, разрывы отношений?
— Король Генрих с его «курицей в супе» — фигура довольно недискуссионная.
— Да, но потому, что она истинно прошлая. Она — с тем, что совершилось и уже не может заново и заново возобновляться как вечная ситуация самой этой культуры, тем более политики. А ведь Генрих Наваррский — трагическая и серьезная для французской и вообще для европейской истории фигура. Он перешагнул через дикую религиозную вражду к национальному сплочению — можно сказать, он один из основоположников исторического компромисса.
А у нас начнут спорить о Грозном — и рассорятся, разойдутся с чувством, что друг другу враги! Я видел, как из-за царя Ивана люди рвали старинную дружбу, хватались за валидол! И сегодня какой-нибудь человек, отнюдь не умалишенный, может прилюдно и даже по телевизору звать всех вернуться ко временам до Петра! Почему? Это надо объяснить. Очень серьезный вопрос! Он происходит оттого, что есть какие-то провалы в памяти, с одной стороны, и запретные зоны, с другой; неполнота и официозность отношения здесь создают дополнительно скверный фон. Казалось бы, столького не знаем, столько скрытого — зато давно всем известное страшно задевает. Больное какое-то чувство, чувство неприложимого прошлого.
— Но почему сознание так боится собственной предыстории?
— Нет бытовой середины. Мы страна без признанно своей середины!.. Срединность как национальная норма увязана со спокойным восприятием истории и нормальным ее забыванием. Прошлое изучают в школах, и оно не кажется столь уж актуальным.




Комментарии