Глеб Павловский
Гефтер и Россия — от пространства экспансии к пространству отсутствия
Империя пустоты — вызов созидательной воле: гефтеровские идеи в толковании Глеба Павловского.
 3 910
3 910 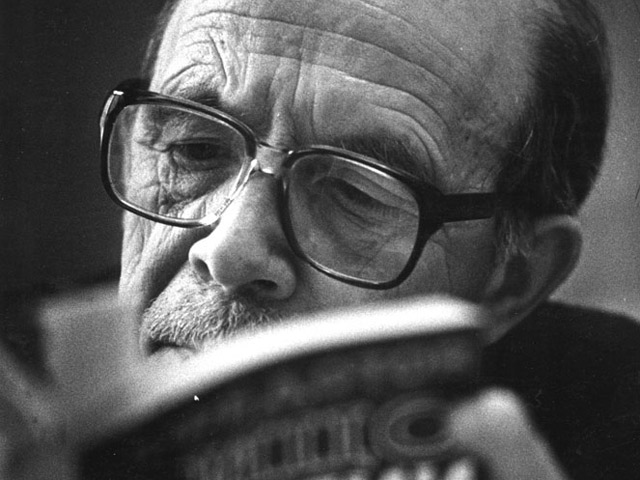
Выступление на круглом столе «Российское “пространство экспансии” — от крымчанина Гефтера к ревизии европейской идентичности России» на конференции «Пути России» (Московская высшая школа социальных и экономических наук, 22 марта 2014 года).
Тема второго гефтеровского круглого стола конференции «Пути России» была несколько нарочито актуализирована — все всё равно стали бы говорить о крымском кризисе. Этот текст был мной наговорен предварительно, как вступительное сообщение, но с реально прозвучавшим не вполне совпадает. Выступления Леонида Бляхера и Ирины Чечель предлагают, на мой взгляд, полезный контекст этому тексту.
1.
Гефтер родился в Крыму, трепетно относился к мультиэтничному организму полуострова и не был согласен с его украинизацией после 1954 года. «Украиной не пахло в Крыму», — вспоминал он свое довоенное детство. Но Гефтер чужд и всем видам «пророссийской» сентиментальности.
Гефтер рассматривал российскую власть как циклы размена времени на пространство. С его точки зрения, самодержавие и сталинизм отнимают у гражданина суверенное право на будущее, творя полое пространство власти. Гражданин вынуждается считать модернистское — отсталым и вражеским, архаические практики — актуальными для безопасности. Но в этом пространстве и сама власть уже не может сохраниться русской. Она цивилизационно запустевает.
Логика русской внезапности — маятник власти, раскачивающийся между временем и пространством. То это взмах в будущее, как в революцию или при первом явлении Путина в Кремль — время, вперед! — то взлет останавливается и откатывается к пространственным фантазиям. Вторая фаза обычно сопровождается унификаторской политикой и потому деструктивна для национального развития. Эта Россия назначает правила для самой себя. Она играет с историей, она уничтожает репутации в рамках сообществ и общества, она лишает идентичности свои территории, как Сталин это делал с Восточной Европой. Парадокс: чтобы изолироваться, создать автаркичность и самодостаточность, надо создать очаги нестабильности вовне. Далее те проникают внутрь, становятся poison pills для новой государственности и в конце концов ее разрушают (как Польша в теле Империи, как Прибалтика в теле СССР).
Пространство экспансии по Гефтеру — это встречное освоение мест предыдущей — неудавшейся или истощившей себя экспансии. Здесь действуют практики экстраполяции внутренних проблем власти вовне. Внутри них даже территориальное приращение свидетельствует не о силе власти, а о нехватке легальных средств работы с внутренними проблемами, ее слабости. Демонстрируя силу, но не обладая ею, российская власть втягивает в воронку своей слабости и граждан, и внешний мир.
2.
Нация потому и нация, что в катастрофах, в борьбе или в революции нашла свою грань, баланс между пространством и временем. Нация — это новая интимность в истории, если угодно, словами Ирины Чечель, свойствó. Нация предполагает минимум свойствá между соседствующими по стране, даже если они политические враги. Нация ограничила себя и знает, где она есть, а где ее нет. Россия не знает, где ее нет. Она не может найти себе границу.
Вражда в России — больше, чем вражда. Она учредитель государственности. Обращают внимание на «иррациональность» нашего поиска врага. Но дело в том, что вражда функциональна: она заменяет границу, через которую определяется Россия.
Поиск Россией своей границы постоянно упирается во врага и периодически опрокидывается в интенсивнейший поиск врага. А поиск врага здесь не бывает чисто внешним. Взять Сталина: Сталин же не визионер, он хорошо знал Германию. Вот он, реальный, страшный враг, совсем рядом. Но Сталин ищет фейк-«фашистов» не там, где те живут, а дома, в Красной армии.
Сегодня мы переживаем, к несчастью для себя, момент нового превращения, толчка русского маятника из времени в пространство.
По Гефтеру, это драматургия и трагедия власти, которая и является этим маятником. Потому что тут она расстается со временем. На наших глазах эта власть прощается с будущим, а тем самым и с прошлым. «Наш корабль ко дну идет», — говорил Мандельштам.
Я считаю, что речь в каком-то смысле идет уже об исчерпании России двух веков. Потому что русский маятник раскачки время-пространства имеет свою динамику. И это не динамика прогресса, а динамика усугубления. Каждый взмах уводит все далее в глубину. Когда исчерпывается возможность политики времени, в данном случае — политики прогресса, политики просвещения — исчерпывается нечто большее, чем просто постсоветская политика. Возникает необъятная пустота.
Казалось бы, раз исчерпался советский узус, ну так обратимся к имперскому, самое время. И видим, что мы не можем к нему обратиться. Мы не можем выстроить позицию на русской классике — и там уже пустота. Как говорил Мандельштам, здесь провал сильнее наших сил. «И от нас природа отступила, будто мы ей больше не нужны…»
Ступенек нет, мы хотим отступить — а ступенька пропала. Когда диссидент отступал, у него еще была опорная ступенька в идеализме легального государства и пускай «ленинские нормы», но под ленинскими нормами понималась русская республиканская традиция. Но теперь — нет, русская республиканская традиция покинула Россию, как умер ницшеанский бог.
Мы не империя зла, не потемкинский «мордор», как малюют испуганные. Мы империя пустоты. Это более сильный новый вызов, культурный, человеческий и политический. Может быть, даже в первую очередь политический вызов. Вызов к строительству, вызов к созидательной воле.
3.
Сталинская послевоенная программа была — превратить невероятный момент Победы, Stalin’s moment, можно сказать, которым Сталин мог остаться в веках, момент невероятных возможностей, во всего лишь территориальное завоевание. Так Сталин разменял первородство времени на чечевичную похлебку земель.
К тому же отравленную похлебку. В ней оказались Прибалтика, Польша и другие лишние приобретения. СССР после Сталина пытается организоваться в пространстве, и не получается. И вот обратный взмах — апокалиптический момент, революция Горбачева, где в Россию снова вторгается время. Время вторгается актуальностью истории и будущего. Будущее — здесь, оно прямо сейчас. Мы уже в мессианском времени. Россия опять творит смысл мирового развития. Очень недолго, но это было.
Далее время перерождается в обманный концепт процесса реформ. Теперь мы в процессе реформ, мы во времени, которое называется «процесс реформ» под руководством «президента реформ». Внутри его зарождается субъект Команды. Команда — несомненные прогрессисты, либералы, сторонники всего передового. Команда — за прогресс, но при условии, что мы в любой момент можем пойти в другую сторону. Это входит в ее понятие прогресса.
Да, мы на пути передовых наций, паровоз наш летит вперед. Но в любой момент мы вправе а) дернуть стоп-кран, чтоб сойти выпить пивасика; б) пока все несутся вперед, мы можем по-хитрому сойти и перевести стрелки на другой путь.
Возникает субъект манипуляций, и это не только манипуляции. Субъект абсолютной воли к нарушению, для использования времени в своих целях. Зачем? — Для держания власти. А держание власти в России — это что? Это держание пространства.
Здесь уже внутри возникает новая готовность к размену времени на пространство. Потому что как удержать власть — в 90-х годах это конкретно, как — через выборы, как еще. А что такое выборы? Это организация пространства. Выборы могут быть в демократическом государстве или государстве реального транзита, которое рассматривает себя как реально переходное, т.е. знает, куда переходит.
Но здесь выборы становятся чем-то другим. Выборы являются миссией героя, как в блокбастере, спасением Семьи. А для спасения Семьи нужно сохранить власть. То есть выборы приобретают иное значение. Не создаваемая выборами когорта, коалиция, не выбираемое, а именно сами выборы становятся способом разметки и управления пространством. И все соскальзывает сюда, заменив и отменив строительство государства.
Путин завершает этот тренд. Поначалу он пытался вернуться во время, вернуться к «Время, вперед». И если бы это вышло, он бы сам с удовольствием пошел вперед. Он был готов.
Но готов ли он был внутренне? Готовы ли его ограничения, готова ли его команда? Готовы ли тогдашние кремлевские либералы? Нет, потому что мы все уже немножко наполовину манипуляторы и нам соблазнительно сохранить тренд держания.
Поначалу это чистый прогрессизм. Я бы даже сказал, что арест Ходорковского — это еще прогрессизм, расчистка пути для рывка в будущее. Даже Кудрину и Чубайсу это нравилось, Дерипаска был внутренне за. Все видели это как сбрасывание балласта.
4.
Но оставим сейчас детали. Сегодня мы присутствуем при моменте, когда человек решил, что он необходим для любого будущего развития. Он необходим для России, без него самой России не будет. Здесь он мыслит почти как Сталин: вокруг ничтожества, которые ни на что не способны. Они продадут и сдадут Россию, поэтому все надо успеть сделать при своей жизни — сейчас, немедленно.
А следующий ход тот, что раз без него России нет, то и будущее после него не существует. И будущее перестает иметь значение. Раз нет России после Путина, то для России времени больше нет. И опять необходимо в радикальной форме рвануть стоп-кран, разменяв время на пространство.
Тут для Путина исчезает мир как факт. Ведь начиная с Петра время вторгалось в Россию как императив мира. Что такое петровское «время, вперед»? — Это стать как мир, присоединиться к миру. Что такое ленинское «время, вперед»? — Это стать человечеством — здесь, сейчас и немедленно, Россия становится мировой прямо здесь, сейчас. Неважно даже, сколько от нее осталось в кольце фронтов.
Но тут обратный ход. А обратный ход потребует многого. Он требует, во-первых, пространственных подтверждений правоты (и здесь Крым играет важную роль). Крым, конечно, всего лишь повод. Он точка зажигания, стартер. Крым — подтверждение правоты концепции.
Второе: Крым — апробация маневренности. Глядите, какой резкий разворот, раз — а система не рассыпается! Более того, она консолидируется. А ведь твердили, что это невозможно, караул! Те же самые люди, которые сегодня кричат «На Крым!», месяц тому назад кричали, что Путин сломает шею.
Но есть еще фактор мира. Месяц назад твои портреты печатали в «Тайме», ты влиятельный человек в мире, и что дальше? Как это конвертировать, во что? Ты № 1 в мире, а тебя серьезные дяди советоваться о серьезных финансовых вещах не зовут. Но сегодня все столпились вокруг Кремля и туда стучатся. То есть мир у твоих ног! Поэтому анекдотичны мысли, будто какие-то санкции здесь могут что-либо значить. В каком-то смысле Путин даже нетерпеливо ждал их и отчасти хотел, чтобы были санкции. Санкции должны бодрить.
5.
Здесь возникает новая, в каком-то смысле «вечная Россия». Что я твердил все нулевые годы? Я говорил, что Путин должен построить неуязвимую, несокрушимую Россию. Я не знал, как это дальше расшифровать — что такое неуязвимая, несокрушимая Россия, она в каком материале выполнена? Она где находится — во времени или в пространстве?
У меня была такая мысль, что далее воздвигнутое тело страны должно не бояться перемен, подобных 1917 и 1991 годам. Но как не бояться времени, когда время не консолидирует никак, не склеивает? Нет у страны никакой формы, ведь у Системы институтов нет. И мы продолжали жить без институтов и приветствовали тандем, — Карл Шмитт сказал бы, что тандем — крайний акт государственного нигилизма. Вместо институтов — личный союз! Как на картине Каспара Давида Фридриха, двое друзей глядят на закат — это что, институт? Это не государственный институт.
И вот, перед вами несокрушимая Россия! Несокрушимая Россия — это Россия, ставшая единственным центром для самой себя. Миром, все критерии которого находятся внутри нее. Она несокрушима… пока не испарится при неизвестных обстоятельствах.
Но тогда русская и мировая история здесь — частная подробность. Неважна на самом деле и вся игра с единым учебником истории. Можно отложить учебник на год и завтра переписать: Крым надо еще включить в новой роли и Украину в роли демона русской истории. Никакой Киевской Рады, конечно, не было. Вся наша история — про то, как Украина пыталась разрушить Россию руками крымских татар и ей не удалось.
То есть история подверстывается к пространству. До сих пор история и в советском узусе была генератором России. Но все, история больше не генератор России. Теперь русская история — это служебный аксессуар пространства РФ. Она геральдична — как атрибут, держава или скипетр.
Именно здесь наметилась страшная глубина отката. Какое может быть теперь просвещение? Какое просвещенчество — светом Запада, оксидентализмом? С 90-х годов иссякла просвещенческая парадигма, но сохранялся еще дискурс просвещенческий, сохранялись некоторые просвещенческие табу. Вот простой пример: прежде ты не мог назначить министром культуры человека, который демонстративно некультурен, который бравирует этим, кем бы ни был он про себя на самом деле.
А что такое в русском дискурсе «некультурен»? Это значит — непросвещен. Груб, примитивен, вульгарен. Пошл. Такого нельзя назначить министром культуры, даже в деспотии. В СССР смеялись над Фурцевой. Но ведь там министерство культуры было вторично. Институт редакторов толстых журналов, ССП или Большой театр были куда более важны, чем министерство культуры. В сущности, Минкульт — это обслуживающая структура в Советском Союзе.
А теперь можно. Ведь вместе с просвещением уходит государственная цивилизаторская программа. Государство перестает нести ответственность за педагогику национального возрастания, культурного возрастания нации. Вот как Путин схватился за бережение нации. Но бережение он понимает как демографический рост плюс занятия спортом. Чтобы живых тел было больше и тела были крепенькие. Болванчики, плодящиеся в пустоте.
6.
Итак, я думаю, мы подошли к моменту внезапно возникающей России. Здесь, с одной стороны, возникает гефтеровское пространство отсутствия, которое назревало уже давно. Отсутствие инфраструктуры общества, например, такой как СМИ, медиа. Медиа были искорежены и искривлены собственниками еще с 90-х, но сейчас их просто нет как гражданского института.
Пространство отсутствия агоры, дискурсивного публичного поля. Его нет. И социальные сети здесь играют важную усугубляющуюся роль. Сети создают иллюзию, что такое поле есть. То есть они подстрекают к болтовне, к тому, что у Макиавелли называется словоблудием. Он имел в виду, конечно, Италию. Но его Италия очень похожа на нас. С одной стороны, там все ликуют, гордятся великим римским прошлым. С другой стороны, ведут себя как шваль, хуже римского плебса.
И мы переходим от просветительских институтов к пространству отсутствия репутации, это очень важно. Репутации начали трагически истощаться с 1993 года, дальше процесс ускорялся, пока те просто не перестали существовать. Сегодня возвысить свой голос протеста может почти любой. Сокуров дал интервью, Гребенщиков что-то сказал против. Что-то антивоенное сказал Шевчук. При этом не возникает того, что в советское время было каким-то моральным фронтом — когда репутации разного уровня, разной силы собираются в ясную каждому линию, говоря: нет, этого просто не должно быть, я такого не позволю! Это нелегитимно в рамках русской культуры, ее норм. «Пушкин с Толстым не велят!» Сегодня так можно сказать, но это уже только личный, частный жест.
А чем заполняется пространство отсутствия репутации? Я не хочу предрешать, чем оно будет заполняться. Зато новую актуальность приобретает пространство экспансии.
7.
Гефтер много говорил об обреченности экспансии Сталина. Обреченность попытки Сталина состояла в логике его размена времени на пространство. Для того чтобы выстроить пространство триумфа, ему надо было советизировать, т.е. лишить идентичности, Восточную Европу. И даже Китай!
Сталин сам закладывает мину, когда пытается превратить Югославию в подобие одной из советских республик. А это просто невозможно. И сейчас то же самое. Оказывается, что для того, чтобы превратить Россию в самодостаточное пространство, необходимо создать кризис с риском войны в Европе. Парадокс — чтобы изолироваться, чтобы создать консервативную самодостаточность, надо, оказывается, нахулиганить! Взорвать взрыв-пакет посреди Европы. Хорош консерватор, какой уж тут «консерватизм».
Мы ставим ультиматум не кому-нибудь, даже не Америке, — мы ставим ультиматум глобализации, на которой целиком стоит наша экономика. Мы говорим: или ты будешь, стерва, обслуживать нашу команду, или пошла к черту! Разумеется, это в любом случае приведет к непредвиденным последствиям.
Вот будущий надлом проекта. Надлом, который может кончиться вообще чем угодно. Он выводит в тему возможного Холокоста 2.0. Русским грозит участь превратиться в «евреев второй глобализации», разделив судьбу тех, первых. Непосредственно же это означает, конечно, ломку пространства. То есть реорганизация России в государство, которое остановило время, которое пытается утрамбовать прогресс внутри себя в виде управляемых структур, реально претендуя на остановку глобализации.
Вот чем Россия внезапна. Консервативность России в том, что она внезапна. И, конечно, Путин, начиная утрамбовывать Россию в пространство, уперся в то, что она мировое тело. И теперь ему надо остановить или придержать маятник.
Но маятник подвешен вне России. Согласно Гефтеру, маятник подвешен в Мире. В неспособности мира иначе организоваться предсказуемым способом. Ни в виде мировой империи, ни в виде кондоминиума Холодной войны двух сверхдержав, ни сейчас в виде многополярного мира. Вот в чем проблема Путина! И, производя манипуляции над маятником в России, мы влияем абсолютно непредвиденным образом на глобальные процессы. Что начнет проявляться.
У Путина для этого нет другого языка, чем школьная геополитика. Здесь надо сказать, что Гефтер недаром не любил геополитики, и как языка, и как склонности. Он ее упоминал всегда уничижительно, в отрицательном плане. Он говорил, что в 1945 году великая возможность нового открытого мира была пожрана чудовищем геополитики. Причем пожрана с двух сторон, Сталиным и Даллесом.
Геополитика Путина вообще не язык для происходящего. А Путин-то верит, что язык. Язык, позволяющий описывать не внутренние дела, а наружные как борьбу и баланс сил, интересы и так далее. Но все это Путиным не прилагается к России. Внутри страны он не ищет баланса сил, внутри он не видит особых интересов, внутри страны он не готов договариваться, обменивать интересы на интересы и выстраивать какую-то конфигурацию интересов. Внутри России для его языка Мира нет как реальности. Но тогда нет и реальной России.
Нет единого политического языка, единого политического дискурса. Внешняя идентичность в языке отделена от внутренней. Здесь гигантская проблема, в которой мы находимся: мы без языка зашли в поле, где без языка никак.
С языком старой геополитики лезут в язык новой глобальности, который не знают, а та сама по себе не так уж проста и понятна. Мало кто ее понимает вполне. Это все равно, что лететь бомбить врага без навигационных приборов, но с бомбами, уже заведенными на время взрыва.
8.
Проблема в том, что необходимо выйти из логики маятникового процесса, понимая, что мы уже там. И здесь силы такой величины, с которыми и при очень хорошей, развитой политике нелегко справиться. А ее нет. Мы можем влиять на происходящее, но не можем его отменить.
Зато мы можем отказаться от фейковой болтовни, от словоблудия. Словоблудие осталось единственным, я бы даже сказал, интегральным итогом кончившейся эпохи. От всей эпохи прогресса, модернизации, либерализма остался шлак словоблудия, размазанный по социальным сетям. Репутации высмеяны столь многократно, даже теми, кому они сегодня как раз были бы нужны, что уже не вернуть уничтоженное.
Да, мы в государстве-цивилизации, откуда Цивилизация ушла, и видно, что и государства нет. Центральная программа, в которую вложилась русская цивилизация, — просветительски-государственническая, имперско-либеральная программа империи свободы XIX–XX веков — истощилась по всем без исключения азимутам. От нее остались старые книги, да. Но это мертвый язык. Пушкин для РФ — это Овидий. Мы государство, опустелое цивилизационно.
История кончилась, и осталась чернь. На месте надрывной и истощившейся, уставшей от самой себя русской истории остались разные виды черни — жалкой и человечной, местами симпатичной, мечущейся без языка впотьмах. Вот те, кому Путин предлагает бережение народа. Живущие, припав к телевизору, который также управляется чернью, но другой — обдуманной, намеренной, изощренной. Готовой сжечь и страну, и планету.
И вопрос сегодня в том, каким образом в цивилизацию-государство вернуть его собственную цивилизацию? Это предполагает массу вопросов — политических, культурных и других.
В каком-то смысле патриотизм остается единственным выходом. Патриотизм должен стать языком, на котором можно будет разговаривать, или мы все останемся без «патрии». Кто бы как бы ее ни представлял.
Конечно, есть и «патриотизм как прибежище негодяев». Конечно, есть патриотизм как платежная ведомость. Но сегодня — вопрос о воссоздании Patria. В такой ситуации нельзя обратиться за помощью к миру, для которого мы стали угрозой, ведь наш язык не дает обсуждать ограничение рисков. Мы не можем сказать ни туркам, ни бразильцам: «Крепитесь, терпите нас. У нас Пушкин, вы обязаны нас терпеть — почитайте Достоевского». Нет-с, это сказать уже нельзя.
Должна возникнуть постпросвещенческая, постмодернизационная патриотическая рецивилизаторская программа России. Которая должна будет — миру! — ответить на вопрос, где же именно русская граница России.
Надо признаться в наших свойствах и дать им политическое и конституционное оформление. Да, мы и дальше будем часто химичить. Мы будем верткими, но не будем доблестными. Мы бываем доблестны лишь тогда, когда к нам вторгся враг. А пока враг не вторгся — мы не доблестны. Значит, надо поощрять в себе доблесть. Но нельзя в расчете на несуществующую, лишь вероятную доблесть писать Конституцию. Сегодня Конституция РФ 1993 года написана для доблестного народа, которого не стало задолго до 1993 года. Нет, Конституция должна писаться для такого, как есть, а не для доблестного.
В этом тоже актуальность Гефтера в текущий момент.
Читать также

Непубличные мегапроекты
Отсутствие публичности в России обернулось кризисом публичности на постсоветском пространстве — а в России исчез язык социального и экономического выбора.

В ответ на реплику Леонида Бляхера
Из выступления на круглом столе интернет-журнала «Гефтер», проходившем в рамках конференции «Пути России» (Московская высшая школа социальных и экономических наук, 22 марта 2014 года).





Комментарии